Текст книги "Андрей Вознесенский"
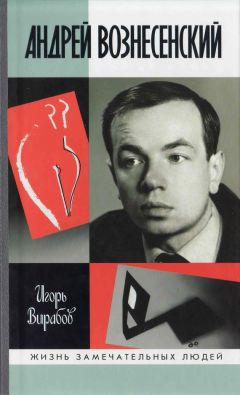
Автор книги: Игорь Вирабов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Бывает у людей ощущение – будто время вокруг них тухлое. А в студенческие годы Вознесенского была такая умственная эпидемия – на дворе Эпоха! В лохмотьях ярлыков и амнистий, обманчивая, счастливая – аж жуть. Все чавкало, хлюпало и летело – в самую оттепель.
Про оттепель, бывало, сочиняли разное. Но принято считать, что Федор Тютчев, тот самый, который всем советовал: «молчи, скрывайся и таи», – вот именно он первым произнес слово «оттепель» в общественном смысле. В феврале (2 марта по новому стилю) 1855 года Николай I умер – а уже 8 апреля Иван Аксаков написал отцу, Сергею Аксакову: «Вот вам слово Ф. Тютчева о современном положении: он называет его оттепелью… Вообще положение какое-то странное, все в недоумении, никто не прочен, никто не знает настоящего пути, которым хочет идти правительство». И Вера Сергеевна, дочь Аксакова, тогда же, 10 апреля, записала в дневнике: «Все чувствуют, что делается как-то легче в отношении духа… Тютчев Ф. И. прекрасно назвал настоящее время оттепелью. Именно так. Но что последует за оттепелью?»
Теперь же, сотню лет спустя, теплое это название – «Оттепель» – запетляло от повести Ильи Эренбурга, вышедшей в 1954‑м, в майском номере журнала «Знамя». Забавные вопросы обсуждали в повести герои. Есть ли у честного агронома моральное право – влюбиться в кокетку, ветреницу, да еще и жену приятеля? В чем тут духовный интерес? Раз умен и талантлив – значит, можешь заняться интимом, забыв про идейные рамки?
Нехитро вроде бы, наивно – талант и «право», любовь и «лево». А читателей вдруг пробрало, за живое задело. Эпохе хотелось простых земных радостей, хотелось бесстрашно оттаять. Мерещилось всякое.
В эти самые времена дипломнику Вознесенскому, вспомнившему, какие в их «Мастерских на Трубной» в начале века размещались веселые заведения, вдруг привидится:
Я взираю, онемев,
на лекало –
мне районный монумент
кажет
ноженьку
лукаво!
Вернемся наконец в пятьдесят первый год. Вознесенский поступает в Архитектурный, главный экзамен по рисунку. Рядом с ним крепыш Саша Рабинович, они познакомились на подготовительных курсах, – тот не прошел в прошлом году, учился в Строительном, рисовал «крепче» и много советовал. Но… «Каковы были мое удивление и стыд, когда в списках прошедших экзамен я увидел свое имя и не увидел его. Причина была, конечно, в его фамилии».
Их пути еще будут пересекаться – то у Хуциева в «Заставе Ильича», то в квартирке на 2‑й Фрунзенской, где узким кругом отметят свадьбу Высоцкого с Мариной Влади. Саша к тому времени станет известным кинорежиссером Александром Миттой (пришлось взять фамилию родственника матери). В том, что когда-то не приняли в МАРХИ Рабиновича, не было вины юного Вознесенского, грехи эпохи не его вина, что он Гекубе, что ему Гекуба, – но он стыдился.
Факт, конечно, мимолетный и незначительный. Но, если вдуматься, может, не умел бы стыдиться, – не оказался бы в первом ряду русской поэзии? Нет, не сразу, конечно, пока-то он просто студент. Смешной такой, тоненький, губы выпячены, хохолок. Художник Борис Мессерер, учившийся в том же МАРХИ курсом старше, вот никак не мог совместить два образа: вихрастого мальчишки, которого встречал в институте, и автора стихов, которые к концу их студенчества стали понемногу, все чаще и чаще звучать кругом.
В 1955‑м целых полгода в Музее им. Пушкина представляли шедевры Дрезденской галереи – прежде чем вернуть их в ГДР. Рембрандт, Кранах, Вермеер. «Блудный сын», «Тайная вечеря». «Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей», – напишет Вознесенский. И тут же, заметив любимицу широких масс, «Сикстинскую Мадонну»: «Никогда, наверное, „Мадонна“ не видела такой толпы. „Сикстинка“ соперничала с масскультурой. Вместе с нею прелестная „Шоколадница“ с подносиком, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. „Пьяный силён!“ – восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки. Под картиной было написано: „Пьяный Силен“».
Странное время для архитектуры. Ошарашенные студенты осваивали флорентийский Ренессанс, слагая дивные «коровники в амурах, райкомы в рококо». Автозавод студента Вознесенского смахивал на палаццо Питти. В компрессорном цехе было нечто от капеллы Пицци.
Недобрым словом поминая ионики – архитектурный микроэлемент яйцеобразной формы ионического и коринфского стиля, – на чертеже карниза нужно было уместить три тысячи этих «каторжных, лукавых яичек», – не забудет Вознесенский и доцента Хрипунова, который проверял эти ионики, ища оплошности злорадно.
И тут пора вспомнить про Наташу Головину. Трудившемуся над головой Давида в рисовальном зале однокурснику Наташа Головина, как величайшую ценность, подарит репродукцию фрагмента микеланджеловской «Ночи». Фото много лет провисит у него под стеклом в родительской квартире. Потом он повесит в своей мастерской ее отчаянный карандашный рисунок, «густой вызывавший стыд». Молитвенное и земное вечно будет сшибаться, высекая искры, в его стихах и подробностях жизни.
К Микеланджело Вознесенский будет возвращаться не раз. Молотки создателей Василия Блаженного из «Мастеров», первой поэмы Вознесенского, «стучали в такт сердечной мышце» великого итальянца, писавшего в том же 1550 году свои сонеты. Взявшись годы спустя за их перевод, он объяснит: «…мое юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратясь в строки переводимых мною стихов».
Имя однокурсницы внезапно всплывет из подтекста, когда Вознесенский, завороженный красной церковью Григория Неокесарийского при Полянке, напомнит печальную историю Андрея Савинова – духовника Алексея Михайловича, обвенчавшего царя с Натальей Кирилловной Нарышкиной. С Савиновым потом расправились, умер он в далекой ссылке. Храм чаровал поэта и этой историей, озаренной земными соблазнами, и сочными именами мастеров-строителей – Карпа Губы, Ивана Кузнечика, Семена Полубеса. И складывались строчки – про Нарышкину? про Головину? про ту и другую, и какую-то третью? Смыслы, как и имена, вечно наплывают у Вознесенского один на другой:
Я понял тайну зодчего,
Портрет его нахальный,
И, опустивши очи,
Шепчу тебе: «Наталья…»
А в XXI веке, уже на склоне лет, он напишет «Памяти Наташи Головиной». «Дружили как в кавалерии. / Врагов посылали на… / Учила меня акварелить / Наташа Головина».
Про смыв кистей и слив страстей. «Когда мы в Никольском-Урюпине / обнимались под сериал, / доцент Хрипунов, похрюкивая, / хрусть томную потирал».
И отчаянное на прощание: «Была ты скуласта, банзаиста. / Я гол и тощ, как горбыль. / Любил ли тебя? Не знаю. / Оказывается – любил. / Мы были с тобою в паре. / Потом я пошел один».
Но это аж полвека спустя. А пока еще хрюкает доцент Хрипунов, еще моются кисти, еще смотрит со стены «Ночь»…
Друг, не пой мне песню о СталинеОднажды студента Вознесенского исключали из комсомола. Он, редактор курсовой стенгазеты, написал статью о художнике Матиссе – импрессионистов тогда как раз выставили в Музее им. Пушкина. Как это было – вспоминает поэт:
«„О Матиссе?!“ – кричал возмущенный прибывший в институт секретарь райкома.
По правде сказать, преступление мое было не только в импрессионистах. Посреди всей газеты сверкал золотой трубач, и из его трубы вылетали ноты: „До-ре-ми-до-ре-до!“ Именно так отвечали надоевшим слушателям джазисты той поры – „А иди ты на…!“
В группе у нас был фронтовик Валера, который играл на баяне. Чистый, наивный, заикаясь от контузии, он пришел в партком и расшифровал значение наших нот. Он считал, что партия должна знать это изречение. И кроме этого в газете было достаточно грехов.
А когда членам партии прочитали письмо, разоблачающее Сталина, Валера вышел бледный и, заикаясь, прошептал нам, беспартийным: „Я Его Имя на пушке танка написал, а он блядью оказался…“».
Сталин умер 5 марта 1953 года. Центр Москвы был перекрыт, с шестого по девятое прощались с генералиссимусом страны. Студентам Архитектурного выдали пропуска – иначе в институт, расположенный в центре, не попасть. Девятнадцатилетний Вознесенский с однокурсниками пробирался по крышам, на Пушкинской спрыгивали в толпу, шли вместе со всеми – прощаться.
«Внутри Колонного зала меня поразило обилие знамен, венков, мундиров. Среди них совсем незаметно лежало сухонькое тело. Топорща усы, он лежал на спинке, подобно жуку, скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков – „притворяшка-вор“, который прикидывается умершим, а потом – как прыгнет!»
Еще студентом Вознесенский, пытаясь что-то понять, напишет ясные, горькие строки: «Не надо околичностей, / не надо чушь молоть. / Мы – дети культа личности, / мы кровь его и плоть»… «Мы не подозревали, / какая шла игра»… «Мы – сброшенные листья, / мы музыка оков. / Мы мужество амнистий / и сорванных замков»…
Чуть позже – «Друг, не пой мне песню про Сталина», где «торжественно над страною, / словно птица хищной красы, / плыли с красною бахромою / государственные усы».
Уже после института появятся те самые «Немые в магазине», которые всех возмутят то крамолой и дерзостью, то (изменилась конъюнктура), напротив, чрезмерной лояльностью к основам государства. «Кассирша, осклабясь, / косилась на солнце / и ленинский абрис / искала в полсотне. / Но не было Ленина. / Всё было фальшью… / Была бакалея. / В ней люди и фарши».
Тогда ведь Ленин был анти-Сталиным, объяснит Вознесенский, когда в иные времена его станут пытать: отчего не откажется от таких своих строк? «Тогда это было искренне и шло с небес. Вот этот ритм, который там есть, и все это… Поэт должен разделять иллюзии своего народа. Здесь я шел за Пастернаком. Он встретился у гроба Ленина с Мандельштамом. Оба пришли туда не для того, чтобы плюнуть в него, а чтобы проститься…»
Пастернаку нравились его стихи «Мы дети культа личности». И отношение Бориса Леонидовича и к «проклятому прошлому», и к оттепели пятидесятых было далеко не простым. Да, Вознесенский слышал от него: «Раньше нами правил безумец и убийца, а теперь – дурак и свинья».
Но просто переклеить ярлыки с одного на другого – не дойдешь до сути. Пастернак мог позволить себе обратиться к «жестокому и страшному Сталину» лично. К Хрущеву – ни за что. Однажды уговорили – Пастернак письмо ему написал, но так и не отправил. Как общаться с тем, чье историческое высказывание озвучил глава КГБ Семичастный: «Даже свинья не гадит там, где ест, в отличие от Пастернака»?
Написал лишь завотделом культуры ЦК Поликарпову, тому самому, которому Сталин сказал знаменитое: «В настоящий момент у меня нет для тебя других писателей: хочешь работать, – работай с этими».
Из письма Пастернака 16 января 1959 года Д. А. Поликарпову: «…страшный и жестокий Сталин не считал ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но, разумеется, куда же им всем против нынешней возвышенности и блеска… Повторяю, писать могу только Вам, потому что полон уважения только к Вам и выше оно не распространяется».
Знал про это и Вознесенский: границы в отношениях поэта с властью жизнь будет смещать не раз, и эти уроки Пастернака ему еще пригодятся.
Между пожарамиПридет время, и «Пожар в Архитектурном» аукнется Вознесенскому развязным фельетоном в журнале «Звезда» (1961. № 1) – «Лженерончик». Автор – Н. Назаренко. Печатали его, думая, что это смешно, потому что остроумно. Читать его теперь смешно, потому что глупость невероятная. У каждой эпохи – своя глупость.
«…В учебном заведении, где он считался студентом, возник пожар. Что сделал Лженерончик? Тушить бросился? Ничуть не бывало. Он схватил арфу, стал в позу и радостно запел. Он любовался „краснозадой гориллой“ не вполне бескорыстно. А, между прочим, в надежде, что она сожрет его плохие отметки.
– На фоне пожара моя неповторимая личность выглядит особенно оригинально. Даже вроде философа выглядит. „Айда в кино!“ И расхлябанной походкой двинулся в сторону ближайшего кинотеатра».
С Вознесенским-поэтом всегда будет так. Любили – до безумия. Ненавидели – истерически. А Вознесенский еще напишет и про другие пожары. Жизнь пролетит – от пожара к пожару.
Век начался пожарами влюбленного Маяковского – «Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца».
Пожар середины века – «в Архитектурном» – полыхал надеждами.
Пожар «Конца столетия» Вознесенского – болью: «Что нами срублено на шару, / Расщеплено в дрова вражды, / К нам возвращается пожарами / – Воды! ‹…› / Сгорайте, осы Персефоны, / Не пролетев и полпути! / Не лето – Лета пересохла. / Другой России не найти».
Ау, где ты, Кариночка Красильникова, красная юбочка, – ой, горим!
Глава вторая
Магическая буковка
Я оставила Вас с Цветаевой наединеМосква пестрела умонастроениями. Коммуналки, подворотни и целые ведомства размывало акварелями свежих чувств.
В 1955‑м министра Георгия Александрова, руководившего советской культурой лишь год, сняли за излишнюю пылкость к актрисам и балеринам. Следом на всякий случай сменили верхушку Большого театра: шуры-муры, амуры, психеи. Не помогло.
В это самое время в чеканную партийную печать прокралось зыбкое словечко «искренность». Понятие, конечно, туманное, легко употребимое в любых мистификациях любых времен, – но звучало, казалось, ново и даже чувственно.
Через год, в пятьдесят шестом, Хрущеву придется разоблачить бесчувственного Сталина. Потом пособников, также бесчувственных. В столице тут же по рукам пойдут куплеты «блаженного» поэта Николая Глазкова, придумавшего слово «самиздат»: «И все-таки велик наш Сталин, / Чудесный подвиг им свершен. / Ему я очень благодарен. / За что? За то, что умер он!»
Поэтическую чувственность скоро станут внушать и машинам – реабилитированные кибернетики немедленно заставят их писать стихи. В пятьдесят седьмом авторы научно-популярной книги «Быстрее мысли» (Н. Кобринский и В. Пекелис) проиллюстрируют способности машины выданными ею строками: «Ночь кажется чернее кошки черной, / Но очертания луны / уже начали плавиться в небесах». Много лет спустя выяснится, что стихи на самом деле перевел с английского некий математик, приятель авторов. Но критики всерьез обсуждали плюсы и минусы машинной поэзии – «черная кошка» пробежит еще в дискуссии о физиках и лириках.
Пора бы, впрочем, вернуться в МАРХИ. Чем в этой атмосфере сложной чувственной сгущенки занят студент Вознесенский? Акварелью. Учитель, Владимир Георгиевич Бехтеев, следит из-за спины, «как на ватмане расплывается „по-сырому“ мастерски составленный им натюрморт из ананасов, апельсинов и синего с золотом фарфора: „Гармонию не забывайте! Если в левом углу у вас синий, то он должен быть компонентом во всем. Синий вкрапливайте. Не забывайте гамму“».
Бехтеев мало того что бывший царский офицер (увел жену у полкового командира, заметит мимолетно поэт), так еще и как художник – импрессионист. Это, впрочем, не мешало студенту Вознесенскому оценить поэтично воспетые Бехтеевым в акварелях «грациозные смычковые ноги скаковых лошадей и шеи красавиц». Но и это не главное, что заставляло Андрея Андреевича тепло вспоминать об учителе.
Бехтеев познакомил юного студента с Еленой Ефимовной Тагер, давней знакомой Марины Ивановны Цветаевой. Когда-то, в первой же беседе с Андрюшей, Пастернак «обратил» ученика к Цветаевой, вспомнив ее «Версты» в одном ряду с «Пеплом» Андрея Белого. Книг Цветаевой было не найти, их и не издавали, а бережливая Елена Ефимовна хранила множество цветаевских рукописей.
Много лет спустя, году в семидесятом, Тагер вспомнит их первую встречу в письме Вознесенскому:
«Дорогой Андрюша!
Это было давно, очень давно, еще на моей той квартире, на Кисельном. Лет 17 тому назад.
Вы, знавший поэзию Пастернака, совсем не знали Цветаевой. Пришли ко мне за ней.
В маленькой нашей комнатке на громадный отцовский стол я положила все, что у меня было Цветаевой… Было всего много, и „После России“, и поэмы – много.
Я Вас оставила с ней наедине. При себе с Вами не было даже карандаша, Вы ничего не списали. Но Вы постигли ее… За тем же огромным столом, в той комнатушке – у нас работала Марина. И однажды оставила тетрадь… Боже, какая тетрадь! Поиски рифм столбцами. Со заметами, сколько сделано: „мизерно, ушло“… И еще заметы о том, что делает поэт. Не смею приводить по памяти. Если приведется, дам Вам посмотреть.
Сейчас, уезжая (я в „Сенеже“, доме творчества художников), передала на хранение в архив Ленинской библиотеки рукописи Цветаевой и Пастернака».
А вот что запомнилось Вознесенскому:
«Меня помещали в закуток комнатки, отгороженный занавескою. Там я проводил заповедные часы. Переписывать, а тем более уносить домой не разрешалось. Так я впервые прочел и затвердил наизусть „Поэму Горы“ и „Крысолов“.
Это была не машинопись, а страницы, заполненные мелким четким цветаевским почерком, – буковки стояли прямо, без наклона вправо, плотные, как нитка черного жемчуга, и каждая, как жемчужина, стояла отдельно.
Магически мерцали крохотные „ц“…»
Разве мог не заметить Андрей Андреевич, как платье слетало у Цветаевой с плеч: «задумалась, загляделась, а оно – скользнуло и вот – кружком как пес у моих ног: жизнь». Скользнуло, как листки календаря, череда мимолетностей, осень, сменившая лето. Разве мог не вспомнить тут же пастернаковское: «Ты также сбрасываешь платье, / Как роща сбрасывает листья»?
Кроме рукописей, вспомнит Вознесенский, у Тагер были еще бусы Цветаевой… Вероятно, вспомнит, потому что с бусами Цветаевой связаны разные были-небыли. Были бусы, подаренные ею Софии Парнок. Были бусы, о которых рассказал в своей книге «Лиля Брик. Жизнь» Василий Катанян:
«В свое время… Лиля подарила крупные коралловые бусы Елене Тагер. Когда Марина Ивановна Цветаева увидела их, она стала просить Тагер отдать эти бусы ей, уж очень понравились. Каждый раз, как встречала ее, так и просила. „Я не могу, – отвечала та, – мне их подарила Лиля Юрьевна“. – „Так попросите ее, чтобы она разрешила вам отдать эти бусы мне!“ Та, помявшись, спросила Лилю. И Лиля, несколько обескураженная, что ее подарок хотят передарить, все же разрешила, учитывая, что кораллы будет носить Цветаева, которой этого так хочется. Тагер отдала их Марине Ивановне, а та на следующий же день… их продала! „Ну, не может быть!“ – „Как так не может быть, когда Тагер сама, каясь, сказала об этом Лиле. И очень на Марину похоже“. И как реагировала Лиля? Она сказала: „Бедная! Представляю, как она нуждалась“».
Есть еще история, которую рассказывала знакомым Тагер, – связана она с Пастернаком и Цветаевой. Однажды звонит ей Борис Леонидович. Говорит, что в Москву из эмиграции вернулась Марина Ивановна, позвала его приехать. Он было собрался, но встретил вдруг Каверина с писателем, имя которого Тагер забыла, – и те говорят, чтобы Пастернак ни в коем случае не ехал, это опасно. И он не поехал. Тагер назвала это «трусостью», высказала все Пастернаку по телефону, а потом опомнилась и стала корить себя: вдруг это в самом деле опасно – видеться с Цветаевой? Вдруг с Пастернаком из-за этого случится что-нибудь ужасное, и она всегда будет чувствовать себя виноватой?
Ну не странно ли: так вдруг волноваться о великом Пастернаке, – а великая Цветаева что же? Все-таки первая реакция Елены Ефимовны кажется естественнее. Но судить-рядить, глядя сквозь пуленепробиваемую толщу времени, – легко, понять труднее. Да, у Елены Тагер могли быть причины в сердцах наброситься на Бориса Пастернака, а потом изводиться переживаниями. Но тут всё закручено улиткой.
«Обязательно приходите. Очень прошу помочь» – это из записочки Марины Цветаевой мужу Елены Ефимовны, Евгению Тагеру. Они познакомились в декабре 1939‑го в Доме творчества в Голицыне. Тагер был молод, темноглаз. Цветаевой уже за сорок. Он – ординарный литературовед. Она – уже именитый поэт. Арестованы ее муж Сергей Эфрон и дочь Ариадна. Цветаева, отдельная от всех, искала точки опоры в мире, и Тагер стал внезапно объектом ее страсти. Ему она посвятит одно из нежнейших своих стихотворений:
Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!
Круг – вкруг головы.
Но и под мехом – неги, под пухом
Гаги – дрогнете вы!
Проводив Тагера из Голицына, Цветаева написала в январе 1940‑го иступленно: «Ушел – не ем: / Пуст – хлеба вкус. / Всё – мел, / За чем ни потянусь …»
Елена Ефимовна относилась к этому чувству с пониманием. И даже частенько, с тем же пониманием, уезжала по своим искусствоведческим делам, оставляя Марину Ивановну с мужем наедине.
Но в тот – условленный – день Евгений Тагер не пришел. Цветаева изольет душу писательнице Людмиле Веприцкой в письме: «…обожглась на Тагере. Старая дура».
Была ли Елена Тагер виной тому, что ее муж обманул ожидания Цветаевой? Трудно сказать, как и упрекать ее в этом. Но такой поворот сюжета отчасти объясняет ситуацию: отчего Елена Ефимовна, поддавшись порыву – обвинить Пастернака в том, что не пошел к Цветаевой, – тут же спохватывается и переживает даже больше за Бориса Леонидовича, нежели за Марину Ивановну. Возможно, эти хитросплетения страстей, сочувствий, симпатий, предательств, в которых нам не разобраться, и стали спустя много лет причиной холодного отношения к Тагерам вернувшейся из заключения дочери Цветаевой, Ариадны Эфрон. Да, признавала она, Тагеры много делают для сбережения памяти о Марине Цветаевой, но общаться с ними не любила.
Пастернак с Цветаевой после той истории все же встретился, хотя помочь ей толком ничем не смог. С Тагер он тоже какое-то время не общался. Но по какой-то другой причине. Однажды пианистка Мария Юдина спросила у нее: «Да, я слышала, что вы многие годы были отлучены от дома Бориса Леонидовича. За что это было?» – «За красоту», – загадочно ответит ей Елена Ефимовна (Назаров Я. С. Наброски о М. В. Юдиной).
«За красоту», – повторит однажды Вознесенский, правда, по другому случаю. В 1960 году, став в одночасье безумно знаменитым, он поздравит ее с 8 Марта открыткой с «Подсолнухами» Ван Гога: «Милая Елена Ефимовна!.. Среди моей эстрады, пены, визга, вкуса этого – Вы – единственное, что меня спасает. Спасет ли – не знаю. Спасибо Вам за это, за все, за красоту, за истинность. Андрей».
И Елена Ефимовна будет всегда внимательна к поэту. В 1974‑м, узнав о смерти Андрея Николаевича, отца Вознесенского, напишет ему трогательные строчки:
«Дорогой Андрюша! ‹…› Одна моя знакомая, седая женщина, уже сама имеющая внуков, похоронив свою старушку-мать, обронила: „Вот только сейчас кончилось мое детство“. Пока человек может произнести слово „мама“ – он защищен, его детство длится. Оберегайте свое детство. Может, в этом есть спасительность утешения.
И еще. Ваши создания – Ваши дети. Но всякому созидателю (Вам ли этого не знать!) обязательно сопутствуют тернии. Но ведь не только тернии, но и радости. Желаю Вам на все сил. Я с Вами в Ваш траурный час.
Е. Тагер».
Вознесенский умел не забывать малейшие жесты добра. И Елене Ефимовне оставался благодарен – за то «посредничество» в его юные годы между ним и Цветаевой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































