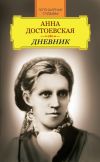Читать книгу "Последний год Достоевского"
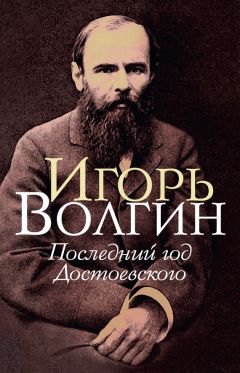
Автор книги: Игорь Волгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Об анонимном письме он сообщает Майкову 2 августа 1868 года. Но ведь ещё в апреле Майков писал ему: «Одно очень высокостоящее лицо… сказало мне, что очень немудрено, что ваша переписка с Достоевским читается, потому что вы – литераторы». Это тоже своего рода предупреждение благополучно достигло Женевы и, вероятно, повлияло на некоторые политические акценты в эпистолярии Достоевского.
Он пишет Майкову: «Но каково же [это] вынесть человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему Государя, – каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с “Колоколом”! дураки, дураки! Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!»[333]333
Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Сборник 2. Петроград, 1925. С. 350; Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 309.
[Закрыть]
Тут интересны два момента. Во-первых, грубое, предельно доходчивое (едва ли не в намеренно примитивной форме) объяснение «им» настоящего положения вещей. И во-вторых, – степень осведомлённости: он не только знает, что его подозревают, но и совершенно точно указывает, в чём именно.
К подобной «игре» с властью прибегал не один Достоевский. У него были славные предшественники.
Тайны супружеские и полицейские
29 мая 1834 года Пушкин назидал отъехавшую в родовое имение Наталью Николаевну: «Лучше бы ты о себе писала, чем о Sollogoub, о которой забираешь в голову всякий вздор – на смех всем честным людям и полиции, которая читает наши письма»[334]334
Пушкин А. С. ПСС. в 10-ти т. Т. 10. Москва – Ленинград, 1949. С. 485.
[Закрыть].
О полицейских забавах сказано вскользь и – насмешливо. Однако за этой усмешкой – предостережение. Негласный полицейский надзор (автор письма состоит под ним с 1826 года) выражает себя в формах, которые мало изменятся за следующие полвека: перлюстрация занимает среди них далеко не последнее место.
«Я не писал тебе потому, – возвращается Пушкин через несколько дней к той же теме, – что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство, a la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше»[335]335
Там же. С. 486–487.
[Закрыть].
Несмотря на «бешенство» (столь извинительное в подобных обстоятельствах), даётся изящная и отточенная формулировка. Пожалуй, даже слишком отточенная для супружеского письма. Но Пушкин и не думает скрывать своих намерений: «Это писано не для тебя…» – добавляет он тут же, не оставляя ни малейшего сомнения в том, кому на самом деле адресована его сентенция.
«…Будь осторожна… – говорит Пушкин в другом супружеском послании, – вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность»[336]336
Там же. С. 489.
[Закрыть].
В 1868 году письма Пушкина к жене ещё не были опубликованы. Но Достоевскому и не требовалось их знать, чтобы (скорее всего инстинктивно) избрать ту вынужденную ситуацией тактику, когда она (ситуация) такова, что третий собеседник остаётся незримым.
Довести свои соображения до сведения власти можно было, только использовав её эпистолярное любопытство. Или – простительную в данных обстоятельствах нескромность друзей.
Предупреждение, полученное в 1868 году, запомнилось надолго. Через три года, возвращаясь в Россию, он решается взять свои меры.
«За два дня до отъезда, – вспоминает Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь». Анне Григорьевне расставаться с бумагами, естественно, не хотелось. «Но Фёдор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его несомненно будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году». Делать было нечего. «Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом погибли рукописи романов “Идиот” и “Вечный муж”… Мне удалось отстоять только записные книжки…»
Надо полагать, уничтожались не одни лишь авторские рукописи. По всей вероятности, огню были преданы все сколько-нибудь компрометирующие бумаги (письма Герцена и Огарёва?), а также документы, могущие пролить свет на источник и характер полученных Достоевским «анонимных» предостережений.
…Первое свидание с родиной состоялось в Вержболове. Жандармское предписание (трёхлетней давности) нимало не утратило своей свежести: их задержали.
«Как мы предполагали, – продолжает Анна Григорьевна, – так и случилось: на границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое (в 1869 году родилась вторая дочь – Люба. – И.В.) оставались, да ещё куча чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды, – бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать: “Мама, дай булочки”, что чиновникам скоро надоели её крики и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги и рукопись»[337]337
Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 198–199.
[Закрыть].
Анна Григорьевна мягко тушует сцену, внося в неё ноту семейного лиризма: окажись в отобранном багаже что-либо предосудительное, детский плач вряд ли бы помог.
Теперь вернёмся к 1875 году, к хлопотам по поводу очередного заграничного паспорта. И – к упомянутому выше Готскому.
В Петербурге заграничные паспорта нужно было испрашивать у градоначальника; находясь же в Старой Руссе – у новгородского губернатора. Дабы выяснить необходимые подробности, Анна Григорьевна направилась к старорусскому исправнику. «Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею до него дело. Порывшись в ящике своего письменного стола, он подал мне довольно объёмистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула её и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе: “Дело об отставном подпоручике Фёдоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой Руссе”. Я просмотрела несколько листов и рассмеялась.
– Как? Так мы находимся под вашим просвещённым надзором, и вам, вероятно, известно всё, что у нас происходит? Вот чего я не ожидала!
– Да, я знаю всё, что делается в вашей семье, – сказал с важностью исправник, – и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен»[338]338
Там же. С. 277. Та самая «объёмистая тетрадь в обложке синего цвета», о которой говорит Анна Григорьевна, до сих пор не найдена. В ней могут содержаться интересные сведения о Достоевском и не дошедшие до нас образцы его корреспонденции.
[Закрыть].
Следует отдать должное служебной откровенности полковника Готского: очевидно, в его обязанности не входило знакомить жён своих подопечных с делами их мужей, а тем более давать эти документы им в руки. Но зато автор «Бесов» знал теперь с абсолютной точностью, что он всё ещё состоит под негласным полицейским надзором. Поэтому малейшие задержки в семейной переписке объясняются супругами просто: проделками Готского.
«Ясное дело, что письма в старорусском почтамте задерживают и непременно вскрывают, и очень может быть, что Готский, – откликается Достоевский на высказанное Анной Григорьевной подозрение. – Непременно, Аня, говори, кричи в почтамте, требуй, чтоб в тот же день было отправлено. Это чёрт знает что такое!»[339]339
Переписка. С. 195.
[Закрыть]
Меж тем как раз в то время, когда это письмо достигало Старой Руссы, в канцеляриях Министерства внутренних дел решался вопрос об освобождении отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского от полицейского надзора.
Обременённое многочисленными текущими заботами министерство предприняло попытку упорядочить свое разбухшее делопроизводство и избавиться от ряда поднадзорных «мёртвых душ» – тех, кто к середине семидесятых годов уже не представлял реальной опасности для спокойствия государственного. В списке лиц, подлежащих освобождению от секретного надзора в городе Петербурге, оказались 32 человека – и 9 июля 1875 года список был утверждён.
Одновременно с Достоевским полицейский надзор снимался с титулярного советника Александра Сергеевича Пушкина[340]340
Литературное наследство. Т. 86. С. 600.
[Закрыть].
Надо заметить, что в этом решении обнаруживается одна странность. В служебной переписке, посредством которой решался вопрос о дальнейшей участи автора «Преступления и наказания», совершенно не фигурируют компрометирующие его материалы 1867 года (а именно – женевский донос о сношениях его с Огарёвым и последовавшее засим распоряжение о его осмотре на русской границе). Более того: ещё годом раньше, отвечая на запрос о Достоевском (по поводу выдачи ему заграничного паспорта), 3-я экспедиция III Отделения, в чьём ведении должны были находиться эти материалы, сообщала, что у неё о Достоевском «сведений нет».
Позволительно спросить: уж не действовала ли тогда, в 1868 году, и теперь, в 1875-м, одна и та же рука? Иначе говоря, не исходило ли «анонимное письмо» от того же лица (или лиц), которые ныне сознательно скрыли от начальства именно те сведения, какие в 1868 году были заблаговременно сообщены Достоевскому?
Казалось бы, подобное предположение уничтожает нашу прежнюю версию: выходит, женевские эмигранты ни при чём. Но не допустим ли здесь некий промежуточный вариант: в 1868 году анонимный доброжелатель из недр III Отделения (уж не предшественник ли Клеточникова?) по известным ему каналам предупреждает русскую эмиграцию в Женеве, а та в свою очередь – Достоевского; в 1875 году то же лицо отстраняет от писателя угрозу навсегда остаться под полицейским надзором? Разумеется, всё это не более чем гипотезы, требующие для своего подтверждения или опровержения дальнейших разысканий.
Самого Достоевского не сочли нужным известить об изменении его административного положения – и он, равно как и Анна Григорьевна, пребывал в полной уверенности, что всё ещё находится под полицейской опекой. Поэтому понятны опасения Анны Григорьевны, высказанные ею в письме 1879 года: «Всё вижу восхитительные сны, но боюсь их рассказывать тебе, а то ты Бог знает что пишешь, а вдруг кто читает, каково?» И Достоевский вполне разделяет её резоны: «И если б не смущало то, что ты говоришь про почтовую цензуру, Бог знает бы что написал тебе»[341]341
Переписка. С. 302, 309.
[Закрыть].
Это – почти текстуально! – совпадает с пушкинским: «Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее – охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен»[342]342
Пушкин А. С. ПСС. Т. 10. С. 496–497.
[Закрыть]. И – ещё в одном письме: «…если почта распечатала письмо мужа к жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом… Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни»[343]343
Там же. С. 484.
[Закрыть].
Опасения Анны Григорьевны относились именно к «тайне семейственных сношений»: нетрудно догадаться, что сдержанная подруга Достоевского вовсе не склонна вверять эту тайну попечению правительства.
Положение делалось всё более унизительным. Было невыносимо, что самодовольный и глуповатый Готский, рисуясь перед Анной Григорьевной, благосклонно разрешал передать мужу, «что он ведёт себя прекрасно» и он, Готский, рассчитывает, что её супруг и впредь не доставит ему хлопот[344]344
Достоевская А. Г. С. 277.
[Закрыть]. И всё это относилось к нему, известному всей читающей России; к нему, поносимому либералами и не признаваемому нигилистами; к нему, вхожему в дома великих князей и пользующемуся их августейшим расположением.
Такому двусмысленному и нетерпимому состоянию следовало положить конец.
Случай для этого представился: он, как думается, находился в некоторой связи с юбилейным адресом Славянского благотворительного общества.
Докладная записка министру внутренних дел
Как говорилось выше, все переговоры с Маковым относительно адреса вёл А. А. Киреев. Но в функции министра внутренних дел входили не только просмотр и исправление адресов на высочайшее имя. От него не в малой степени зависело, кому именно надлежит состоять под полицейским надзором.
Ещё в 1868 году Достоевский писал Майкову: «Не обратиться ли мне к какому-нибудь лицу, не попросить ли о том, чтоб меня не подозревали в измене Отечеству… и не перехватывали моих писем? Это отвратительно!»[345]345
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 310.
[Закрыть] Но что он мог сделать, находясь в Швейцарии? Да если бы даже такое обращение и было предпринято тогда (то есть сразу после доноса), оно вряд ли имело бы шансы на успех.
Теперь ситуация была иной.
Очевидно, мысль обратиться к Макову через Киреева возникла у Достоевского в февральские дни 1880 года. Приведём в этой связи следующий документ.
10 марта
Многоуважаемый Фёдор Михайлович,
Я виделся сегодня утром с Л. С. Маковым, который повторил мне то, что я Вам уже передавал. Снятие с Вас полицейского надзора не встретит никакого препятствия, но так как никто кроме Вас не имеет права делать какие-либо заявления от Вашего имени, то для достижения желаемого результата необходимо, чтобы Вы потрудились написать Министру докладную записку вроде той, которую я Вам передал (NB, не забудьте наклеить марку в 60 коп.). Для большей скорости потрудитесь [доставить] записку Вашу ко мне.
Искренне Ваш, А. Киреев
Стремянная, № 5[346]346
НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 69. Ср.: Гроссман Л. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Москва – Ленинград, 1935. С. 278 (далее: Жизнь и труды…). Л. Гроссман ошибочно датирует это письмо 1879 г. Передатировку см.: Литературное наследство. Т. 86. С. 602.
[Закрыть]
Из письма Киреева следует, что он уже зондировал почву и теперь сообщает результаты. Надо думать, первоначально Достоевский полагал, что неофициального, но вполне авторитетного ходатайства Киреева будет достаточно, чтобы вопрос решился положительно. Однако министр указал на необходимость надлежащей формальной процедуры.
Неизвестно, ориентировался ли Достоевский на какой-то упоминаемый Киреевым (очевидно, аналогичный) документ: до нас дошёл только его собственный черновик.
Докладная записка отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского.
Всемилостивейшим производством меня в прапорщики в 1856 году из [рядовых] унтер-офицеров 7-го Сибирского линейного батальона, в который вступил я [из] по отбытии четырёхлетних каторжных [гражданских] работ 2-го разряда в Омской крепости, мне были возвращены все мои гражданские права, утраченные мною за участие в деле о преступной пропаганде в 1849 году в Петербурге. На паспорте моём, выданном мне при отставке [из] 30 июня 1859 года в городе Семипалатинске, не значится, чтобы я был под присмотром полиции, тем не менее присмотр сей продолжается, как то мне напр. было сообщено [бывшим С.-Петербургским генерал-губернатором князем Суворовым) в 3-м Отделении Собственной его величества канцелярии, в которую я, отправляясь за границу, всегда должен был обращаться с особою просьбой, и наконец ещё в 1875 году, когда я, проживая зиму 1874–1875 годов в г. Старой Руссе, узнал от самого старорусского исправника, что состою у него под надзором. Со времени моего помилования и возвращения мне гражданских прав протекло 25 лет. На сотнях страниц высказ[ыв]ал я и высказываю свои убеждения и политические и религиозные. Убеждения эти я надеюсь таковы, что не могут подать повода [в том] к тому, чтобы заподозрить мою политическую нравственность, поэтому я и позволяю себе просить, дабы полицейский надзор за мною был прекращён[347]347
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 246–247.
[Закрыть].
Прежде всего поражает тон. Автор записки твёрд, сдержан, исполнен чувства собственного достоинства. В конце – он даже несколько высокомерен и насмешлив. Здесь нет сильных выражений, нет ничего от кипевшего в его письмах негодования («подозревают чёрт знает в чём», «чёрт знает что такое» и т. п.). Но зато отсутствует и другое: не выставляется ни одного заискивающего аргумента (как то: чистота намерений, патриотизм, любовь к государю и проч. – то есть те добродетели, на которые указывалось в частном письме – Майкову). Он как бы намеренно предпочитает «оставаться при факте»: строго придерживаться формально-юридического взгляда на вещи. Но за этим лаконическим, спокойным, деловым слогом – ощущение правоты. Он не укоряет власть и не ищет её расположения: он говорит с нею на равных.
При этом автор обнаруживает незнание некоторых полицейских тонкостей. Адресаты его записки могли усмехнуться довольно наивному заявлению просителя, что в его паспорте не значится, чтобы он был «под присмотром полиции». «Не значится» именно потому, что «присмотр» был секретным.
Черновик выдаёт и некоторые колебания автора. Так, пишется, а затем вычёркивается имя бывшего петербургского генерал-губернатора князя Суворова. В 1863 году князь Италийский («гуманный внук воинственного деда», по язвительному слову Тютчева) немало способствовал получению Достоевским заграничного паспорта, и благодарный проситель опасается бросить на его имя невольную тень.
…Административный механизм сработал на сей раз довольно быстро. Маков отнёсся в III Отделение: он излагал поступившую к нему записку и просил почтить его, Макова, «уведомлением о вашем по настоящему ходатайству г. Достоевского заключении». Прежде чем направить таковое в Министерство внутренних дел, чиновники III Отделения вновь подняли свои архивы и составили о ходатае обстоятельную справку. И хотя нынешний шеф жандармов (а им к этому времени уже успел стать – по совместительству – Лорис-Меликов) – был лицом, очевидно, более эрудированным, нежели покойный Мезенцов, чиновник, составлявший справку, не преминул на всякий случай заметить: «Фёдор Достоевский известный наш литератор». Одна эта – почти отеческая – интонация уже говорила в пользу просителя.
31 марта 1880 года III Отделение с лёгким сердцем ответило министру внутренних дел, что «со времени освобождения Достоевского в 1875 году от надзора в III Отделении не производилось никакой переписки о подчинении его вновь гласному или секретному надзору полиции»[348]348
Литературное наследство. Т. 86. С. 602, 603.
[Закрыть].
Неясно, получил ли наконец Достоевский официальное уведомление о снятии с него полицейского надзора (такой бумаги в его архиве не обнаружено) или же ему сообщили об этом устно[349]349
В документах Министерства внутренних дел значится, что «ему было объявлено» об этом «на поданную им в 1880 году докладную записку». «Объявлено», – очевидно, всё-таки устно (лично или через Киреева), ибо письменный документ такой важности был бы непременно сохранён Анной Григорьевной.
[Закрыть], но во всяком случае последние десять месяцев своей жизни он мог чувствовать себя вполне свободным.
И всё же во всей этой истории был один тонкий, почти неуловимый, но, очевидно, не совсем безразличный для него нюанс.
Цена свободы
Докладная записка Макову была подана почти сразу же вслед за адресом на высочайшее имя. Конечно, здесь не было никакой видимой связи, и ему не хотелось бы думать, что кто-нибудь может усмотреть таковую. И всё же… Сам факт его авторства (в случае с адресом) должен был иметь в глазах министра внутренних дел определённый политический смысл. Выступление известного русского писателя в этом специфическом жанре как бы свидетельствовало о его политической благонадёжности. Макова мало трогали авторские идеи, сокрытые в тексте адреса (да и он, как мы видели, не очень-то умел в них вникать); он тоже предпочитал «оставаться при факте».
Факт же говорил сам за себя.
Независимо от желания Достоевского (и даже вопреки ему) адрес Славянского благотворительного общества мог выглядеть как плата. Здесь тоже был момент игры: баш на баш. Конечно, подай он докладную записку до адреса, дело, надо полагать, кончилось бы тем же: ведь надзор как-никак был уже снят. Но он-то этого не знал. Со стороны могло показаться, что он воспользовался случаем.
Чтобы избавиться от одного унижения, нужно было пойти на риск испытать другое. Ему могли отказать – и в этой ситуации адрес явился бы сильным козырем. Один этот текст в глазах правительства мог перевесить те «сотни страниц», на которые не без скрытой гордости указывал он в своей докладной записке.
Тем знаменательнее, что даже в таком – чрезвычайном – случае он не поступился ничем: адресуясь прямо к государю, он высказал только то, во что искренне верил. Чем и навлёк невольно на Славянское благотворительное общество полускрытый монарший упрёк.
Интересно: обратился бы он к министру, если бы до него дошли подлинные слова Александра II?
Тут уместна одна аналогия.
В 1854 году, в Семипалатинске, он вздумал сочинить тёплые патриотические стихи на актуальную тему: только что был оглашён манифест – начиналась война с коалицией. Неуклюжая попытка вторгнуться в пределы чужеродного жанра обнаруживала искренние, хотя и не очень искусно выраженные поэтические чувствования. Однако дальнейшие упражнения в версификации (приуроченные ко дню рождения вдовствующей императрицы и к торжествам по случаю коронации и заключения мира) дышали натужным пафосом и лирическим хладом. («Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность»[350]350
Письма. Т. 1. С. 529.
[Закрыть], – лаконически заметит ему старший брат, не подозревавший о будущих гениальных откровениях капитана Лебядкина.)
Однако худо-бедно, а стихи выполнили свою служебную функцию: пошли по инстанциям, были доложены начальству и вызвали его одобрение. Рядовой 7-го Сибирского линейного батальона теперь с бо́льшим основанием мог рассчитывать на перемену судьбы.
Судьба действительно переменилась (он был произведён в унтер-офицеры, а затем получил первый офицерский чин), но «сверхзадача» так и не была решена. Главная цель, ради которой он готов был предпринять и не такие поэтические подвиги, эта цель оставалась столь же недосягаемой, как и раньше. Новый государь, согласившись на производство его в прапорщики, приказал «учредить за ним секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его благонадёжности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды»[351]351
Литературное наследство. Т. 22–24. Москва, 1935. С. 722.
[Закрыть].
Это было в 1856 году. Именно с этого момента началась негласная государственная опека, продолжавшаяся почти двадцать лет (он полагал, что двадцать пять). Казалось бы, по точному смыслу высочайшего предписания «секретное наблюдение» должно было прекратиться с того момента, когда ему дозволят печататься; на деле «совершенное удостоверение» в его благонадежности отодвинулось почти на два десятилетия.
Да и наступило ли оно вообще?
Если Александр II знал (а точно ли он не знал?), кто является автором поднесённого ему текста, тогда его недоумение кажется не столь уж странным. Упрёк Славянскому благотворительному обществу (даже смягченный высочайшей усмешкой) выглядел несправедливо. Чего нельзя сказать о намёке в адрес бывшего политического преступника: повод с его стороны для «солидарности с нигилистами» мог бы отыскаться всегда.
Его давние стихи преследовали чисто утилитарную цель: доказать. Доказать действенность наказания, искренность раскаяния, лояльность. У адреса 1880 года задача была совершенно иная: указать. Указать власти на возможность такого мироустройства, при котором самодержавие и свобода станут надёжнейшими гарантами друг друга.
Но указание на второе из этих понятий свидетельствовало о тайном сомнении в первом.
Разумеется, адрес, как и стихи, тоже не был его специальностью. Но он, сочинитель, не превратился в слепое орудие жанра: сам жанр был побеждён и вынужден был служить его целям.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!