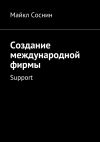Автор книги: Илья Левяш
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Следует ли из этого, что феномен множественности модернизмов объясняется влиянием постмодерна? Если они приводят к неразрешимым противоречиям – антиномиям и имплозии – распаду и взрыву «вовнутрь», возможно, да. Но в целом единство в многообразии – феномен столь же древний, как мир. Кстати, до и без всякого постмодерна, различные модели модерна, к примеру, французская или японская, не говоря уже об американской, обладают не только родовыми, но ярко выраженными видовыми свойствами. Гегель был проницателен в своей символике развития: «Большое старое дерево все больше разветвляется, не становясь тем самым новым деревом, однако безрассудно было бы не сажать новых деревьев только потому, что могут появиться новые ветви» [1990, с. 254].
Создается впечатление, что противоборство Модерна со своим Эдипом идет с переменным успехом. Однако иллюзии неуместны. Многие из нас, выламывающиеся из «цементированного Единого» былой моноидеологии, испытывают «влеченье – род недуга» к широковещательному имиджу постмодерна как богоборца – Прометея нашего времени. Он идентифицирует себя как бунт против диктатуры Единого и его проекции в мире царства Мамонны. Это действительно бунт, но на коленях, оппозиция всеядных интеллектуалов, отравленных скепсисом и озабоченных не столько переоценкой ценностей, сколько отрицанием любых ценностей и вместе с тем утилизацией их суррогатов. Это уже не союз Фауста с Мефистофелем во имя истины. Апеллируя к «среднему», но платежеспособному человеку-массе, постмодерн заключил с ним потребительский «союз».
Не должно быть заблуждений относительно программного в постмодерне прагматизма, утилитарных истоков постмодерной «культуры симулякрума», припавшей к истоку «полезности». Этот исток – организация общества, в котором меновая стоимость подменяет собой потребительскую стоимость. В такой среде «образ стал крайней формой товарного овеществления», а наиболее рентабельным – виртуальный капитал. Постмодерн, пишет Ф. Джеймисон, несет ответственность за то, что духовное производство «сегодня встроилось в товарное производство в целом: бешеная экономическая потребность производства… предписывает… все более существенную структурную функцию и место (в производстве)… нововведениям и экспериментам. Такие экономические потребности находят отклик в различных формах институциональной поддержки» [1996, с. 120]. Перед нами – далеко не всегда «постмодернистско-прагматическое недомогание» [ОНС, 1996. № 5, с. 130]. Это именно домогание коммерческо-прагматической полезности и, по Ж. Бодрийяру, «завороженность» ею на порядок девальвирует ценность постмодерна для культуры. Его вопрос: «Как быть с симуляцией добродетели?» – остается обращенным не только к миру, но и к самому себе.
Ответ постмодерна на адресованный Современности гамлетовский вопрос свидетельствует о глубокой противоречивости, «блеске и нищете» этого «ризомного», без видимых берегов, течения. Ариаднина нить его постижения, видимо, в том, что социуму раннего Модерна уже не быть, а быть ли его зрелому состоянию – открытая проблема с беспрецедентной степенью неопределенности. В этой многоликой одиссее причудливо притягивают и отталкивают друг друга ценности и смыслы уходящего мира, призрачного конца одной истории и тем более – совершенно неясного начала terra incognita.
Постмодерн – легитимное дитя декаданса не «силы», а «слабости» (по классификации Ницше), ситуации на грани бытия/небытия традиционных культурных ценностей и смыслов, свидетельство их системного несоответствия изменившейся культурно-цивилизационной реальности. Традиционная моно-истина, говоря ленинским присловьем, «крахнула». Но ее отрицание не стало кардинальной «переоценкой ценностей» как «снятием» их позитивного смысла и утверждением новых смыслов. Это главным образом отрицание ради отрицания, десакрализация во имя отказа от всякой сакральности, иными словами, «смерть» культуры.
Какова степень сопричастности постмодерна к этой «смерти»? Какую роль он объективно играет – одного из гробовщиков или даже виновников? Ответ не столь однозначен, но менее неопределенен, чем об этом вещают адепты постмодерна. Впрочем, неопределенность не как момент поиска истины и ценностей, а тотальное отрицание их смысла – если не кредо постмодерна, то одна из его «линий». В этом ключе он подобен панцирю черепахи. Попытка ее перевернуть открывает по меньшей мере две возможности видения этого феномена.
Как одна из форм мифологемного духовного производства, встроенного в систему товарных отношений и заигрывания с потребительскими стереотипами человека-массы и его респектабельных благотворителей, постмодерн вовсе не подобен господину Журдену, который свою прозу принимал за стихи. Необычная по форме прагматическая «проза» – цивилизационный феномен «восстания» той части гуманитарной элиты, которая домогается своей доли пирога от потребительского «восстания масс». Она сознательно ставит не на подлинную инновацию – преобразование ценностей и смыслов, а лишь интерпретирует их в неклассической интертекстуальности и «карнавальной» игре форм.
В таком русле постмодерн не создал ни единой принципиально новой фундаментальной ценности, тем более – смыслов. Это, писал по аналогичному поводу Гете, стиль «водянистой, расплывчатой, нулевой эпохи… Стиль, господствовавший доселе, не давал даже возможности отличить низкопробное от более высокого, ибо все влеклось к одинаково плоскому». И еще: «Плющ не имеет ствола, тем не менее, к чему бы он ни прильнул, он стремится играть главную роль. На старых стенах плющ вполне уместен, там уже нечего портить, но с новых строений его срывают… Из деревьев он высасывает соки. Но всего невыносимее… он становится тогда, когда, взобравшись на столб, старается нас уверить, что это живой столб, ибо он прикрыл его листвою» [Т. 3, с. 227, 463].
Во многом постмодерн – «величайшее мастерство и полное безлюдье» (Ортега-и-Гассет), симулякрумное производство, которое мимикрирует под культурное творчество. На его фронтоне – девиз О. Уайльда: «Знать цену всему, но не придавать ценности ничему». Кардинальная подмена творческого духа щедро оплачиваемым квазидуховным производством живо напоминает замечание Аристотеля о том, что «искать повсюду лишь одной пользы менее всего приличествует свободнорожденным и людям высоких душевных качеств». Если постмодерн не более чем производство «пользы», домогание не сути вещей, а «вещественности сути», то для его номинации с большой буквы, как следующей за Современностью эпохи Постсовременности, никаких веских оснований нет.
Если же постмодерн – все же поиск сути вещей, и, по Бодрийяру, не избежал «соблазна» культуротворчества, то оно – лишь технологично (и следует признать, включая высокие образцы). Это не означает, что он не является важным сегментом современной культурной ситуации. Постмодерн – все-таки бунт, и даже на коленях он наголову выше нирваны «слепой легитимации». Нельзя не видеть, что теоретики постмодерна обнажают существенные грани противоречий современного социума, по Ж.-Ф. Лиотару, «чужды разочарованию» и нередко не могут «вообразить себе радикальной критики, которая не мотивировалась бы в конечном счете каким-либо утверждением, сознается в этом критик или нет». В такой ипостаси, отмечает З. Бауман, постмодерн это еретик, который в своей эволюции стремится не отрицанию гуманизма, а скорее к переосмыслению его современной идеи [2002, с. 120].
Эти тенденции обогащают понимание Единого как не только причинно-следственной, но и функциональной, «ризомной» детерминации, стимулируют поливариативность постижения интертекстов, различения в них реалий и симулякров гиперреальности, побуждают к переосмыслению культурно-ценностного и цивилизационно-прагматического в человеческой деятельности.
В конечном счете, постмодерн гораздо больше, чем его прагматика, но заметно меньше, чем его претензия на роль Колумба новой эпохи. Постмодерн в русле Современности «поперек», но никак не за ее пределами. По сути он – одна из ипостасей постклассического Модерна, его по преимуществу «негативная диалектика», контркультура последнего поколения кризиса исторически первой формы модернизации, ее переосмысления на более зрелой стадии. Это течение не способно ни «отменить» центрированный, древовидный гештальт нашего времени, ни утвердить господство над ним децентрированного, ризомного гештальта. Однако это действительно нетривиальный ответ на угрозу «цветущей сложности» культуры в условиях становления планетарной цивилизации.
Характеризуя «блеск и нищету» постмодерна, Валлерстайн пишет: «Мне близки многие их (постмодернистов – И. Л.) критические позиции (к большинству из которых мы, однако, пришли раньше и сформулировали их более четко). Однако я в целом не считаю таковые ни достаточно «пост»-модернистскими, ни достаточно серьезно реконструирующими основы методологии. Их сторонники, и в этом можно быть уверенными, не сделают за нас нашу работу» [2003, с. 265]. Такая работа требует других альтернатив. Они заключаются в творческом переосмыслении классического наследия с целью постижения новых, порожденных глобализацией, закономерностей. На фронтоне этого труда девиз А. Камю: «За гранью нигилизма, среди развалин все мы готовим возрождение. Но мало кто об этом знает» [Камю, 1990, с. 355].
1.5. «Информационное общество»«Что значит знать? Вот в чем вопрос»
И. В. Гете
Отмеченный А. Камю извечный дефицит знания о человеке и его мире, казалось бы, противоречит современному феномену всепроникающего «информационного взрыва». Утверждается, что ныне основным фактором производства становится информация как «сырье» креативного (творческого) субъекта труда, и это означает наступление власти времени над «сжатым» и покоренным пространством. Культурно-цивилизационные последствия триумфального шествия информатизации широко представлены на разных уровнях, начиная с оценки одного из ее командоров Б. Гейтса. Он предсказывает, что «бизнес собирается изменяться больше в следующие десять лет, чем в последние пятьдесят», и «эти изменения произойдут в силу простой обезоруживающей идеи – потока цифровой информации».
Такая аргументация перерастает в обоснование концепта «информационное общество» как инновационой и адекватной смыслообразующей парадигмы постижения глобализируемого мира. Более того, введенный в научный оборот в начале 60-х гг., этот термин в 90-х гг. уже нередко рассматривается как ключевой историософский концепт осмысления логоса современной эволюции человека и его мира.
Исторически первая модель человеческой деятельности характеризовалась господством природы над культурой. Следующий тип взаимоотношений связан с промышленной революцией и победой разума, когда культура возобладала над природой. Сегодня культура настолько подчинила себе природу, что ее приходится искусственно восстанавливать в качестве одной из «культурных форм». Сетевые информационные структуры одновременно выступают как ее продукты и средства. Они «составляют новую социальную морфологию наших обществ… парадигма новой информационной технологии обеспечивает материальную основу для всестороннего проникновения такой основы в структуру общества… Процессы преобразований, находящие свое выражение в идеальном типе сетевого общества, выходят за пределы социальных и технических производственных отношений: они глубоко вторгаются в сферы культуры и власти… Мы приблизились к созданию чисто культурной структуры социальных взаимодействий. Именно поэтому информация стала основным компонентом нашей социальной организации» [Кастельс, 1999, с. 494, 495, 503, 505].
Последнее положение спорно, но бесспорен следующий результат. ИР (информационная революция) – поистине инновационный феномен. Здесь термин «информация» употребляется не в общефилософском смысле, как атрибут всего живого, а как продукт производства знания с помощью интеллектуальных технологических систем. Эта революция вначале преодолевает непосредственную и жесткую связь человека с машиной, создает медиатора в форме гораздо более темпорального и гибкого промежуточного звена – счетно-решающего устройства и означает революцию в способе труда. Наблюдается тенденция к трансформации и экспансии такого способа деятельности далеко за пределы непосредственного труда – в масштабах всего производства и управления. Тем не менее материальным субстратом информационной революции остается машина, и «кибер» – почти идеальная и все же машина, в принципе способная бесконечно усиливать «разумный», поддающийся алгоритмизации, потенциал человека. В конечном счете, в производственно-технологическом смысле это наступление неомодерна как действительно «царства Разума», торжества принципа рациональности.
Таковы реалии и их пределы. В мифологемах же таких пределов нет. Их основная фабула в том, что благодаря господству информации находит свое разрешение извечная коллизия «натура – культура». Однако, в отличие от Гейтса, М. Кастельс – не апологет «информационного общества». Оно для него «не конец истории», которая «завершилась счастливым примирением человечества с самим собой. На деле все обстоит совсем иначе: история только начинается… Речь идет о начале иного бытия, о приходе нового, информационного века, отмеченного самостоятельностью культуры по отношению к материальной основе нашего существования. Но вряд ли это может послужить поводом для большой радости, ибо, оказавшись в нашем мире наедине с самими собой, мы должны будем посмотреть на свое отражение в зеркале исторической реальности. То, что мы увидим, вряд ли нам понравится» [1999, с. 505].
Креативность такого подхода все же снижается редукцией проблемы к дуальной оппозиции «натура – культура». В этой оппозиции остается не ясным, почему глобальная информационная культура не дает повода для оптимизма, тем более – для ее оценки как «осевого», т. е. смыслообразующего культурно-цивилизационного прорыва. Более того, парадокс в том,
безоглядная информатизация чревата… архаизацией человека и его мира. «Мы находимся во вселенной, в которой становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла, – пишет Ж. Бодрийяр. – Поскольку там, где, как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное. Информация пожирает свои собственные содержания. Она пожирает коммуникацию и социальное» [1996, с. 41, 42].
Иными словами, мы снова вернулись к Гете: «Что значит знать? Вот в чем вопрос». Очевидно, разгадка парадокса может быть найдена путем рассмотрения противоречивого назначения информации в инвариантной триаде «культура – цивилизация – варварство».
В каноническом смысле информация – универсальный способ взаимодействия объектов путем передачи, хранения и преобразования их «следов». Сама по себе она является неупорядоченным потоком лишенных смысла «следов», которые познаваемые объекты оставляют в сознании субъекта (не говоря уже о специальной проблеме искажающих эти «следы» технологических и операциональных «шумов»). Прибегая к образу Аристотеля, оттиск на воске может представать чем угодно, если мы не знаем, что на нем отпечаток перстня. Информация – «черный ящик» хаоса таких «следов» – кодов, условных знаков. Их декодирование предполагает предварительное знание кодов и последующего оперирования ими для последующего преобразования информационного хаоса в познавательный логос.
Вопреки обыденному мнению, Знание не является продуктом простого «считывания» информации. «Знать – значит владеть информацией. Понимать – проникать за знания, сквозь информацию. Знание (информация) – это экран, который надо преодолеть, чтобы выйти к иному, сделать его своим. Освоить. Овладеть. Понимать – значит «владеть сутью». Большинство людей «знают, но не владеют» …ученые не любят, не верят, не чувствуют. Они только знают, что есть любовь, вера, чувства… Многие люди читают, чтобы не думать, – сказал Дидро» [ОНС, 1996, № 4, с. 134]. Отсюда – до сих пор не до конца понятое откровение Ницше: «Я изгнал бы из моего идеального государства так называемых «образованных»…это мой терроризм» [1998, т. 1, с. 772]. Характерен и диалог чеховских персонажей: «– Человек такая простая и немудреная машина… – Нет, доктор, в каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге… по двум-трем внешним признакам… Можно быть прекрасным врачом – и в то же время совсем не знать людей» [Т. 12, с. 56].
Вербальные и иные знаковые информационные потоки предварительно создаются, символически интерпретируются и транслируются в определенном смысловом контексте. «Ситуация, – подчеркивал К. Ясперс, – означает не только природно-закономерную, но скорее смысловую действительность, которая выступает не как физическая, не как психическая, а как конкретная действительность, включающая в себя оба эти момента» [1992, с. 9–10]. Эти смыслы – не в самом мире, а в способах связей человека с миром и самим собой. Если они построены на традиционном господстве «культуры» над «натурой», возникает «головокружение от успехов». Библейский Иосиф в известной версии Т. Манна говорит: «Всемогущество – это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это как на пережиток хаоса!..
Тебе придется бороться с самим собой…, как когда-то с другим» [1991, т. 2, с. 503, 561].
Информация еще нередко интерпретируется как неограниченная свобода, и пока не существует полноты ответственности за нее. Сама по себе информация «равнодушна» к чьим-либо интересам, но их носители явно неравнодушны к ним. Недаром утверждают, что даже геометрические аксиомы опровергаются, если задевают интересы людей. Такая ситуация в условиях глобализации приводит к далеко идущим последствиям уже не культурного, а цивилизационного (в том числе и геополитического) характера – обусловленной не мессианскими, а миссионерскими мотивами направленности информационной мощи в целях установления контроля над миром. Поэтому «.неверно характеризовать глобализацию как некую политически нейтральную реальность, берущую начало в информационно-коммуникационных технологиях и безымянных силах, выступающих в пользу либерализации торговли и финансов» [Хаттон, 2004, с. 225].
Исследователи проблемы обращают внимание на то, что кибернетические системы способны оказывать активное воздействие на процессы, протекающие во внешней (внесистемной) среде. Объявляя Интернет «вектором демократизации», «свободной средой», даже по определению «зоной анархии», сторонники концепции информационного общества и виртуальной демократии явно недооценивают тот факт, что главными задачами этой технологии первоначально выступали контроль именно над удаленными объектами и управление информационными потоками. Прародительница Интернета – ARPANET – была предназначена для обеспечения связи между основными военными базами и разведывательными центрами США, и рассчитана на функционирование даже в условиях «глобального сбоя» информационной сферы Земли, т. е. ядерной войны. Не говоря уже о «феномене Бен Ладена», мир был потрясен тем, что США с помощью разведывательных космических систем не только визуально контролируют своих европейских союзников по НАТО, но и «взламывают» их суперсекретную информацию. «Однако не явится ли нам очередной Deus ex machina, причем в образе, далеком от демократии?» [Морозов, 2002, с. 134, 135].
Информационное пространство лишь по видимости Вавилон, в котором «всяк сущий язык» дает себе имена. Содержание информационных потоков предварительно создается, символически интерпретируется и передается в определенном контексте. Виртуально кибер-пространство, или «всемирная паутина», становится ареной геополитического миссионерства и цивилизационной экспансии, которые нивелируют социокультурные процессы во всех странах мира. «Содержание информационных потоков на всех уровнях… предварительно интерпретировано и символизировано и передается в определенном культурном контексте. Универсальные культурные стереотипы не отражают даже внешне действительные социокультурные, политические и экономические условия настоящего и исторического становления культуры стран, где эти информационные парадигмы теперь создаются и моделируются. В сущности, глобальные информационные стереотипы в культурном плане «зомбируют» сознание и деятельность широких масс, …игнорируют фундаментальные исторические корни экономического развития отдельных стран» [Саломон, 2000, с. 107, 109].
Неограниченные масштабы информационной интервенции сопряжены не только с конструированием стереотипов «коллективного бессознательного», но и с беспрецедентными масштабами и глубиной проникновения в духовный мир личности. В смутные времена мутации идеалов в идолы она не защищена и падка на внешне привлекательный товар, а в действительности «экскременты масскульта» (У. Эко). Этот неудержимый никакими законодательствами мутный поток хорошо описан, и достаточно воспроизвести мнение испанской газеты «El Pais»: «Самой заметной эпидемией начала XXI столетия является отнюдь не атипичная пневмония, а бесстыдство, вульгарность, примитивность, хамство, тиражируемые СМИ, и прежде всего телевидением. Весь земной шар, оплетенный постоянно повторяющимся видеорядом картинок, стал похож на метафору-буфф полового органа, вот-вот готового извергнуться семенем, или на зловонное публичное отправление естественных надобностей, сопровождаемое грубым гоготом» [Цит. по: ЛГ, 18–24.06.2003]. Человек-масса (более вежливо – «электорат») гораздо лучше знает цену голливудской Мадонны, чем бесценность Сикстинской Мадонны. Это не игра слов, а опасная игра с подменой смыслов.
Российский академик РАН В. Арнольд в своем докладе в Папской академии привел хрестоматийный пассаж. Лиз – студентка, изучающая историю искусства в Гарварде. На уроке французского языка ее спросили, была ли она во Франции («Да»), в Париже («Да»), видела ли Собор Парижской Богоматери («Да»), понравился ли он ей («Нет!»). «Почему?», – спросил преподаватель. «Он такой старый», наивно, но твердо ответила Лиз [Цит. по: Известия, 26.02.1999].
Круг замкнулся, и бедная Лиз – легитимная наследница Фауста, который мнил, что «мир не был до меня и создан мной». О. Уайльд, наблюдая только зарю этого «просвещения», с горечью заметил, что «уровень культуры общества зависит от того, чего люди не прочтут и не увидят». Увы, этим недугом поражена и та часть интеллектуальной элиты, которая много читает и видит, к примеру, Шекспира или Достоевского, но рискует не воспроизводить их на подмостках театров или в кинематографе (в меру своего творческого дара), а «интерпретировать», и в итоге неискушенный зритель или читатель уже воспринимает «быть или не быть» не Гамлета или братьев Карамазовых, а наших доморащенных талантов, жаждущих поклонников.
Каково общество, такова и информация. Дегуманизация современного общества зримо проявляется в том, что величайший плод человеческого гения – информатика утилизуется в целях взлома культурных кодов личности, целых социальных групп или общностей людей – и все это во имя доктринальной «свободы выбора». Поэтому недавно ушедший от нас польский классик Ч. Милош отказывал Модерну как «доктрине в праве оправдывать совершаемые во имя доктрины преступления», как и отказывал действующему от ее имени «современному человеку, который забывает о том, сколь он убог в сравнении с тем, чем человек может быть», отказывал «в праве мерить прошлое и будущее собственной мерой».
Представляется ясным, что концепт «информационная эпоха» это «свое-другое» модернизации, которая, при всех своих впечатляющих технологических новациях, по-прежнему не способна и, похоже, не стремится ответить на вопрос Пилата: «Что есть истина?».