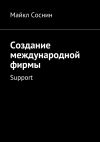Автор книги: Илья Левяш
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«Сверхчеловек» Ницше – провозвестник духовной «переоценки ценностей», и прежде всего – прекращения войны всех против всех. «Жестокие люди, – писал он, – как отсталые. Люди, которые теперь жестоки, должны рассматриваться как сохранившиеся ступени прежних культур… Они показывают нам, чем мы все были, и пугают нас» [1998, т. 1, с. 270]. Зрелость мыслителя выражалась в нетрадиционной для западной («гамлетовской») мысли интенции поиска глубинного источника насилия не вовне, не в обществе, а в себе, собственном несовершенстве человека. В нашей современности не трудно найти основания для его проницательного предупреждения: «Тот, кто борется с чудовищами, должен следить за собой, чтобы самому не обратиться в чудовище. Попробуй подолгу смотреть в пропасть, и она заглянет тебе в глаза» [1990, т. 2, с. 214].
Вместе с тем Ницше считал неприемлемой пацифистскую позицию. «Что толку, – писал он, – в том, чтобы всеми силами души считать войну злом, не вредить, не хотеть творить нет! Война тем не менее ведется! Иначе никак нельзя!… Хороший человек, отказавшийся от зла…вовсе не перестает вести войну, иметь врагов… Христианин, например, ненавидит «грех»! – и что только не является в его глазах грехом!» [1994, с. 153].
Слишком буквально воспринимается утверждение Ницше, что «… миру придается большая ценность, чем войне; но это суждение антибиологично, оно само порождение декаданса жизни… Жизнь есть результат войны, само общество – средство для войны…» [1994, с. 60]. Вопрос в том, о какой войне идет речь. Мыслитель интуитивно провидел «битву гигантов» тоталитарной идеократии XX в. и писал, что «понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества будут взорваны на воздух – они покоятся все на лжи: будут войны, каких никогда еще не было на земле» [1990, т. 2, с. 408].
Озабоченность Ницше практической «большой политикой» – совсем не «сверхчеловеческого» характера. Ее главным фигурантом выступает не человек «высшей цивилизации», а народ, и «логика народоубийства» подлежит осуждению. Именно «народ, – писал мыслитель, – испытывает величайшие потери… из-за того, что значительное число самых дельных, сильных и работящих людей из года в год отвлекается от их настоящих занятий и профессий, чтобы быть солдатами, – так и народ, который готовится вести большую политику и обеспечить себе решающий голос среди самых могущественных государств, несет свои величайшие потери… Но в стороне от этих публичных гекатомб совершается, быть может, гораздо более ужасное зрелище…: каждый дельный, работящий, одаренный, честолюбивый человек такого жадного до политических лавров народа проникается этой жадностью и уже не принадлежит, как прежде, всецело своему собственному делу: ежегодно новые вопросы и заботы государственного блага поглощают ежедневную дань от капитала ума и сердца каждого гражданина; сумма этих жертв и потерь индивидуальной энергии и труда столь огромна, что политический расцвет народа почти с необходимостью влечет за собою духовное обеднение и ослабление, меньшую производительность в делах… Под конец позволительно спросить: окупается ли весь этот расцвет и блеск целого…, если этому грубому и пестрящему цветку нации должны быть принесены в жертву все более благородные, нежные и духовные цветы и растения, которыми доселе так изобиловала их почва?» [1998, т. 1, с. 452]. Ницше подчеркивал, что, если «вся эта неизмеримая сумма сил… обращена… не на службу познания, но… на эгоистические цели индивидов и народов», то это «способно…породить ужасающую логику народоубийства» [Там же, с. 115].
Читатель рассудит, какую политику Ницше полагал большой, подлинной – realpolitik или universalis. Такую же задачу необходимо решить и относительно наследия Бердяева, и уже потому, что русский мыслитель апеллировал к Ницше. «Яркие творческие индивидуальности, – писал он, – всегда были обращены к мировому, к «историческому», а не к «частному». Для исторического, обращенного к мировым ценностям взгляда на жизнь остается в силе заповедь Ницше: будьте жестки, тверды… Жесткость совсем не есть жестокость, она свойство духовное, а не биологическое – жертва низшими состояниями духа во имя высших состояний, жертва элементарными благами во имя восхождения и эволюции человека». Если «жесткость» – для самоутверждения духа, то жестокость – для государства. Без него «человечество на том уровне, на котором оно находится, было бы ввергнуто в еще более жестокое, звериное состояние. Жестокая судьба государства есть в конце концов судьба человека, его борьба с хаотическими стихиями в себе и вокруг себя, с изначальным природным злом… Государство… всегда подстерегает соблазн самодовлеющей власти. Но это уже вопрос факта, а не принципа, это вопрос о том, что государство должно или развиваться, или погибать. Государство должно знать свое место в иерархии ценностей. Царство кесаря не должно посягать на царство Божье или требовать воздания Божьего кесарю» [1990, с. 179].
Однако «нет пророка в своем отечестве», и XX столетие разгула realpolitik с ее «ужасающей логикой народоубийства» – трагическое тому подтверждение. Нацистская realpolitik в чистом виде обанкротилась, ее трансформация в биполярном мире едва не привела к третьей мировой катастрофе, но в этнонациональном эгоцентризме, глобальных претензиях и интервенционистской практике поныне единственной и претенциозной сверхдержавы «ничто не ново под луной».
Однако в современной мировой политике нельзя не видеть и нарастающего влияния универсалистской тенденции. Прежде всего она выявляется в отходе от классической realpolitik европейских политических субъектов, зарывших топор извечной войны и ее «цивилизаторской» экспансии в колониальный мир. В свою очередь, в России завершается многовековая дискуссия на тему о том, является ли она «самой восточной из западных или самой западной из восточных» (Киплинг), и кристаллизуется самоидентификация России как Евровостока. Она все более возвращается к девизу Екатерины II «Россия, будь универсальной!». Глобальный резонанс имеет и завершение тысячелетней автаркии Китая и его поворот, хотя и, возможно, не без «сюрпризов», к открытому мировому сообществу.
Все это – существенные, хотя и далеко не единственные, признаки фундаментальных сдвигов в универсалистской ориентации крупнейших акторов мировой политики. Однако такая ориентация происходит не путем отторжения национальных интересов, а постижения их динамики во взаимосвязанном мире и ценностно-смысловом переосмыслении.
Даже Ф. Фукуяма считает естественным, что после крушения коммунизма и развала Советского Союза встал вопрос о национальных интересах новой России. Эти интересы имеют динамический характер, связанный с глубоким преобразованием самоидентификации России. Даже те, кто выступает за возврат к «объективным» национальным интересам, «внутренне верят, что это означает смену статуса сверхдержавы XX века на статус великой державы XXI века» [2000]. К сожалению, автор концепции «конца истории» лишь намекает на необходимость такого же пересмотра «коллективных интересов» в США [1999, с. 129], но к таким выводам приходят другие авторы [Бенхабиб, 2003; Закария, 2004; Этциони, 1994].
В Европе искомый синтез интересов и ценностей происходит под знаком императивности инкультурации внутренней и внешней политики. В этой связи показательна книга одного из «властителей дум», британского политолога Л. Зидентопа «Демократия в Европе» [2001]. Он считает, что современная европейская политика «ограничена необоснованно узкими понятиями…». Главное из них – «экономизм», который «пронизывает весь проект объединения Европы» [Там же, с. 41, 232]. Он всецело поглощен экономической конкуренцией и объединяется только по геоэкономическим интересам. «По мере того как сферы внутренней и внешней политики стали перекрывать друг друга…, язык рынка все больше вытеснял… политическую и конституционную терминологию. Лексикон экономиста вытеснил лексикон политического деятеля. Объектом внимания стал не гражданин, а потребитель». «Мы все больше молимся на алтарь экономического роста, а не гражданских ценностей». «Ограниченность экономического мышления делает его опасным» для единства европейских ценностей [Там же, с. 127, 149, 269]. Геоэкономическая «сила не порождает права», потому что «современное понимание национальных интересов изменилось… По мере развития глобального рынка и экономической взаимозависимости граница между внешней и внутренней политикой стиралась… Сегодня нельзя руководствоваться лишь собственными интересами» [Там же, с. 148, 245].
Л. Зидентоп задается вопросом: «Какой тип политической культуры и политической психологии с большей вероятностью получит развитие по мере осуществления европейской интеграции?… Нашей целью должно стать создание в Европе культуры согласия, …культивирование моральных установок и принципов… Нравственные оценки определяют как государство, так и рынок в европейском понимании». «Для успеха европейского федерализма необходима культурная однородность» [с. 29, 31, 180, 181, 192].
Тенденция к инкультурации политики, «прививке» ей универсалистских принципов наблюдается в процессе переосмысления «самости» России, «снятии» оппозиции между славянофильской традицией апологии «национальных интересов» и западноцентристской ценностной ориентацией. В таком контексте характерна статья М. Стрежневой. С ее точки зрения, «под политической культурой... понимается определенным образом интерпретируемый в неком политическом сообществе смысловой контекст политики, совокупность значений, которую придают миру политического члены именно этого сообщества». Такая преамбула вполне приемлема. Иное дело, ее конкретизация: «Политическое сообщество включает отдельных индивидов и социальные группы, которые находятся в процессе постоянной политической коммуникации, тем самым творя …политическую культуру, и могут участвовать или не участвовать активно в процессе принятия властных решений, но склонны при этом соглашаться с теми решениями, которые принимают общие для них органы власти, и сотрудничать в достижении общих политических целей» [2002, с. 3].
По сути это дефиниция цивилизационного, а не культурного феномена, в варианте «не участвовать активно» – и вовсе неполитического. Главное же – остается неопределенным не существующий смысловой контекст культуры, а его содержание. Если оно вырабатывается в коммуникации, которая предполагает как участие, так и неучастие, и лишь «согласие» с органами власти, то это, во-первых, обедняет по определению субъектно-деятельностный, культуротворческий смысл политики и, во-вторых, «согласие» без активного участия в процессе принятия властных решений мы уже проходили в другом политическом режиме.
Подобная априоризация ценностно-смысловой сферы политики и недооценка активной сопричастности к политике приводит к тому, что маятник российской политической философии и культурологии качнулся в обратную сторону. Им «свойствен редукционизм «обратной полярности», т. е. склонность рассматривать культурный план политики в рамках изначально заданных аксиологических схем… стремление вывести принципы реальной государственности из ее идеальных оснований (после тоталитарных искушений XX в.)». Необходим такой синтез, который «открывает путь к преодолению множественности «политологических» и «культурологических» версий природы и оснований публичной власти, а точнее – к обеспечению их взаимодополняемости» [Завершинский, 2002, с. 25].
Искомый синтез, отмечает А. Соловьев, предполагает разрешение коллизии между цивилизационными и социокультурными характеристиками государства: либо как носителя интересов особого рода коллективности, развивающейся на определенной территории; либо как орудия трансляции и распространения ценностей. В действительности, поскольку «государство одновременно действует во всех сферах общественной жизни, а потому носит всеобщий (общесоциальный) характер и является интегративным, консолидированным общественным актором» [2005, с. 2, 12]. Оно призвано «запрячь вместе коня и трепетную лань», быть консолидатором интересов и ценностей как во внутренней, так и во внешней политике.
Оказывается, сложный синтез политических интересов и ценностей в принципе возможен уже с когнитивной точки зрения. В процессе освоения мира любой индивидуальный или коллективный субъект, в том числе политический, проходит закономерную «цепочку». В процессе деятельности он испытывает определенные объективные потребности; они перерастают в направленные потребности – интересы, которые осознаются как цели деятельности; в свою очередь, такие интересы, проходя фильтры рефлексии, воспринимаются как значимые ценности и тем самым – ориентиры и критерии деятельности. В такой логике интересы и ценности не противостоят друг другу, а, напротив, первые находят свое завершение во вторых и, соответственно, вторые вырастают из первых [Левяш, 2004, гл. 5; он же, Базовые…, 2004].
Ныне, в обстановке глобализации, поиск сплава обновляемых национальных интересов и общечеловеческих универсалий в глобальные ценности обрел императивный характер. «Универсальность мира, – отмечает Б. Бади, – можно восстановить только через взаимное уважение, понимаемое не столько как ценностная норма, сколько, в более откровенном его значении, как общественная полезность… Взаимоуважение становится общественной полезностью потому, что постепенно превращается в главное условие нового общественного договора, в главное условие сосуществования в мире… глобализации, т. е. взаимозависимости… Необходимо вернуться к доброй мысли: политика – это наука сосуществования людей в их неповторимости… В этом и состоит истинная универсальность. Это не смерть культуры, это новый подход к политике как инструменту общения разных национальных культур» [Цит. по: МЭиМО, 1998, № 2, с. 17–18].
3.3. «Демократический» глобализм политики: идолы и идеалы«Относительно большинства голосов… мы не лишаем его силы в повседневном обиходе, однако не слишком ему доверяем. На этот счет я не вправе распространяться подробнее»
И. В. Гете
«Демократия, монархия – это сейчас получило другой смысл. Кто верит этим формам жизни как формам? Важно содержание»
В. Вернадский
«Государства западного мира изменили своим демократическим принципам и движутся к тоталитаризму, а демократия становится всего лишь мифом и прикрытием безнравственности»
Иоанн Павел II
Диалектика интересов и ценностей в современной политике обнаруживает стабильное нарастание корреляции между все более заметной «сквозной» политизацией общественных процессов и трансформацией объема и технологий политической власти. В духе М. Фуко В. Межуев утверждает, что, если, по Гегелю, история есть прогресс по пути свободы, то, «судя по XX веку, это далеко не так. Он, скорее, доказывает, что история есть прогресс по пути к власти» [НГ, 2001, № 6]. Впрочем, в многообразии аспектов этого феномена обращает на себя внимание «старый знакомый» – непреходящее противоречие, о котором писал Гете: «Кто над собою не способен властвовать, / тот властвовать желает над соседями».
Такое противоречие традиционно основывалось на особенностях экстенсивного способа существования и развития. Он постоянно воспроизводил замеченную Гете потребность властвования «над соседями» и отсюда – классическую realpolitik в «вертикальном» мире со своим Центром и Периферией. Технологии имперских Центров неизменно были насильственными, как комбинации главным образом «меча» с благословляющим его «крестом». Экспансия всегда являлась в ценностном обрамлении высокого призвания – облагораживания «варваров», «бремени белого человека», призванного свершить цивилизаторскую миссию и т. п.
В наш «просвещенный век» апелляция к таким ценностям живо напоминает волошинскую версию политики как «расклейки этикеток, / назначенных, чтобы утаить состав» [1993, с. 153]. Поскольку «состав» интересов, лежащих в основе таких ценностей, в принципе не изменился, но мир все более становится «горизонтальным» и обнаруживает «сопромат», в неоимперской политике произошел фундаментальный технологический поворот – к экспорту… демократии. В 90-х гг. прошлого века вовлеченный в глобализацию мир накрыла «третья волна демократизации», но по поводу вызванной ею эйфории Р. Дарендорф разочарованно заметил: «Сколько было суеты, сколько шума, но ни одной новой идеи» [1998, с. 195–196].
Однако нуждается ли демократия в концептуальном обновлении? Ведь она – изобретение и одновременно архетип политического разума. У спора о ее «блеске и нищете», достоинствах и ущербности более чем двухтысячелетняя история. Есть смысл кратко воспроизвести сущность, смыслообразующие цели и пределы демократического процесса в духе парадокса: «Разум бывает всегда, но не всегда в разумной форме».
С тех пор, как существует демократия, ее изначальная и непреходящая противоречивость вызывала, с одной стороны, представления о ней как высшей форме политического устройства общества, апологетику «лучшего из миров» демократии, а с другой – отношение к ней как к «больному человеку», ее дискредитацию как аномалии политического процесса.
Уже в древней Элладе – колыбели демократии – ее «детей», судя по более позднему замечанию Цицерона, очень «беспокоили споры о словах». В их эпицентре естественным образом находилось понятие «демократия». Не в этимологическом ключе, а по существу дела.
Древние греки никогда не отождествляли смыслы понятий «политика» и «демократия». Аристотель писал о трех «правильных» формах политического устройства – монархии, аристократии и политии (власти демоса, основанной на гражданской добродетели, и свободе духовной деятельности) и трех «неправильных» – тирании, олигархии и демократии. В последней он усматривал вырождение политии в охлократию – по-видимости власть охлоса-толпы, жаждущей личной пользы и наслаждений, но реально – узкого круга ее ставленников – «демагогов».
С такой оценкой демократии наставника Александра Македонского целиком согласиться невозможно: во многом именно ей человечество обязано блестящим наследием античной культуры – плодами реализации творческого потенциала свободных людей (рабы, женщины, варвары были «за скобками»). Но достоинства нередко находили продолжение в недостатках. Известно, что Сократ критиковал демократических лидеров за дефицит интеллектуальной честности и приверженность политике силы [Поппер, 1992, с. 237, 377]. С каких позиций он это делал? Характерен такой эпизод в изложении греческого историка Ксенофонта: «Но очень многие (в афинском народном собрании) кричали: чудовищно мешать людям делать, что они хотят… И тогда охваченные страхом… согласились рассмотреть этот вопрос – все, кроме Сократа; он же сказал, что ни под каким видом не станет делать то, что противоречит закону» [Хайек, 1990, с. 18]. Парадоксально, но своим законопослушанием Сократ спровоцировал афинский – уже тогда «шемякин» – суд вынести ему смертный приговор.
Трагедия мыслителя – не исключение. «В народных собраниях, – писал Нестор античной истории Плутарх, – никто не мог высказывать своего мнения. Народ мог только принимать или отвергать предложения геронтов и царей» [Цит. по: ФН, 2002, с. 132]. В идеализированных нами Афинах нередкой была практика остракизма, выдворения из города наиболее достойных граждан. Гераклит говорил, что в Афинах «изгнали лучшего среди них, его друга Гермодора, говоря в оправдание: да не будет никто из нас наилучшим, а если есть таковой, то пусть будет в другом месте и у других» [Цит. по: Гегель, 1993, с. 287]. Такая же судьба постигла выдающегося реформатора, неподкупного Аристида Афинского. Во время собрания, где голосовали черепками, один неграмотный крестьянин, не знакомый с ним, попросил написать на его черепке «Аристид». Обвиняемый спросил, не сделал ли он крестьянину чего-либо дурного, и услышал поучительный ответ: «Ничего, – ответил тот. – Я даже не знаю его, но мне досадно, что все называют его справедливым» [Герои…, 1994, с. 151].
В Риме провозглашалось, что «благо народа – высший закон». Однако уже Цезарь полагал, что «республика была только словом». Нельзя сказать, что это не вызывало озабоченности. Так, римский историк Полибий считал наилучшей формой политического устройства Рима синтез монархии, аристократии и демократии. Но таков был запредельный идеал. Феномену разгула «черни» уже в этой ипостаси посвятил свою пьесу «Кориолан» У. Шекспир. Солженицынский «зэк» Руська, освоив книгу Т. Моммзена «История Рима», констатировал: «История до того однообразна, что противно ее читать…Чем человек благородней и честней, тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов – и простолюдины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел накормить хлебом голодный народ – и казнен… Марк Малий, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас Капитолий, – казнен как государственный изменник!» [Солженицын, 1991, с. 83].
Стоит ли удивляться, что античная триада монархии, аристократии и демократии постоянно деградировала – буквально по Аристотелю – в тиранию, олигархию и охлократию жаждущих только «хлеба и зрелищ».
Обсуждая реалии демократии, резонно проследить ее дальнейшие исторические пути, перепутья и тупики, но в рамках краткого экскурса приходится в «машине времени» переместиться в Современность и обратить внимание на парадокс Г. Честертона: «Деспотию можно определить словами «усталая демократия». На пороге XX столетия И. Шоу-старший в книге «Человек и Сверхчеловек» заявил: «Мы должны или воспитывать в себе политические способности, или погибнуть через демократию, которую навязали нам прежние печальные альтернативы» [Цит. по: Шпенглер, с. 454].
Шпенглер напомнил это резюме по принципу «не к ночи будь сказано». После бисмарковского авторитаризма в Германии сползание к либерализму, а от него – к тоталитаризму началось уже сразу после Первой мировой войны. Характерна беседа М. Вебера с Людендорфом в 1919 году. Канцлер упрекнул его, как редактора газеты «Франкфуртер цайтунг», в том, что она защищает демократию. «В.: Вы думаете, что то свинство, которое мы имеем сегодня, я принимаю за демократию? Л.: Если Вы так говорите, мы с Вами, может быть, найдем общий язык. В.: Но свинство, которое было раньше, тоже не было монархией. Л.: Что Вы считаете демократией? В.: В демократии народ выбирает вождя… Затем избранник говорит: «А теперь заткнитесь и подчиняйтесь!». Народ и партии не смеют и пикнуть. Л.: Мне такая демократия подходит. В.: Потом народ может судить. Если вождь совершил ошибки, то пусть лезет в петлю» [Цит. по: Арон, 1992, с. 580].
Эта беседа оказалась мрачным пророчеством. Ни один современный ответственный политик не вправе предавать забвению «порочное зачатие» нацизма в демократическом чреве. И тем не менее в мире насаждается, говоря словами А. Салмина, «миф демократии». Особенность этого мифа заключается в том, что, поскольку тоталитарно-демократический король оказался «голым», этот расхожий миф предстает в гораздо более респектабельной форме либеральной демократии.
Такая смысловая связка по определению не легитимна. По Валлерстайну, демократия и либерализм вовсе не являются двойниками, а в большинстве представляют противоположности. «Либерализм… изобрели для противодействия демократии. Он был призван разрешить проблему сдерживания «опасных классов» – сперва в рамках ядра государств, а затем в рамках всей миросистемы. Выход, который предлагал либерализм, сводился к тому, чтобы предоставить почти всем ограниченный доступ к политической власти и к доле прибавочной стоимости – … на уровне, неспособном угрожать процессу непрекращающегося накопления капитала и той государственной системе, где он развивался» [Полис, 1996. № 4].
В результате повсеместно отмечается размывание смыслового ядра демократии до такой степени неопределенности, что она предстает как «понятие, которое решительно не поддается определению» [Лейпхарт, 1997, с. 38]. Это понятие стало, по словам Ф. Закарии, «аналитически бесполезным» [2004, с. 14]. М. Доган утверждает: «В настоящее время слово «демократия» без предшествующего определения в большинстве случаев оказывается обманчивым» [Политическая наука…, 1999, с. 135].
Казалось бы, скепсис относительно демократии нарастает прямо пропорционально удалению ее «третьей волны» от традиционных центров. С точки зрения П. Ратленда, «хотя сейчас формально демократические институты получили распространение в большем количестве стран, чем когда-либо прежде в истории, качество этих демократий оставляет желать много большего. Существует и широко признается разрыв между формой и содержанием… Оптимизм по поводу демократического вектора развития в 80-е годы сменился растущим осознанием пределов распространения демократии» [2002, с. 16, 17].
Однако чешский политолог Л. Вацулик усматривает глубинную причину в состоянии демократии как раз в ее цитаделях. Он отмечает, что «в посттоталитарных странах должны бы формироваться системы, построенные на уроках как социализма, так и капитализма. К сожалению, новый строй не находит пока решения старых вопросов… коммунизм у нас пал, но причины – почему он возник – остались. Новый строй тоже нуждается в присмотре. Иначе прав будет философ…, который недавно высказал ужасную мысль: капитализм развился уже настолько, что почувствовал силы избавиться от демократии» [Цит. по: Известия, 21.08.1998].
Процесс зашел достаточно далеко. По определению Ф. Закария, в США он ведет «к появлению своей версии нелиберальной демократии». Более того, – и мало кто в Америке дерзает на столь рискованное резюме – «американская система характеризуется не демократичностью, а именно недемократичностью, поскольку в ней существуют разнообразные ограничения прав большинства избирателей» [2004, с. 11, 12]. В начале 60-х годов более 70 % американцев были согласны с утверждением, что правительству в Вашингтоне можно доверять. Спустя 30 лет соответствующая цифра упала до 30 %. В итоге «большинство граждан утратило веру в американскую демократию» [Там же, с. 172].
Таковы далеко не единичные констатации и оценки. К. Лэш отмечает: «Растущая очевидность широко распространенной неэффективности и коррупции, падение производительности в Америке, преследование спекулятивных целей в ущерб производственным, устаревание инфраструктуры, нищенские условия охваченных преступностью городов, тревожный и постыдный рост бедности и расширяющаяся пропасть меду бедностью и богатством – эти тенденции, зловещие последствия которых уже невозможно более не замечать и скрывать, вновь открыли исторический спор о демократии. В час блестящей победы над коммунизмом демократия у себя дома подвергается тяжелым испытаниям, и ее критика усилится, если деградация продолжится такими же темпами, как сейчас. Формально демократические институты не гарантируют дееспособный социальный порядок» [Lasch, 1996].
Большой бизнес уже не нуждается в демократии даже как фиговом листке, и поистине «дорогого стоит» циничное откровение главного экономиста Всемирного банка К. Руэла в интервью журналу Newsweek: «Будучи инвестором, демократией на самом деле не интересуешься» [Цит. по: МН, 10–16.09.2004].
Этот мартиролог демократии можно без труда умножить, и уместно поставить вопрос: какова первородная сущность, «субстанция» демократии, способной тясячелетиями порождать столько надежд и разочарований, скоротечных мифологемных масок и их едва ли не фатального падения? Возможно, констатируя затруднения политологического знания, полезно обратиться к объясняющему потенциалу психоанализа.
Ф. Виттельс, известный психоаналитик З. Фрейда, в биографии своего учителя рассказывает о знакомстве учителя с феноменом дефицита собственного «я». До Первой мировой войны Фрейд «знавал» в полиэтничной Австро-Венгерской империи «легкомысленную дамочку», которая каждую ночь проводила в другой казарме. После ночи, проведенной в кавалерийских казармах, она на следующее утро говорила с венгерским акцентом гусар. После казарм пехотинцев она говорила на недурном чехо-немецком языке, а от уланов возвращалась едва ли не полькой. «Она идентифицировала себя регулярно с теми лицами, объектом любви которых она как раз была, и, в конце концов, она сделалась типичным примером «множественной личности» [Виттельс, 1991, с. 160].
Демократия – типичная «множественная личность». В принципе она может быть и либеральной, и тоталитарной, и авторитарной, хотя степень ее комплементарности с различными формами политического устройства – «переменная величина». Верно отмечено, что «демократический миф, взращенный европейским Просвещением, господствовал в политической сфере эпохи модерна безраздельно. К нему апеллировали и либеральные, и коммунистические, и националистические идеологии. Каждая из них, а также опиравшиеся на них политические системы, оспаривали друг у друга право называться наиболее демократическими, т. е. соответствующими идее «правления народа» [Полис, 2000, № 3, с. 12]. Как воспоминание о будущем демократии, прозвучала статья «Демократизация – вежливость королей» об изменениях реликтовой политической системы в некоторых государствах Ближнего Востока: «Если завтра в Саудовской Аравии вдруг провозгласят демократию, то к власти могут прийти силы гораздо более реакционные, чем даже «Талибан» в Афанистане» [НГ, 10.02.2005]. Как мудро говорят на Востоке, «из ишака не вырастить рысака».
Чем объяснить такую шокирующую всеядность? Демократия нейтральна, потому что она не «что», а «как», не особая сущность или субстрат политической жизни, а всего лишь технология власти. Не какова демократия, такова и политика, а наоборот, какова политика, такова и демократия. Возомнившая себя не только формой, но и паче чаяния – универсальным содержанием, демократия напоминает «сумасшедшее фортепьяно» – образ французского просветителя XVIII в. Д. Дидро. Безумие инструмента заключалось в том, что оно возомнило самое себя творящим музыку. Нет, политическую «музыку» творят «композиторы» – либеральные, тоталитарные или авторитарные субъекты, а демократия, как технология, ее «озвучивает», воспроизводит. Но верно и то, что, по словам А. Михника, «обращению с демократией, как и обращению с женщиной, нужно учиться».
Однако многие идеологи «демократической волны» первой половины 90-х гг., не дав себе труда учиться демократии, уже научали ей, «под собою не чуя страны». Драма России последних поколений в том, что им внимали. В итоге – «разочарование в демократии» ее недавних сирен. Один из прорабов перестройки Г. Попов прямо пишет: «Наша перестройка и последующие годы преобразований показали, что формально-демократическая модель Запада не подходит России для осуществления реформ. Эта модель возникла в другом обществе и в результате другого исторического развития. Я думаю, что полную и формальную демократию нам необходимо и нужно иметь на первых двух этажах нашей общественной жизни: на низшем уровне – трудовые коллективы, колхозы и т. д. и на втором уровне – поселки и города. Все, что выше, должно формироваться по другим принципам. Кратко говоря, надо уйти от популистской демократии» [НГ,