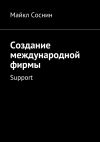Автор книги: Илья Левяш
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«Кто мы? Откуда мы? Куда мы?»
П. Гоген
«Речь идет о необходимости преодоления таких клише, как «общество, основанное на знаниях», «информационное общество», «постиндустриальное общество», «общество услуг», «инновационное общество», и других с префиксом «пост-»
А. Ракитов
Если абстрагироваться от апологетики Модерна, то ответы мыслителей, которые, говоря словами И. Валлерстайна, делают за постмодернистов «работу» постижения сути Современности, можно условно подразделить на радикальные и умеренные.
Первая из таких интерпретаций возвращает к формуле Б. Латура «Мы никогда не были современными». Действительно, очень многое в Модерне – от отупляющего конвейерного труда, гетто изгоев мегаполисов, массовой безработицы, благотворительного «хлеба» и «зрелищ» масскульта, через каннибальский триумф Хиросимы и явление Зверя из бездны Освенцима, до культа «Разве я сторож брату своему?», массовых жертв террора, «шоковой терапии» и глобальных «гуманитарных интервенций» и т. п. – слишком многое свидетельствует скорее о возвращении и модернизации архаики и варварства, чем реальности Современности в сущностном смысле. Отсюда – заключение М. Фуко: «Скорее, чем пытаться различить «период современный» от эпох «до» или «постсовременных», стоило бы попытаться посмотреть, каким образом установка на современность… оказалась противостоящей по отношению к этим установкам на «антисовременность» [1996, с. 344–345].
Однако такой «приговор нашему времени» (так формулировал свое отношение к своей эпохе Ф. Ницше), возможно, связан с исходной мифологемой Модерна как «обетованной земли», которая обернулась «утраченным раем». Если, в терминах М. Вебера, вычленить целе– и ценностно-рациональное ядро Модерна, то приходится констатировать, что современный (в темпоральном смысле) этап эволюции человечества принципиально не вышел из триединой системы координат, заданной ранним Модерном, – его рационализма, редукционизма и эволюционизма. Он действительно сдержал свое Слово – создал величайшую цивилизацию, и в этом смысле сокрушение нью-йоркских Близнецов современное варварство, и понятная в этой связи символика террора никак не является его алиби.
Реальная проблема по критерию человекотворчества – в культурном измерении. Картезианский культ Разума оказался ящиком Пандоры. Из его фаустовского логоса вышел бентамовский Паноптикум, под которым мефистофелевский «хаос шевелится». Драма Модерна не оставляет сомнений, что человеческое творчество лишь начинается со свободы выбора, но она далеко не всегда есть выбор свободы. Человек не стал мерой всех вещей. Поэтому «остановить мгновение», даже если его вербальное имя – Современность, нет ни возможности, ни смысла.
В этом ракурсе глобализация пока по преимуществу изменила не сущность, а структуру и масштабы модернизации как процесса, придавая ему характер планетарной тенденции. Если принцип редукционизма сыграл с модернизацией по преимуществу дурную службу, то принцип эволюционизма сохраняет немалый позитивный потенциал. В целом это означает, что объективно перед нами – тенденция не к «пост», а к позднеиндустриальному обществу. Позднему – потому что знания, информационная революция принципиально не изменили архетип индустриальной цивилизации, не стали панацеей человекотворчества субъекта труда. Они лишь обостряют это глубинное противоречие позднеиндустриального мира. Цивилизация только входит в фазу развертывания этого противоречия, начиная от каждого человека и устремляясь в глобальную ойкумену. Эта фаза, если человечеству не изменит инстинкт самосохранения и оно не допустит техногенного экосуицида, необратимой мутации в безумии ауто-клонирования или тотальной террористической катастрофы, в обозримом будущем обещает быть длительной. Она непременно, порой до неузнаваемости, будет менять маски.
Такой вывод, на первый взгляд, противоречит реальности. Еще недавно общество Модерна представало в двух «масках» – капитализма и социализма как модальностях «единого» индустриального общества. Теоретически в его парадигму вписываются обе ипостаси. Однако «реальный социализм» оказался колоссом на глиняных ногах (оба слова в кавычках: это был не социализм, и уже поэтому – не реальный). Предметное обсуждение этой проблемы выходит за рамки замысла раздела [Левяш, 2004, гл. 13]. Здесь же, с позиций принципа развития, важно подчеркнуть, что основная причина катастрофы – нарастающее несоответствие этого «социализма» исходному постулату базового триединства Модерна – рациональности. Идеократия, с одной стороны, абсолютизировала редукционизм системы, а с другой – блокировала его эволюционный потенциал, неуклонно снижала его организационную способность адекватно отвечать на новые вызовы, прежде всего – глобализации. Как отмечал Н. Винер, мангуста успешно соперничает с коброй не потому, что она физически сильнее ее. «Секрет» в том, что «образ действия змеи сводится к одиночным… броскам, тогда как мангуста действует с учетом некоторого отрезка всего прошлого хода сражения… Смертоносность ее нападения основана на гораздо более высокой организации» [1968, с. 249].
Известные теоретики западного мира поспешили возвестить его «полный и окончательный» триумф и в этом смысле – «конец истории» (Фукуяма). «Самоуверенность силы» (Дж. Фулбрайт) позволяет роскошь благодушных шуток. Так, Д. Белл компенсировал неудачу своего прожекта «постиндустриального общества»… поражением социализма в СССР. «Да и чем был коммунизм, – остроумно, но не глубоко писал он, – если не «самым длинным в истории путем от капитализма к капитализму», как гласит одна русская шутка?» [2005, с. 16].
К сожалению, Белл пренебрег другой известной сентенцией: «Над кем смеетесь?». Самоназванный «реальный социализм» эволюционизирует отнюдь не к той модели капитализма, который, вопреки своим противоречиям, Маркс высоко оценивал на шкале общественного прогресса, а к его современной, глубоко деформированной засилием спекулятивного капитала, модели, которая бессильна быть маяком для народов, ищущих адекватную Современности модель общественного устройства.
Однако, если рассуждать без иронии – проблема на порядок сложнее, и ее точно формулирует американский футуролог Э. Тоффлер: «Мы присутствуем при распаде Системы. Не капиталистической системы и не коммунистической системы, а Системы, которая охватывает все» [1989, с. 31]. Тотальный характер распада успевших стать традиционными общественных систем свидетельствует об основном противоречии эпохи – переходе к позднему Модерну в ситуации глобального крупномасштабного и потенциально опасного разлома между зрелыми – средне – и неразвитыми субъектами мирового сообщества. Концептуальное постижение этого противоречия может быть адекватным только на базе целостной теории социального развития. Его формационная «анатомия» и культурно-цивилизационная «физиология» должны быть поставлены в контекст Современности, которая в условиях глобализации заметно обновляет свою сущность.
2. Сущность глобализации: формула креста
2.1. Кто Сфинкс, кто Эдип?«Nomen est numen, numen est nomen» (лат. – «Называть значит знать, знать значит называть»)
«Кто же здесь, собственно, задает нам вопросы?… Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс?»
Ф. Ницше
Если декодировать античную метафору, то Сфинкс – еще не ведающий себя Эдип, и вопрос, который она задает Эдипу, это его вопрос к самому себе. Перенесенный в «машине времени» в Современность, извечный вопрос мог бы звучать так: «Что есть человек в условиях глобализации?». Вопрос остается открытым, хотя интенсивность посвященных ей публикаций в конце XX – начале XXI столетий напоминает «большой взрыв». Он предстает как рассеянное проблемное поле, потому что его смысловой эпицентр трудноуловим. По преимуществу речь идет о некой анонимной «глобализации», но не о человеке в ее гераклитовом потоке. Как утверждает один из авторов, в дискуссиях на эту тему «за какофонией слов («глобализация», «глобальность», «глобализм», «глобалофобия» и пр.) скрыты споры о фундаментальных вещах» [Mingst, 1999, с. 87], включая отмеченную А. Тойнби тенденцию к смешению единообразных признаков (unification) с подлинным единством (unity) [Toynbee, 1934, с. 150] и даже тотальное отрицание предмета постижения [Bartless, 1998]. Отсюда озадачивающий вопрос: «Если наш язык беспомощен перед лицом реальности, что же тогда произошло?» [Бек, 2002, с. 10].
Назрела потребность в декодировании загадки Сфинкс – культурно-цивилизационном измерении проблемы глобализации. В первой части монографии сделана попытка обосновать философско-методологические предпосылки постижения этого феномена. Вторая часть посвящена анализу антропных истоков, оснований, структуры и динамики глобализации. Эта цель конкретизируется по принципу «бритвы Оккама» – минимизации совокупности задач соответственно структуре работы.
Очевидны планетарные масштабы, тектоническая энергетика, драматическая разновекторность и высокая степень неопределенности трансформации «глобального общества риска» [Бек, 2002, с. 10]. В первом приближении эти признаки дают основание метафорически представить это общество в гоголевском, вначале адресованном России, образе птицы-тройки, которая не дает ответа, куда она «несется». Ныне «тройка» достигла судьбоносного перекрестка – «равновероятия» планетарной революции в способе и обстоятельствах человеческой деятельности или утраты ее человекотворческого смысла, тотальной деградации и вполне предсказуемой антропологической катастрофы.
Такая нераздельность масштабов процесса и беспрецедентные для человечества риски его динамики могут быть адекватно выражены архетипическим символом Креста. Тем, кто еще не вышел из суровой атеистической «шинели», шитой недавними прокрустами, это может показаться лишь «воспоминанием о будущем» Голгофы и форой принципиальным антиглобалистам. В действительности же крест – «богатейший по значению, древнейший и широко распространенный символ… Крест является не только эмблемой христианской веры, но и более древним универсальным символом Космоса, сведенным к простейшей форме – две пересеченные линии символизируют четыре стороны света… Крест был также знаком, символизирующем Древо Жизни»… крест – это знак не только страдания и смерти, но и добра и бессмертия» [Трессидер, 2001, с. 169–170].
Единый, неделимый и вместе с тем амбивалентный по смыслам Крест – простейший и предельно напряженный символ хронотопа мира современного человека, средостение его пространства-времени. Его горизонталь, или топос – не предзаданное «вместилище вещей», а деятельно творимое жизненное пространство с не линейной и «монадно» не самодостаточной, а скорее матричной структурой субпространств авторов и актеров культурно-цивилизационной драмы. Вертикаль креста, или хронос, это также не предзаданное «вместилище событий», а деятельный процесс человекотворчества, обновления человека и его мира.
Пространственная и темпоральная организация мира претерпевает глубокую трансформацию. Она все более подтверждает теорию относительности, согласно которой пространство-время являются целостным континуумом их взаимодействия. Современный мир – не плоскость и даже не «шахматная доска» одномерной геополитики, а сфера. Т. де Шарден определял его геометрический образ в терминах «скручивания», «свертывания на себя», «мира, который свернулся». «Мир без границ, где утрачивают былое значение территории и расстояния, начинает обретать реальные очертания. В новом социальном пространстве время ускоряет свой бег…. Процесс социального взаимодействия интенсифицируется, приобретает невиданную ранее динамику» [Кувалдин, 2000, с. 13].
Такие кардинальные сдвиги приводят к полной переоценке представлений о хронотопе в условиях глобализации. Если до нее экономическое и политическое развитие было принято трактовать диахронно, как смену стадий или событий пространственно разделенных границами суверенных государств, то такое понимание сменилось синхронным видением, которое фиксирует события одновременно, не разделяя их пространством и временем [Ратленд, 2002, с. 15].
Человеческий род прошел действительно крестный путь – от доисторических первобытных анклавов до глобальных масштабов, переусложненной структуры и зримой динамики современности, путь все более смыслоемких падений и воскрешений. В наше время это путь глобализации как «крестной» целостности планетарного мета-пространства/мета-времени.
Такая целостность «развивается по своим собственным законам» [Дольфюс, 1998, с. 16] и «соль» проблемы в том, чтобы их выявить.
Поскольку речь идет о действительно «фундаментальных вещах», их семантико-семиотическая идентификация требует кардинальной переоценки практически всех смысло– и системообразующих концептов. Без такой переоценки дискурс избранной проблематики практически невозможен. Почему именно в этом исходный пункт постижения проблемы?
Именование мира и его феноменов – изначальное условие трансформации его хаоса в упорядоченный космос мировоззрения человека. Уже в ветхозаветной традиции Творец наделяет первочеловека даром именовать все вещи, кроме своей Жены, но символично, что лишь после изгнания из рая он сам наделяет ее именем Ева (Жизнь). Цену такого дара ясно представляли в древнем Китае. Император Цинь Шихуанди говорил: «Я внес порядок в скопище сущих и подверг испытанию все дела и вещи; теперь у всего есть подобающее ему имя» [Цит. по: ЛГ, 18–24.09.2002]. М. Т. Цицерон заметил, что духовную жизнь античного мира «давно мучают споры о словах». Это были споры о символико-знаковом выражении логоса человека и его мира. Nomen est numen (называть значит знать) – утверждали римляне.
В этом культуротворческом процессе неизбывно не только когнитивное, но и аксиологическое измерение. Издавна известны не только неразрывная связь между объективной реальностью и ее вербальным выражением, но и неотделимые от этой связи страсти об их смыслах. Нередко это приводит к феномену «сумасшедшего фортепьяно», о котором писал французский просветитель Д. Дидро: оно возомнило, что само издает звуки. Это эдипов бунт сына против отца, но, в отличие от мифологического персонажа, это не «убийство», а попытка сына, в данном контексте – языка поставить на колени отца – творящую вербальный (и в иных формах) язык практико-преобразующую деятельность человека.
Страсти по глобализации – последняя веха в такой семантико-семиотической одиссее. Термин «глобалистика» (англ. global – всеобщий, глобальный) впервые введен Т. Левиттом в статье в «Гарвард бизнес ревью» (1983) как междисциплинарное знание о глобализации — неклассическом объекте исследования. Еще полтора десятилетия назад его теоретическое освоение было едва ли не terra incognita. Примечательно, что вплоть до 1987 г. база данных библиотеки конгресса в Вашингтоне не содержала книг, в названии которых использовалось данное понятие [НГ, 10.06.2001]. Это индикатор того, что глобализация – феномен, к которому не применима логика «Совы Минервы» – в целом завершенного, «во всеоружии» познания основных закономерностей постигаемого процесса.
Естественно, что в таком, буквально «на марше», постижении предмета заметна когнитивная закономерность, «схваченная» в опыте семантической философии. Один из тех, кто стоял у ее истоков, – армянский мыслитель Давид Анахт (V–VI вв. н. э.). С его точки зрения, если нечто можно назвать, то есть дать ему имя, то это будет только началом определения, вычленением предмета из всего прочего, но еще не самим определением. Постижение определяемого предмета начинается с описания совокупности его признаков, но и они могут быть существенными и несущественными. Только когда определяемый предмет постигается как совокупность существенных признаков, можно говорить о том, что он действительно определен [Лосев, 1992, с. 41].
Познание глобализации – метаобъекта «последнего поколения» – изначально оказалось в плену общенаучного методологического парадокса – неразличения объекта и предмета, а в нашем ракурсе – неразличения такого объекта, как человек и его мир в условиях Современности, и предмета – инновационного процесса его трансформации. «Лицом к лицу – лица не увидать», и в такой когнитивной ситуации неизбежно преобладает специализированное, расчлененное знание, редукция многоликой глобализации к одной из ее ипостасей, которая ныне лидирует – объективно либо в представлениях исследователей.
Отсюда – трудности именования глобализации, попытки ее декодирования под углом зрения «любимых идей каждого философа» (Энгельс) – принципов эконом-центризма, социальности, геополитики, информации и т. п. Основной принцип «экономического общества» ныне мимикрирует под именем глобализма. Не ставя под сомнение объективную реальность процесса глобализации, У. Бек полагает, что неолиберальный «глобализм это мыслительный вирус, который за последнее время поразил все партии, все редакции, все институты. Не то, что люди должны действовать экономически, является его догматом, а то, что все и все – политика, наука, культура – должны подчиниться примату экономического» [Цит. по: Полис, 2003, № 6, с. 171].
Возникает угроза «расчленения» предмета глобалистики или, точнее, необретение такового [Чешков, 1999, с. 44], и наблюдается описанный А. Экзюпери синдром. Некий турецкий астроном на международном конгрессе в Париже сделал доклад, но с ним не согласились. Шокировал его тюрбан. Через три года турок выступил снова, но в европейском костюме, и с ним согласились. Новая информация оказалась приемлемой при условии снятия непонятного символического «барьера».
Источник дефицита глобализационного дискурса на порядок сложней. Точнее, «тюрбаны» специализированного знания по-прежнему вызывают взаимонеузнавание. Проблема в том, что именовать инновационный объект/процесс в соответствии с его сущностью – значит обладать способностью построения адекватной ей теоретической модели и методологией ее практического освоения. «Нужны, – пишет А. Казанджегил, – соответствующие способы научных изысканий, качественные данные и подходящие теоретические модели» [МЖСН, февраль 1999, № 4, с. 114].
Именовать – в принципе непреходящая культуротворческая задача, но она особенно сложна в переломные эпохи, когда распадается известная «связь времен», но иная еще неведома. Ранее отмечалось, что в конце 90-х гг. один из «властителей дум» сформулировал императив панглобализма. «Глобализация – термин, который должен занять ключевое место в лексиконе общественных наук» [Гидденс, 1999, с. 113]. В своем пределе это аналогия с ортодоксальным католицизмом (греч. katholikos – всеобщий, всеохватывающий, и католическое есть то, «что признается повсюду, всегда и всеми»). Такое долженствование – еще не сущее, и остается более семиотическим (знаковым), чем семантическим (смысловым) вектором. Это объясняется прежде всего объективными трудностями освоения процесса, очевидного по своему беспрецедентному масштабу, но еще во многом латентного в сущностной глубине. Глобализация, как ключевой термин, претендует на парадигмальную интеграцию знания, но, исходя из его реального состояния, такая претензия по меньшей мере преждевременна. Более того, панглобализм выявляет себя как транзит в неопределенном направлении – то ли от планетарного хаоса к новому космосу, то ли «с точностью до наоборот».
Тем более настоятельной становится необходимость постижения универсальной сущности глобализации. Глобалистика – зреющий плод освоения этого универсума. Ее призвание, говоря словами классика, постижение «не вещественности сути», а «сути вещей». Испытывая потребность в мониторинговом аналитическом описании фрагментов процесса и их аддитивной суммы в духе «теории факторов», она вместе с тем призвана быть синтезом результатов развития основных ветвей научного знания – обществоведения, естествознания и техникознания – с целью исследования истоков, сущности, структуры, технологий и тенденций целостного процесса – выживания и свободного развития в современную эпоху рода «Человек».
Какое знание в принципе обладает методологией, адекватной постижению этого неведомого ранее феномена? «Много званых», но претензии эконом-центризма или realpolitik на роль «избранных» вызывают обоснованные сомнения. Вполне основательна и «отставка» беспредметной версии глобализации с позиций такой интерпретации культурологического знания, в котором «Культура есть все и все есть Культура» [Чешков, 2002, с. 27]. Истоки такого «абсолютизма» – и в некогда объемлющей необъятное античной «науке наук», и в жесткой смыслообразующей оппозиции Возрождения/Просвещения «натура – культура». С тех пор человечество не только успело заглянуть в бездны, но и побывать в них, и стало очевидным, что далеко не «все» в мире человека подлинная культура.
Претензии культурологии (в нынешнем состоянии) отнюдь не случайно дают основание для иронии. В ее всепредметном, а посему – безпредметном поле «все глобальные кошки серы» прежде всего потому, что она не различает триединства своей alma mater – фундаментальной триады «культура – цивилизация – варварство» [Левяш, 1999, с. 43; 2001, с. 25–30], игнорирует методологически принципиальную максиму: «Одной из важнейших причин, почему в хаотической картине исторической внешности не была усмотрена истинная структура истории, было неумение взаимно отделить друг от друга проникающие комплексы форм культурного и цивилизационного существования» [Шпенглер, 1993, с. 74].
Однако экспансия той или иной формы знания в пространстве глобалистской проблематики, помимо затруднений когнитивного характера, имеет и социально-политическое измерение. К. Маркс писал: «Если принцип приведен в действие, он сам собой пронизывает все свои следствия» [Соч., т. 1, с. 550]. Исключения не составляет и такой принцип: даже геометрические аксиомы отвергаются, если задевают интересы людей.
Разнонаправленные интересы и ценности акторов глобализации приводят к возведению Башни единой глобальной цивилизации, и вместе с тем высокая вероятность того, что ее постигнет судьба Вавилонской предтечи.
Глобализация, как арена столкновения самых разнообразных, вплоть до антагонизма, интересов, стала далеко не академическим ристалищем смыслов и ценностей. «Какафония» стоящих за ними интересов свидетельствует о том, что, как отмечал отец американской исторической науки XX в.
А. Шлезингер, «язык связывает политику с реальностью» [1992, с. 623]. «Всяк сущий» язык, который маркирует глобализацию, действительно связан с политикой, и возможно, к глобализации более, чем к любому иному феномену, относится ироническое размышление А. Солженицына о том, что язык – «никакая не надстройка, а просто себе язык», и если он «буржуазный или пролетарский», «надстройка или базис», то возникает «тупик какой-то» [1991, с. 155, 156].
В таком ракурсе есть смысл, воздав должное античному «nomen est numen» (называть значит знать), переформулировать его в поисковом ключе: «numen est nomen» – знать значит называть.
Глобалистика – современное интегративное движение, которое синтезирует результаты развития основных ветвей научного знания – обществоведения, естествознания и техникознания – с целью исследования истоков, сущности, структуры и тенденций выживания и свободного развития рода «Человек». Это необходимая научная предпосылка становления и формирования «планетарного мышления» (В. Вернадский), разработки стратегии решения глобальных проблем современности и практических действий по ее реализации. Такое понимание – не геометическая аксиома, и оно прокладывает путь между Сциллой pro и Харибдой contra глобализации. Этим обусловлена предельно широкая амплитуда взглядов, глубоко противоречивое отношение к глобализации – от апологетики панглобализма до ксенофобии антиглобализма.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!