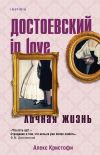Текст книги "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"
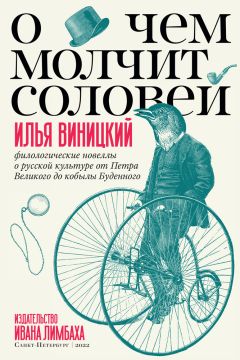
Автор книги: Илья Виницкий
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Перейду, как говорил мой коллега Щебень, к недопереваренным заключениям. Этимологическая связь привлекшего наше внимание эвфемизма с голландским выражением, опробованным в русской литературе XIX – первой трети XX века, имеет не только спортивно-филологический интерес. Выяснение этой родословной (при всех остающихся еще пропусках в цепочке) раскрывает механизм фонетической русификации и, простите за выражение, нарративизации и мифологизации (emplotment) подобных случаев.
Как я постарался показать, крепкий эвфемизм «едондер-шиш», приписанный в XX веке артиллеристу Льву Толстому, возник, по всей видимости, еще в XVIII веке и постепенно – прежде всего благодаря роману Сологуба и рассказу Елпатьевского – обрел свою собственную культурную биографию, продолжающуюся и в наше время. С определенного момента это выражение, перефразируя Романа Якобсона, потеряло какое-либо отношение «к моржам и Голландии», войдя в семью русских экспрессивных «заумных» словечек вроде «енфраншиша» Белого, «дыр бул щыла» и «шишей» Крученых (Табу-э-шиш, заимствованный у Пушкина) и очень отдаленно и, возможно, фантастически «Швондера» у Булгакова и «барона фон дер Пшика» из военной сатирической песенки Леонида Утесова.
Изменилась со временем и экспрессивная семантика этого выражения: от изначального военно-морского чертыхания (в прямом смысле вербальной канонады) до замены матерного слова, означающего конец или крайнюю степень чего-либо (например, дурости), и маскировки другого нецензурного речения, подразумевающего небывалое сношение (его прямо называет в пересказе крыловского анекдота академик Капица, женатый на внучке толстовского сослуживца). Главное же – культурное – обаяние этого эвфемизма заключается в его бессмысленной (и потому загадочной, или, как говорится в «Петербурге» Белого, каббалистической) для носителя языка «внутренней форме», равно привлекательной для автора-народника, символиста, моралиста-толстовца или детского писателя.
Наконец, не будет преувеличением сказать, что русская одиссея этого эвфемизма представляет собой в сжатой форме историю эстетической игры и идеологической борьбы со сквернословием в разных социальных и политических контекстах – кампании по искоренению матерных слов в армейской среде в эпохи Александра II и Александра III, модернистское вслушивание в экспрессивную лексику как источник художественного вдохновения, отношение к сквернословию толстовцев, проблема использования нецензурной брани как внутреннего сопротивления в ГУЛАГе, о которой писали не только Солоневичи, но и академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и Александр Исаевич Солженицын, советская борьба с матом (как писал еще один – красный – Лев: «Матерная брань есть наследие рабства, приниженности, неуважения к человеческому достоинству») и постмодернистская эстетизация нецензурной лексики, нынешняя государственная политика против сквернословия и бунт против лингвополицейских мер некоторых писателей и критиков. Но это уже отдельная тема, в большой степени вовлекающая в свою орбиту, елки-палки, политику.
Чтобы не заканчивать на неприятном, укажу на одну неожиданную – можно сказать, высокую – трансформацию привлекшего наше внимание голландского выражения. В романе Аллы Кторовой «Лицо Жар-Птицы», впервые напечатанном в 1960-е годы, «дондер-шиш» упоминается как окказиональное наименование «самой модной итальянской прически» – то есть, как нам указали Юлия Трубихина и Ирина Сироткина, прически с «высоким пучком» кондибобером или «всклокоченными шишом» волосами, – как у Одри Хепберн (единственная связь с Голландией здесь – по матери любимой актрисы).
КонецКак мне указала одна добрая душа, в публикации этой заметки в Горьком я совсем упустил из виду, что в VII главе четвертой части последнего тома «Войны и мира» матерящиеся солдаты получают нагоняй от мелкого начальства, а в IX, где, как и в анекдоте Крылова, заумь вызывает обсценные ассоциации и объединяет в счастливом порыве солдат и офицеров:
– Ну-ка, ну-ка, научи как? Я живо перейму. Как?.. – говорил шутник-песенник, которого обнимал Морель.
– Vive Henri Quatre, Vive ce roi Vaillant! – пропел Морель, подмигивая глазом. – Сe diable à quatre…
– Виварика! Виф серувару! сидябляка… – повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев. – Вишь, ловко! Го-го-го-го-го!.. – поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот.
Отталкиваясь от текста исполненной Морелем песни в честь короля Генриха IV, предлагаю веселому читателю исполнить эту старую песенку на русский лад:
Vive Tolstoi! Vive ce Leo vaillant!
Ce diable à quatre a le triple talent,
De boire, et de se batter,
et d’être un Vert galant!
(«Да здравствует Толстой!
Да здравствует сей храбрый Лев,
Cей четырежды черт, имевший тройной талант:
Пить, драться и быть любезником».)
Если же кому-то непременно нужна мораль к сему фило-охотничьему диптиху о неприличном Толстом, то рискну предложить перифраз мудрых и откровенных слов эксцентричного поп-исполнителя из доброй английской комедии «Реальная любовь» («Love actually», 2003):
Привет, детки! Есть сообщение от дедушки Лео: «Не ругайтесь матом!» Становитесь знаменитыми писателями, и каждому вашему нецензурному слову будут аплодировать читатели и посвящать свои работы филологи.
У меня все, сосьете (как сказал бы сологубовский инспектор Вкусов). Едондер-шиш (он же пуп) и сидябляка!
«Епиходов кий сломал»:
Что нашел Антон Чехов в русской непристойной поэзии[4]4
В соответствии с законодательством о СМИ, обсценная и возбуждающая лексика, проникшая в том числе в имена героев этой статьи, заменена точками и эвфемизмами, которые мы для удобства читателей выделили полужирным шрифтом
[Закрыть]
Епиходов. (Напевает.) «Было бы сердце согрето жаром взаимной любви…»
Яша подпевает.
Шарлотта. Ужасно поют эти люди… фуй!
А. П. Чехов. Вишневый сад1
Смешная фамилия
Мой любимый герой у Чехова – конторщик Семен Пантелеевич Епиходов – тот самый, который «двадцать два несчастья», «недотепа», говорит мертвым возвышенным языком, поет под «мандолину» грустные песни, влюблен в служанку Дуняшу, интересующуюся «парижанином» Яшей, носит с собой револьвер, чтобы, может быть, застрелиться, и – самое запоминающееся – «бильярдный кий сломал».
Фамилия этого второстепенного персонажа из пьесы «Вишневый сад» не раз привлекала к себе внимание ученых и театральных критиков2. «Епиходов – фамилия странная, – полагает профессор Константин Гершов. – В православных святцах нет святого или великомученика по имени Епиход. Есть Епиктет, Епимах, Епифаний, Еполлоний, Епафродит, Епенет. Также вряд ли эта фамилия произошла от названия профессии»3. По мнению ученого, она представляет собой перевод с греческого (ведь «Антон Павлович одно время учился в греческой школе в г. Таганроге»), означающий «обделанный», «обгадившийся»4. Заметим, что процитированный выше пассаж как будто вышит по гоголевской канве. Помните изображение Акакия Акакиевича в начале «Шинели»? Другой автор «переводит» эту фамилию просто как «Зас. анцев».
К происхождению фамилии Епиходов подходят и, так сказать, с другой стороны. Один ученый связал ее с ругательством «ебехота», записанным на берестяной грамоте XII века, обнаруженной и опубликованной академиком Яниным в конце 1990-х годов. В конце этой записки находится одно из самых ранних употреблений русского мата: «ѧковебратеебилежѧ» («Якове, брате, егэ лежа», то есть «не выпендривайся», а далее по тексту идут два «замысловатых ругательства»: «ебехота» – похотливый и «аесова» – «сователь яйца»5). По мнению этого ученого, кличка «ебехота» не только связана с фамилией чеховского персонажа, но и с сопровождающим его эвфемизмом «кий сломал». Проблема в том, что, хотя Чехов теоретически и мог побывать в Старой Руссе (вроде не был), он никак не мог ознакомиться с текстом этой берестяной грамоты, а больше ругательство «ебехота» нигде, кажется, не зафиксировано.
Срамное имя
Между тем близкое по звучанию к чеховской фамилии и красноречиво неприличное по своему содержанию имя хорошо известно в русской нецензурной (срамной) поэзии. Как первым много лет назад вскользь заметил советский рок-музыкант и весьма необычный американский филолог Александр Лерман, это заглавный персонаж приписываемой Ивану Семеновичу Баркову пародийной «героической, комической и евливотрагической драмы в трех действиях» «Ебихуд6». Этот «худой в сексуальной деятельности» (никакой связи с древнерусским ругательством «ебехота» это имя не имеет) несчастный владетельный князь потерял свою мужскую силу, о чем жалуется на протяжении всей веселой трагедии. Уже при первом появлении Ебихуд описывает своему наперснику постигшее его несчастье:
Ебихуд
Познай днесь, Суестан, смятения вину:
Я только лишь было взобрался на княжну,
Как вдруг проклятый край стал мягок так, как лыко.
<…>
О день, несчастный день, о прежестокий рок!7
А вот подборка типичных жалоб чеховского Епиходова:
Епиходов: Я знаю свою фортуну, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье… Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье… И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана (с. 237, 216).
Связь Епиходова с барковским героем не только фонетическая, но и тематическая. Пародийная трагедия Баркова вертится вокруг импотенции заглавного персонажа, попутно обыгрывая клише неоклассической трагедии. Прекрасная Праздноздокраса предпочитает Ебихуду более счастливого любовника, вечно возбужденного брата главного героя Мордорвана (как Дуня предпочитает скучному Епиходову импозантного, в ее восприятии, Яшу). Образ мужского члена – сломленного (как у главного героя) или, наоборот, твердого, как палица или меч, у Мордорвана – находится в центре каламбуров и шуток (как мы бы сейчас сказали, гэгов) автора. В финале Мордорван использует свой орган как оружие, которым убивает «тирана» Суестана («Как вдруг престрашный край князь вынул из штанов. // Мы края такова не зрели у слонов! // На воинов он с ним внезапно нападает // И в нос и в рыло их нещадно поражает. // Подобно как орел бессильных гонит птиц, // Иль в ясный день, когда мы бьем своих площиц, // Так точно воинов он разогнал отважно // И, край имея свой в руках, вещал нам важно»8).
Следует также заметить, что барковский Ебихуд является «сквозным» персонажем русской срамной традиции. Вместе с Мордорваном и Суестаном он появляется в более поздней похабной трагедии «Васта», где к ним присоединяются, в частности, «Слабосил, владетель страны, где бордель Васты находится» и «Шестираз, иностранный рыцарь». Примечательно, что в этой трагедии барковский Ебихуд понижен в звании: из князя он превращается в наперсника и слугу потентата Слабосила (на мудреном языке психоаналитиков это может быть названо «комическим удвоением» импотенции: Ебихуд при Слабосиле).
Связующим звеном между барковской традицией и комедией Чехова является упоминавшаяся выше насмешка Яши «Епиходов бильярдный кий сломал». Эта реплика (повторяемая потом Варей) стала объектом многочисленных похабных шуток и анекдотов. В одном из таких анекдотов рассказывается о том, как некий провинциальный актер боялся произнести на сцене «край» вместо «кий» и, разумеется, в итоге произнес это слово перед публикой. Известный специалист в области непристойной русской поэзии Александр Илюшин проницательно указывает на связь реплики о кие с традицией похабной литературы XVIII века, в которой «возникли предпосылки для таких непристойных игрищ и забав, для анекдотов типа того, в котором варьируется чеховское „Епиходов сломал кий“». «Литератор, дышавший воздухом позапрошлого столетия, – замечает исследователь, – умел и приличные стихи читать и понимать как неприличные. По крайней мере, мог уметь»9.
«Конец эротизма»
О том, что Чехов не только «мог уметь», но и сам умело играл в такие игры, мы хорошо знаем. Смешные, несуразные и двусмысленные фамилиипрозвища в его творчестве и записных книжках встречаются очень часто (игрой с «фамильной» темой является, например, хорошо известный почти каждому школьнику ранний рассказ писателя «Лошадиная фамилия»). Истоки комического «имятворчества» писателя следует искать как в русской классической литературе XIX века (Гоголь, Достоевский, Щедрин), так и в старинной и современной юмористической традиции, школьном балагурстве и в целом народной карнавальной культуре. В этот генеалогический контекст, как я полагаю, вписывается и похабная поэзия (и драма) XVIII века, несомненно известная писателю. Кстати, сквозь призму этой почтенной традиции открываются и незамеченные шутки Чехова, спрятанные в изображении того же Епиходова и подчеркивающие его хроническое бессилие:
Епиходов. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?
Лопахин. Отстань. Надоел.
Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь (с. 198).
А вот похожий мотив у Баркова (в другой пародийной трагедии):
Клитемнестра
Еще я позабыла
Сказать вам, чтоб сперва не так ей больно было,
И чтоб вы на себя последний взяли труд
Побольше чем-нибудь край смазати до зуд —
Пихаться с тем легко и мериновым скалом,
И узки сапоги вить смазывают салом.
Дурносов
Я все уж способы потщусь употребить,
Дабы сколь будет льзя, в княжну полегче вбить10.
Впрочем, на сознательном использовании этой переклички я не настаиваю. Возможно, просто смешная и говорящая связь. Гораздо более важной мне представляется востребованность барковской срамной трагедии о слабосильном Ебихуде в чеховскую эпоху, на которую в свое время указал известный критик Михаил Золотоносов. Он предположил, что Чехов заимствовал одну из реплик героя своего рассказа «Тайный советник» (1886) из пьесы Александра Островского и Николая Соловьева «Светит, да не греет» (1880), в которой схожие слова произносит значительный чиновник 50 лет Худобаев, постоянно жалующийся на головные боли, «головокружение, притом же спинные страдания и разное внутреннее расстройство»11. Имя этого «бессильного» жениха, безуспешно домогающегося Анны Реневой, исследователь возводит к драме Баркова «Ебихуд». В свою очередь, Реневу Золотоносов сравнивает с барковской княжной Празднокрасой.
Добавлю, что еще в 1923 году специалист по творчеству Островского Сергей Елеонский назвал драму «Светит, да не греет» «предвосхищенным замыслом» «Вишневого сада», а образ Реневой – прообразом чеховской Раневской (пьеса Островского и Соловьева впервые была поставлена в Малом театре в 1880 году, возобновлена в 1901 году и была известна Чехову)12. В контексте нашей дискуссии образ Худобаева из этой пьесы может быть понят как своеобразный посредник, соединяющий барковскую традицию осмеяния полового бессилия с «Вишневым садом».
* * *
Перейду к выводам. Их у меня три, и они тесно связаны друг с другом.
Во-первых, значение имени чеховского героя восходит к барковиане и означает не псевдогреческую кличку «обделанный» или древнерусское «похотливый», но «худой любовник», не способный к исполнению сексуальной функции (выбор Дуняши, как и Праздноздокрасы Баркова, тут понятен)13.
Во-вторых, рассмотренная выше фамильная шутка Чехова, характерная для унаследованной им «гимназической» традиции словесных кличек, как я полагаю, высвечивает важную проблему, относящуюся к жанровой и идеологической генеалогии комедии «Вишневый сад». Фамилия хронического неудачника, постоянно изъясняющегося искусственным слогом, не только отсылает нас к непристойной пародийной трагедии XVIII века о потентате-импотенте, служащей шутливо-озорной подсветкой печальной интриги чеховской драмы, но и символически подчеркивает центральную тему «Вишневого сада» – бессилия, «нравственной импотенции» ее обреченных историей персонажей (доктор Чехов, лечивший пациентов от полового бессилия, и сам, как полагают некоторые биографы, им страдавший, использовал этот медицинский диагноз для метафорической – социально-этической – характеристики состояния современного героя).
На значимость этой темы (вне связи с барковским персонажем) указывает и американский ученый Спенсер Голуб в опубликованном в 2007 году философическом эссе о Епиходове, озаглавленном «Бессилие» (Incapacity): «Знаки импотенции всюду окружают его и чаще всего им же и создаются»14. Он носит в кармане пистолет, который не функционален, не заряжен и, разумеется, не производит никакого шума: «Это один лишь знак». Хотя его гитара издает звуки, похожие на стрельбу, другие персонажи закрывают уши руками, когда слышат игру этого незадачливого шута.
В-третьих, можно сказать, что современная эпоха в идеологии «Вишневого сада» представлена как время пассивных унылых ебихудов. Показательно, что именно Епиходова упоминает при расставании с Варей в последнем акте комедии Лопахин: «А я в Харьков уезжаю сейчас… вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова… Я его нанял». Вспомним здесь и еще одного синонимичного в этом отношении Епиходову персонажа, Леонида Андреевича Гаева, который все время бормочет бильярдные термины, но своего кия у него-то, как напомнил нам Марк Липовецкий, и нет. Наконец, в интересующем нас «кийском» контексте обнажается и включается в действие и народное значение имени оставшегося в обреченном доме старика Фирса: «фирс» – одно из народных обозначений фаллоса – упоминается в старинных лечебниках и заговорах против полового бессилия («невставухи»): «Как у стоячей бутылки горлышко / Завсегда стоит прямо и бодро, / Так бы и у раба Божия… / Завсегда фирс стоял на / Свою жену Рабу Божию… / И во всякое время / Для любви и для похоти телесныя. Аминь. Аминь. Аминь»15; знахарь колдует, чтобы у пациента «фирс не гнулся, не ломился против женския плоти и хоти и против памятныя кости отныне и до веку»16. Как очень точно заметил указавший нам на этот ключ к имени персонажа Борис Куприянов: «Забыть Фирса – это конец эротизма».
О том, что этот социально-сексуальный символизм чеховской комедии (имеется в виду образ сломанного кия – хребта дворянской интеллигенции) «считывался» современниками, свидетельствуют их многочисленные отклики, начиная от общеизвестного вердикта Максима Горького, что в этой комедии выводятся «слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева „Вишневого сада“ – эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики», опоздавшие «вовремя умереть» и ноющие, «ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, – паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни»17. А еще раньше критик Виктор Буренин привел мнение «скептиков», обвинявших Чехова, что в пьесе «Иванов» он выставил «какого-то вялого и кислого импотента, с психопатической закваской» и «претендует в этом импотенте на создание типа героя нашего времени»18. Иначе говоря, бессильный Епиходов – это эпоним представленной в чеховской комедии эпохи (вроде старика Козлодоева в застойные 1980-е).
«Ибо у кого импотенция, – признавался А. П. Чехов А. С. Суворину в сентябре 1897 года, – тому ничего больше не остается, как изнемогать»19.
Post Scriptum
Нам остается только добавить, что восходящая к русской непристойной драме и канонизированная Чеховым по отношению к современному ему образованному обществу тема «полового бессилия» впоследствии политизировалась (и тривиализировалась) в советской антиинтеллигентской (физиологически уничижительной) риторике, причем, как я думаю, в той же подспудной барковианской огласовке. Достаточно вспомнить образ слабосильного эротомана Васисуалия Лоханкина, заговорившего невыдержанными безрифменными пятистопными ямбами (с вкраплениями шестистопных) после того, как его жена – «самка» и «публичная девка», по словам интеллигента, – ушла к инженеру Птибурдукову:
«Птибурдуков, тебя я презираю, <…> Жены моей касаться ты не смей, ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?»
«Не инженер ты – хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!»
«Уйди, Птибурдуков, не то тебе по вые, по шее, то есть вам я надаю».
«Я обладать хочу тобой, Варвара!»
«Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом».20
Соблазнительно сравнить эти ямбические инвективы на сексуальную тему с шестистопными обличениями Ебихуда Празднокрасы, пожелавшей уйти от него к Мордорвану: «Кого ты, дерзкая, воспоминать дерзаешь? // Или что мне он враг, ты то позабываешь? // Конечно, Мордорван еще тобой любим // И, видно, ермаком прельстил тебя своим, // Однако сей любви терпети я не стану»21. Или: «Я суестанову шматину презираю». Только ильфопетровский Лоханкин даже ямбом овладеть нормально не может, сбиваясь с «годуновского» пятина «александрийский» шестистопный стих, характерный для трагедий XVIII века, пародировавшихся Барковым в «героической, комической и евливотрагической драме в трех действиях» «Ебихуд».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?