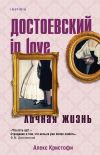Текст книги "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"
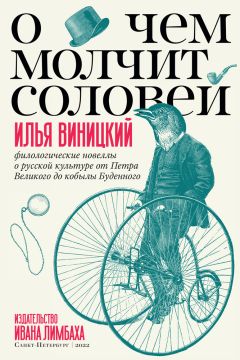
Автор книги: Илья Виницкий
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«Ах! Как люблю я птицу эту»
О чем молчит соловей в романе Юрия Тынянова «Пушкин»
Лиза глазки голубые
Вдруг задумала закрыть:
Вспорхнули амуры злые,
Начали ее будить.
Вы, которые хотите
Нас любовью поразить,
Над амуром не шутите:
Он к вам птичкой залетит.
Народная песня«Лет пятнадцати, не боле»1
Мы продолжаем наш разговор о судьбе непристойной, или, по определению Григория Гуковского и Владимира Орлова, «подпольной» поэзии XVIII века в русской литературе XIX–XX веков2. Эта новелла посвящена отголоскам и функции одного из самых ярких и «голосистых» произведений этой рукописной традиции в поэзии Пушкина и «исследовательском» романе Юрия Тынянова, посвященном творческому пробуждению и становлению поэта, названного восторженными современниками «соловьем русской поэзии».
Любитель Муз, с зарею Майской
Спеши к источникам ключей;
Ступай подслушать на Фурштатской,
Поет где Пушкин соловей…3
– писал в конце своей долгой литературной жизни искренний почитатель Пушкина, всеми осмеянный стихотворец граф Дмитрий Хвостов. Подслушаем и мы…
Московский «Соловей»
В своих воспоминаниях о «незабвенном» Николае Михайловиче Карамзине благочестивый поэт-патриарх Федор Глинка уделяет несколько слов какому-то загадочному сочинителю давних времен Панцербитеру – автору «пьесы» «Была девица Катерина», «которая долго бегала по рукам в рукописи» в конце XVIII века. Этот Панцербитер был якобы частым гостем Карамзина, причем всякий раз, когда он входил, хозяин приветствовал его словами: «„Wаs macht man auf dem Рarnasus, Нerr Рanzerbitter?“ [Ну, как там на Парнасе, господин Панцербитер?] – и продолжал с ним веселый разговор»4. Герру Панцербитеру приписывались и другие скабрезные непечатные произведения, которые, судя по всему, входили в заветную сафьяновую тетрадь екатерининского секретаря Храповицкого, утраченную, если верить хранителю литературных преданий прошлого князю Петру Вяземскому, во время московского пожара.
В отличие от мифического (как я доказываю в своей новой книге) Панцербитера, «пьеса» «Была девица Катерина» существовала. Приведенное Федором Глинкой название является зачином известной эротической поэмы «Соловей», традиционно атрибутируемой князю Дмитрию Горчакову (1758–1824), автору распространявшихся в списках сатирических «Святок», сатир и эпиграмм, к которому Пушкин обращался в своем юношеском стихотворении «Городок» и которому в 1828 году пытался от греха подальше «приписать» (посмертно) свою богохульную и фривольную «Гавриилиаду».
Поэма «Соловей» включалась в сборники русской неподцензурной поэзии конца XVIII – начала XIX века и была опубликована историком литературы и библиографом Владимиром Каллашем в 1903 году по редакции рукописного сборника самого начала ХІХ века, принадлежавшего Императорской публичной библиотеке, с пропусками целых строф, замененных интригующими точками5. В конце рукописи, сообщал Каллаш, было приписано «из Москвы» («так часто обозначал свои печатные произведения кн. Горчаков») «из Ланфонтеновых сказок». Полностью текст горчаковского «Соловья» был напечатан литературоведом Иваном Мартыновым в 1981 году по копии из рукописного сборника 1801–1802 годов, в состав которого входили, в частности, стихи на коронацию Александра I и «грубая сатира в барковском духе „Блошка“» (видимо, стихи «Про блоху и кузена»)6. В словарной биографической статье о Горчакове исследователь его творчества Владимир Степанов указывает, что «Соловей», некоторое время считавшийся «одним из ранних пушкинских сочинений», «с достаточной убедительностью» может быть приписан князю-сатирику.7
Соблазнительный сюжет
Поэма «Соловей» представляет собой вольный перевод весьма вольной по своему содержанию сказки (conte) «Le Rossignol» («Pour garder certaine Toison»), приписывавшейся вплоть до середины XIX века Жану де Лафонтену (полагают, что ее настоящим автором был поэт Жак Вержье). Эта гривуазная поэма написана на сюжет известной четвертой новеллы из пятого дня «Декамерона» Боккаччо, столь непосредственно живо и грациозно разыгранной в фильме Пьера Паоло Пазолини 1971 года.

Верхняя половина кадра из фильма П.П. Пазолини «Декамерон»
Юная (у псевдо-Лафонтена – четырнадцатилетняя) героиня поэмы уговорила родителей разрешить ей спать на галерее, чтобы лучше слышать пение соловья. Утром батюшка нашел ее в постели с «соловьем» в руке (обладатель последнего, «ловкой, бойкой и статной» детина по имени Пролаз – Ришар во французской версии, – лежал рядышком):
Она с любовником лежала
Без простыни и одеяла.
(Затем, друзья, что в той поре
Великий жар был на дворе.)
В руках своих она держала,
И не стесняясь тем нимало,
Ту вещь, какая у мужчин
Для важных спрятана причин.
Ту вещь (ах, как бы перед вами
Назвать достойными словами
Ту вещь, что Катей взята в плен).
Вещь эта – есть тот самый член,
Который пособил Адаму
Из девы Евы сделать даму.8
По мнению публикатора, отдельные строфы и стихи этой поэмы «довольно близко напоминают шутливыя строфы, „болтовню“ Пушкина в „Евгении Онегине“ и „Домике в Коломне“, даже внешния особенности его стиха»9. К «внешним особенностям» стиха, как нам представляется, можно добавить и отличную от «лафонтеновской» экспериментальную строфику «Соловья», особенно представленные в нем 14-стишия, напоминающие будущую онегинскую строфу. Наконец, выделенное курсивом игривое эвфемистическое описание «того члена, который пособил Адаму» (во французском оригинале – ссылка на римского поэта Катулла: «Et dont vous vous servez pourtant très volontiers, / Si l’on en croit le bon Catulle»10), соблазнительно назвать литературным прообразом известного эпизода в «Гавриилиаде» Пушкина:
По счастию, проворный Гавриил
Впился ему в то место роковое
(Излишнее почти во всяком бое),
В надменный член, которым бес грешил.
Лукавый пал, пощады запросил
И в темный ад едва нашел дорогу.
На дивный бой, на страшную тревогу
Красавица глядела чуть дыша…11
Перед нами еще одно вероятное свидетельство связи между творчеством Горчакова (если эта гривуазная поэма действительно принадлежит ему, а не какому-то Панцербитеру) и «Гавриилиадой». Добавим, что о возможном влиянии «птичьей метафорики» «Соловья» на сказку Пушкина о дочерях царя Никиты писали почти тридцать лет назад филологи Георгий Левинтон и Никита Охотин в статье «Что за дело им – хочу…»12.
Птичка в деснице
Обратимся теперь к случаю использования «Соловья» не самим Пушкиным, а по отношению к Пушкину. Речь пойдет об известном месте в первой части незаконченного романа Юрия Николаевича Тынянова «Пушкин» (1935–1943), где девятилетний мальчик, тайком пробравшись в кабинет отца, «босой, в одной рубашке», затаив дыхание, читает стихи из горчаковской поэмы, завершающие найденную им в не запертом шкафу заветную отцовскую тетрадь под названием «Девическая игрушка, сочинение Ивана Баркова»:
Он пел, плутишка, до рассвету.
«Ах, как люблю я птицу эту! —
Катюша, лежа, говорит. —
От ней вся кровь в лице горит».
Меж тем Аврора восходила
И тихо-тихо выводила
Из моря солнце за собой.
Пора, мой друг, тебе домой.13
В чем, говоря словами Тынянова, «конструктивная функция» данного «элемента литературного текста»? Иначе говоря: как работает эта цитата в романе? (Подчеркну, что и для Пушкина, и для Тынянова «Соловей» – русское переложение «образцового» для либертинской поэзии произведения Лафонтена.)
Прежде всего следует заметить, что приведенная выше цитата скомпонована Тыняновым из фрагментов двух строф горчаковской поэмы, хранившейся, по словам современника, «в рукописях у всех любителей и нелюбителей российской поэзии». Цитировал Тынянов, возможно, по публикации Каллаша, изобиловавшей отточиями, но текст произведения наверняка знал полностью. Известно, что эта эротическая поэма декламировалась «на студенческих вечеринках» и заучивалась на протяжении всего XIX – начала XX века наизусть14. Приведем обратившую на себя внимание тыняновского Пушкина цитату полностью:
У Кати соловей в руках,
Он очень мил в ее глазах.
Когда он песни запевает,
Она в восторгах утопает.
Пред ним лесные соловьи
Для ней вороны, воробьи.
Он пел, плутишка, до рассвету.
«Ах, как люблю я птицу эту! —
Катюша, лежа, говорит. —
От ней вся кровь в лице горит!»
Меж тем Аврора восходила
И тихо-тихо выводила
Из моря солнце за собой.
Пора, мой друг, тебе домой15.
Автор несомненно играет здесь в прятки с пуританскими советскими цензорами (первая часть романа вышла в 1935 году в разгар предъюбилейной государственной «мумификации» поэта), по-пушкински адресуя текст знающим – немногим – читателям. Шутка Тынянова подозрительно напоминает известную шалость поэта (или вообще звучит как аллюзия на нее) из XXVII строфы третьей главы романа в стихах, где обыгрывается название считавшегося не очень подходящим «для дам» журнала «Благонамеренный»:
Я знаю: дам хотят заставить.
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить.
С Благонамеренным в руках!
(«Евгений Онегин», гл. 3, стр. XXVII, 1–4).
По словам друга поэта князя Вяземского (вне всякого сомнения известных Тынянову), сосед последнего Бекетов, двоюродный брат Матвея Солнцева (зятя пушкинского дяди Василия Львовича, персонажа тыняновского романа), «заподозрил лукавство» в последнем стихе и решил, что его автор сует «в руки дамские то, что у нас между ног». «Я сказал ему, – заключал Вяземский, – что передам тебе этот комментарий и уверен, что ты полюбишь семейство Сонцевых за догадку двоюродного брата»16 (тут, кстати сказать, еще и характерная для арзамасца отсылка к фривольной поэме «Опасный сосед» дядюшки В. Л. Пушкина, названного поэтом «мой брат двоюродный Буянов»).
Вернемся к приведенным выше стихам Горчакова и обратим внимание на их географическую странность (если не абсурдность): заря в момент счастья героев выводит солнце из моря, между тем как действие этого вольного переложения «лафонтеновской» сказки происходит на брегах Москвы-реки. Сверка с французским оригиналом (восходящим, как уже говорилось, к новелле из «Декамерона») показывает, что эти стихи были присочинены русским переводчиком. Зачем? Затем, что их игривый создатель отсылает читателя к знаменитому зачину ломоносовской оды императрице Елизавете о заре, выводящей «багряною рукою» солнце «от утренних спокойных вод», и одновременно к хорошо известной в конце XVIII века непристойной пародии на этот зачин, приписываемой автору «Девичьей игрушки» Ивану Баркову. В последней «спокойные воды» названы морем (понтом) и вся картина предстает в сугубо порнографическом виде, «предвосхищающем» эротический пуант «Соловья»:
От утренних спокойных вод
Заря на алой колеснице
Являет Фебов нам восход,
Держа его м…е в деснице.
И тянет за <…> Феба в понт,
Чтоб он светил в наш горизонт17.
По тонкому замечанию Левинтона, Тынянов использовал приведенную выше цитату из горчаковского «Соловья» как указание на литературный источник известной пушкинской пародии на упомянутые выше стихи Ломоносова о заре в пятой главе «Евгения Онегина», в свою очередь спародированные, как мы видели, Барковым:
Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин18.
Левинтон очень близко подходит к разгадке пушкинской эротической шутки, которая, как я полагаю, была понята и доказана (для посвященного читателя) Тыняновым в романе. Соль здесь в том, что скрытый в подтексте онегинской строфы барковский мотив члена в руке в прямом смысле слова отсылает читателя к гривуазному сюжету русского переложения «Соловья» – стихотворения, находящегося, по Тынянову, у истоков пушкинского литературного воображения.
Таким образом, тыняновский фрагмент не только выполняет функцию «научного объяснения» пушкинской шутки в пятой главе «Онегина», но и реконструирует в беллетристической форме историко-литературный (пародийный) сюжет, связанный с судьбой русской «подпольной» поэзии, вдохновившей девятилетнего Пушкина, успевшего к тому времени прочитать все фривольные французские книжки из шкафа отца.
Ключ к традиции
Литературно-исследовательская игра Тынянова с цитатой из «Соловья» представляется еще более изысканной и, я бы сказал, манифестарной в контексте разрабатываемого автором жанра художественной научной монографии, образцом которого Борис Эйхенбаум считал тыняновский роман «Пушкин»:
Если «Кюхлю» можно было назвать художественной диссертацией, скрывающей в себе итог предварительного изучения документов и материалов, если «Смерть Вазир-Мухтара» была своего рода научным романом, содержащим новую концепцию и разгадку личности Грибоедова и его судьбы, то начатый роман о Пушкине выглядит большой художественной монографией, последовательно раскрывающей темные места пушкинской биографии и бросающей свет на всю историю его жизни.19
Если я правильно понимаю задачу автора, то прочитанное Пушкиным на самой заре жизни произведение он стремится представить как своего рода инициацию и откровение о настоящей, то есть запретной, поэзии. Неслучайно именно этой цитатой из «Соловья» заключает Тынянов описание чтения будущим поэтом «заветных тетрадей» отца:
И правда, была уже пора. Он не чувствовал холода в нетопленой отцовской комнате, глаза его горели, сердце билось. Русская поэзия была тайной, ее хранили под спудом, в стихах писали о царях, о любви, то, чего не говорили, не договаривали в журналах. Она была тайной, которую он открыл. Смутные запреты, опасности, неожиданности были в ней.20
Неслучайно автор здесь особо подчеркивает мотив заветного ключа: «Зазвонил ранний колокол. Чьи-то шаги раздались. Ключ торчал в откидной дверце шкапа. Быстро он прикрыл ее, сжал в руке ключ и бесшумно пронесся к себе. Он успел еще броситься в постель и притвориться спящим. Сердце его билось, и он торжествовал» (курсив наш. – И. В.).21 Эти взволнованные строки о торжествующем мальчике, сжимающем в руке сокровенный ключ-соловей (кажется, автор-пушкинист здесь смело утверждает прямое воздействие определенной литературной традиции на раннее половое созревание нашего великого поэта, впервые, говоря словами Базарова, почувствовавшего себя наедине), звучат едва ли не как стилизация или пародия блоковских «В моей душе лежит сокровище, // И ключ поручен только мне!».22 Творческой реализацией этой инициации, согласно тыняновской концепции романа о поэте (своего рода рождения поэзии из духа Баркова), становятся эротические поэмы Пушкина «Тень Баркова» и «Монах», а в дальнейшем – «Руслан и Людмила» и южная «Гавриилиада».
Литературный пролаз
Примечательно, что в следующей, лицейской, части романа Тынянова юный поэт Пушкин, напуганный однокашником Горчаковым (родственником автора «Соловья»), посулившим ему страшные кары за кощунственные поэмы, успокаивается за чтением тайком принесенной ему Антоном Дельвигом «нехитрой» французской книжки под названием «Пролаз литературный, сборник самых забавных случаев, исторических событий и стихов» (курсив наш. – И. В.).23 Русскую книжку под таким названием нам найти не удалось, но, даже если такая книжка или рукопись существовала и была доступна Тынянову, функция этой детали здесь – в научно-литературной игре, вписывающей в биографию героя жизненно важную для него поэтическую традицию, представленную горчаковским «Соловьем», – точнее, мотивами и центральным каламбуром из этой поэмы. Поясним.
Во-первых, ключевым, как мы полагаем, оказывается странное слово «Пролаз» в этом длинном названии. Именно так звали счастливого героя в поэме Горчакова, добившегося расположения «девицы Катерины» (в контексте пушкинской биографической легенды, переосмысленной Тыняновым):
Пролаз, фурьер команды штатной,
Детина ловкой, бойкой, статной,
Не помню, где-то в первый раз
Увидел Катю и влюбился,
Шепнул ей слова два, добился,
Влюбились оба в тот же час.
Сердца их страстью запылали
Они томились и желали.
Чего ж?.. Нельзя проговорить.
Я мог бы в слова два – четыре
Вам их желание открыть,
Но госпожа, котору в мире
Благопристойностью зовут
Мне ставит запятую тут…24
Во-вторых, обращает на себя внимание историческая семантика этого слова. В комментарии к «Евгению Онегину» Владимир Набоков указывает, что имя Пролаз, часто встречающееся в русских комедиях и народных картинках XVIII века, было образовано «от слов „пролаз“ или „пролаза“ (и то и другое мужского рода)» и означало «карьерист» и «низкий доносчик»25. Более точное значение этого имени дают словари XVIII–XIX веков: «проныра» («прошлый человек, ползун, пройдоха, льстец», по Владимиру Далю; также «человек, любящий пронюхивать, что делается в других домах»)26. Это имя встречается в комедиях Якова Княжнина (сметливый слуга Пролаз) и шутливой сатире Ивана Дмитриева «Модная жена» (так зовут старого мужа ловкой жены), хорошо известных Пушкину (имя Пролазов или Проласов он использовал в вариантах к «Евгению Онегину»). На французский это слово в пушкинскую эпоху переводилось «le furet» (хорек) – так, кстати сказать, назывался французский еженедельник в Петербурге конца 1820-х – начала 1830-х годов. В 1829 году Александр Воейков применил название этого близкого к издателю «Северной пчелы» журнала, «недвусмысленно разъяснив, что le furet обозначает не только хорька, но и проныру, сыщика»27. В этом значении использует имя Пролаз Пушкин в своих выпадах против Фаддея Булгарина начала 1830-х годов («Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», 1831). Это слово приводится также в «Ижорском» Вильгельма Кюхельбекера: «Что, ежели тебя нашли в канаве? // Воображаю, как расплакался пролаз, // Как начал доносить, наушничать на нас! // Быть, кажется, допросу, быть расправе».28

Не ждали (из сказочки Лафонтена)
Но автор «Соловья» (и за ним Тынянов), похоже, обыгрывал другое культурное значение этого слова, характерное для конца XVIII – начала XIX века: так тогда переводили на русский язык слово «galant» – «любовник-волокита, пролаза, пройдоха, провор, живой вертлявый молодчик. С’est hommе est un galant banal, он за всеми женщинами волочится»29. Иначе говоря, имя Пролаз – это народный вариант удачливого любовника.
В-третьих, как мы полагаем, название «нехитрой» французский книжки, которую Дельвиг дает почитать Пушкину, не является мистификацией Тынянова. Автор романа «подсовывает» здесь юному поэту (которому было тогда приблизительно столько же лет, сколько «лафонтеновской» девице Катерине) совершенно конкретную эротическую книжку с переведенным с французского языка названием, – а именно вышедший в 1802 году в Париже сборник «Le furet littéraire: recueil contenant ce qu’il y a de plus agréable en anecdotes, faits historiques et contes»; то есть в самом деле «Пролаз литературный, сборник самых забавных случаев, исторических событий и стихов». В состав этой веселой антологии, разогнавшей, по Тынянову, страхи лицеиста, входили галантные фривольные сказки Лафонтена из той же коллекции «Историй и новелл в стихах» («Contes et nouvelles en vers»), в которую включался и «Соловей».
Я не смог установить, каким образом Тынянов узнал об этой книжке (может быть, из известной библиографии французской эротической литературы Жюля Гэ)30, но это и неважно: в руках поэта оказалась, по воле автора, историка литературы, своего рода выжимка (антология) французской либертинской поэзии. Интересующий нас лицейский эпизод в романе (создание «адских» поэм) предстает, таким образом, как момент встречи генезиса с традицией (важных категорий тыняновской теории литературной эволюции), биографии (особо восприимчивый возраст) и истории литературы (начало творчества Пушкина и период обостренного интереса к русской поэзии), научной теории (литературная эволюция) и литературного воображения, закономерного и возможного.
Здесь следует также добавить, что в близкой, как мы видели, к этой игривой традиции барковиане «счастливый мой пролаз» означал мужской половой орган (то же самое значение слово furet/«хорек» имеет и во французской непристойной поэзии). Вообще в традиции эротической философии, вдохновившей юного поэта, метафорический соловей в руке был гораздо лучше реального соловья в небе («Пред ним лесные соловьи // Для ней вороны, воробьи»31; во французском оригинале, игравшем басенной аллюзией, упоминался осел).
Не будет преувеличением сказать, что Тынянов не только по-научному реконструирует действительный и гипотетический круг чтения юного Пушкина, оказавший на него влияние, но и динамически (или пародически) «разыгрывает» в своем литературном повествовании жанр гривуазной conte или fable, реализуя в финале пикантную мораль приписывавшейся Горчакову поэмы по отношению к будущему «соловью русской поэзии»: «Теперь не унывайте дети: // Уж соловей попался в сети»32 (то есть в сети поэзии). Причем игра здесь, как нам представляется, одновременно и аллюзионна (насквозь литературна) и теоретична.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?