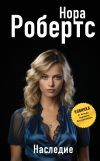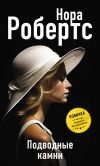Читать книгу "Дом духов"
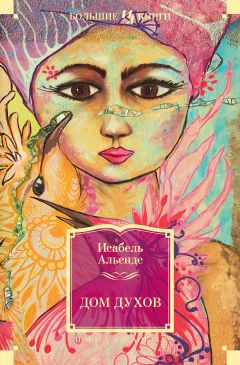
Автор книги: Исабель Альенде
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
Я все превосходно помню. Это был особенно счастливый день для меня, потому что обнаружилась новая жила, удивительная, неистощимая жила, которую я так долго искал все это время. Я был уверен, что за шесть месяцев накоплю достаточно денег для женитьбы, а через год смогу считать себя состоятельным человеком. Мне очень везло, ведь среди золотоискателей разорившихся больше, чем торжествующих победу, как я написал в письме к Розе тем вечером. Я чувствовал такой подъем и такое нетерпение, что пальцы так и летали по клавишам старой машинки, а с губ срывались радостные слова. Я печатал, когда услышал стук в дверь. Это был погонщик мулов, привезший телеграмму из поселка, посланную моей сестрой Ферулой. В ней сообщалось о смерти Розы.
Я должен был прочитать этот клочок бумаги трижды, прежде чем понял меру своего отчаяния. Единственное, что никогда не приходило мне в голову, это то, что Роза смертна. Я страшно мучился, представляя, что ей наскучило ждать меня и она решила выйти замуж за другого, или что никогда не отыщется проклятая жила, которая принесет мне состояние, или что обрушится шахта и раздавит меня, как таракана. Я воображал любое из этих несчастий и еще многие другие, но никогда, несмотря на мой пресловутый пессимизм, из-за которого я всегда ожидал самого плохого, мысль о смерти Розы не приходила мне в голову. Я почувствовал, что без Розы жизнь для меня потеряла смысл. Из меня точно вышел воздух, как из проколотого шара, я утратил интерес к жизни. Я словно прирос к стулу, созерцая из окна пустыню. Не знаю, сколько времени прошло, пока душа медленно стала возвращаться ко мне. Первым моим чувством был гнев. Я колотил по слабым деревянным перегородкам дома, пока из пальцев не потекла кровь, разорвал на тысячи клочков письма, рисунки Розы и копии своих писем, которые хранил. Побросал поспешно в чемоданы одежду, бумаги и брезентовый мешочек, где было золото, а потом отправился на поиски управляющего, чтобы передать поденную плату рабочим и ключи от склада. Погонщик мулов предложил довезти меня до поезда.
Бóльшую часть ночи мы проехали верхом на мулах, укрывшись кастильскими одеялами от густого тумана. Мы медленно продвигались в бесконечной глуши, где только чутье моего проводника служило ручательством, что мы прибудем по назначению, потому что не было никаких знаков на нашем пути. Ночь была звездной, светлой, я чувствовал, как холод пробирает меня до костей, сжимал кулаки, уходил в себя. Я все думал о Розе, страстно и неразумно желая, чтобы известие о ее смерти не было правдой. Я в отчаянии молил Небо, чтобы все это оказалось ошибкой и, воскресшая от силы моей любви, она вернулась к жизни. Я погружался в свое горе, проклиная мула, шедшего слишком медленно, Ферулу, передавшую мне горькую весть, Розу – за то, что она умерла, и Бога, допустившего это. На горизонте стало светать, и я увидел, как гаснут звезды и появляются первые краски зари, расцвечивающие оранжевым тоном пейзажи севера. Рассвело, и я пришел в себя. Покорился своему несчастью и попросил если не воскресения ее, то хотя бы того, чтобы я вовремя приехал и увидел ее до погребения. Мы прибавили шагу, и спустя час погонщик мулов попрощался со мной на крохотной станции, мимо которой поезд проходил по узкоколейке, соединяя цивилизованный мир с этой пустыней.
Более тридцати часов я проехал без еды, забыв даже о питье, но мне удалось прибыть в дом семьи дель Валье до похорон. Говорят, я вошел в дом весь в пыли, без сомбреро, грязный и небритый, изнемогая от жажды и ярости, громко вопрошая о своей невесте. Малышка Клара, в то время худенькая и некрасивая девочка, вышла мне навстречу, когда я вбежал в патио, взяла меня за руку и молча провела в столовую. Там в белом гробу покоилась Роза, и спустя три дня после гибели тление не тронуло ее, она была еще в тысячу раз прекраснее, чем прежде. Умерев, Роза превратилась в сирену, какой тайно была всегда.
– Будь проклята! Ты вырвалась из моих рук! – Говорят, что я так закричал, упав на колени возле нее, приведя в ужас родственников. Никто не мог понять моего отчаяния, а ведь я провел два года, роя землю в надежде стать богатым, с единственной целью повести к алтарю эту девушку. Ее смерть убила и меня одним ударом.
Вскоре подъехала карета – огромный экипаж, черный, сверкающий. В него была впряжена шестерка лошадей, украшенных плюмажем, как тогда полагалось. Лошадьми правили два кучера в ливреях. Мы отъехали от дома во второй половине дня под слабым дождем в сопровождении процессии экипажей. По тогдашнему обычаю, женщины и дети на похоронах не присутствовали, это было уделом мужчин, но Кларе удалось в последнюю минуту затесаться в процессию и проводить сестру. Я почувствовал ее ручку в перчатке, вцепившуюся в мою, и на протяжении всего пути она была рядом со мной, маленькая молчаливая тень, наполнявшая мою душу несказанной нежностью. В тот момент я даже не заметил, что Клара не проронила ни звука за эти два дня, и пройдут еще три дня, прежде чем домашних встревожит ее молчание.
Северо дель Валье и его старшие сыновья подняли на носилках белый гроб с серебряными заклепками и установили его в открытой нише пантеона. Одетые в траур, они были молчаливы и не плакали, как и полагается по обычаям моей страны, где привыкли переносить горе с достоинством. После того как закрылись решетки склепа и удалились родственники, друзья и могильщики, я остался там. Скорее всего, я напоминал мрачную ночную птицу, с развевающимися на ветру полами пиджака, высокий и худой, каким я был тогда, до того как исполнилось проклятие Ферулы и я стал расти вниз. Небо было серое, собирался дождь. Вероятно, было холодно, но в гневе я этого не чувствовал. Я не мог оторвать взгляда от маленького мраморного прямоугольника. Там было выгравировано имя Розы, красавицы Розы, и даты, обозначавшие ее короткий земной путь. Я думал о том, что я потерял два года, мечтая о Розе, работая для Розы, посылая письма Розе, желая Розу, а в конце концов не мог быть даже погребен рядом с ней. Я размышлял о годах, которые мне предстояло прожить без нее, и пришел к заключению, что жить ни к чему, ведь я уже никогда не встречу женщину с зелеными волосами. Если бы мне тогда сказали, что я проживу более девяноста лет, я бы застрелился.
Я не расслышал шагов кладбищенского сторожа, который подошел ко мне сзади. Поэтому я очень удивился, когда он коснулся моего плеча.
– Как вы смеете трогать меня? – прорычал я.
Он отступил в испуге, бедняга. Капли дождя печально падали на могильные цветы.
– Простите, кабальеро, уже шесть часов, я должен закрывать, – кажется, так он сказал мне.
Он попытался объяснить, что правила запрещают посторонним, не являющимся работниками кладбища, оставаться здесь после захода солнца, но я не дал ему договорить, сунул несколько купюр в руки и толкнул, чтобы он шел себе и оставил меня в покое. Я видел, как сторож уходит, посматривая на меня через плечо. Наверное, он подумал, что я сумасшедший, один из тех умалишенных некрофилов, что бродят иногда по кладбищам.
Это была долгая ночь, самая долгая, возможно, в моей жизни. Я провел ее, сидя у могилы Розы, разговаривая с ней, сопровождая ее в путешествии в неведомое. Я вспоминал ее совершенное лицо и проклинал свою судьбу. Даже упрекал Розу. Я не сказал ей, что за все это время не знал других женщин, кроме стареющих проституток, тех, что служили всему лагерю скорее по доброй воле, нежели благодаря своим достоинствам. Я рассказал, как жил среди грубых людей, не признававших закона, питался горохом и пил болотную воду. Я думал о ней дни и ночи, неся в душе ее образ подобно знамени, которое придавало мне силы снова и снова рубить породу. Большую часть года я страдал животом, замерзал от леденящего холода по ночам и сходил с ума от дневного жара – и все это с единственной целью жениться на ней. Но вот она уходит, умирает, изменяя мне до воплощения в жизнь моих мечтаний, оставляя меня в безысходном отчаянии. Я сказал ей, что она посмеялась надо мной, я предъявил ей счет за то, что мы никогда не оставались наедине, что поцеловал я ее только раз. Мне пришлось соткать свою любовь из воспоминаний и неудовлетворенных желаний, из выцветших, всегда опаздывавших писем, которые не могли передать ни страсть моего сердца, ни боль разлуки. Я сказал ей, что эти годы на шахте непоправимо потеряны, что, если бы я знал о кратковременной ее жизни в этом мире, я бы украл деньги для женитьбы и построил дворец, который украсил бы сокровищами морских глубин: кораллами, жемчугом, перламутром. Я бы оберегал ее от всех, и со мною она не выпила бы яду, предназначенного ее отцу, и жила бы тысячу лет. Я говорил ей о ласках, которые я берег для нее, о подарках, которыми собирался ее удивить, о том, как бы я постарался, чтобы она полюбила меня и стала счастливой. В общем, я говорил ей о безумствах, в которых я никогда бы не признался, если бы она могла меня слышать. Той ночью я решил, что навсегда потерял способность влюбляться, что никогда больше не смогу смеяться и лелеять мечты. Ведь «никогда» – это много времени. Я убедился в этом за долгую жизнь. Мне почудилось, что ярость растет во мне, как злокачественная опухоль, делая меня неспособным быть нежным и милосердным. Над смятением и гневом возобладало самое сильное чувство этой ночи – обманутое желание: я никогда уже не смогу погладить Розу, узнать ее тайны, распустить зеленый поток волос, погрузиться в ее глубины. В отчаянии я вспоминал последний миг, когда увидел ее лицо, полузакрытое атласными складками девственного ложа, свадебный венок из флердоранжа и четки в ее руках. Я не знал, что точно так, с флердоранжем и четками, я увижу ее на мгновение через много-много лет.
С первыми лучами солнца вернулся сторож. Он, должно быть, почувствовал жалость к полузамерзшему безумцу, который провел ночь среди кладбищенских призраков. Он протянул мне свою флягу.
– Горячий чай. Попейте, сеньор, – предложил мне сторож.
Я оттолкнул его и, бормоча проклятия, ушел, яростно зашагал среди рядов могил и кипарисов.
* * *
Ночью, когда доктор Куэвас с помощником выясняли причину смерти Розы, Клара лежала в постели с открытыми глазами, дрожа в темноте. Она мучила себя сомнениями: не потому ли умерла ее сестра, что незадолго до этого она об этом сказала. Она считала, что, подобно тому как сила ее воображения может передвигать солонку, точно так же она может стать причиной смертей, землетрясений и других несчастий. Напрасно Нивея еще раньше объясняла ей, что Клара не может вызывать события – лишь знать о них заранее. Она была в отчаянии. Девочке пришло в голову, что, если бы она смогла быть рядом с Розой, она чувствовала бы себя лучше. Она встала с кровати и в одной рубашке, босиком пошла в спальню, которую делила со старшей сестрой, но не нашла ее в постели, где видела в последний раз. Отправилась искать ее по дому. Вокруг царили мрак и молчание. Нивея спала после лекарств, которые ей дал доктор Куэвас, а братья и прислуга рано разошлись по своим комнатам. Замерзшая и напуганная, Клара обошла залы, скользя вдоль стен. Тяжелая мебель, массивные занавеси в складках, картины на стенах, погашенные люстры, кусты папоротника в фаянсовых вазах – все словно угрожало ей. Она заметила, что из гостиной сквозь щель под дверью пробивается свет, и готова была войти, но побоялась встретить там отца, который приказал бы вернуться в постель. Тогда она пошла на кухню, надеясь найти утешение у Нянюшки. Она пересекла главный дворик среди камелий и карликовых апельсиновых деревьев, прошла по комнатам второго корпуса дома и по темным коридорам, где слабый свет газовых фонарей горел всю ночь, чтобы отпугивать летучих мышей и прочих ночных тварей. Клара оказалась в третьем дворике, где располагались подсобные помещения и кухни. Здесь дом терял свой величественный вид и царил беспорядок псарни, курятника и комнат прислуги. Еще дальше стояла конюшня. Там отдыхали старые лошади, на которых еще ездила Нивея, несмотря на то что Северо дель Валье одним из первых в городе купил автомобиль. Дверь и ставни кухни были закрыты. Чутье подсказало Кларе, что там происходит что-то необычное, она попыталась туда заглянуть, но ее нос едва доходил до подоконника. Клара придвинула ящик к стене, взобралась на него и обнаружила щель между деревянными ставнями и оконной рамой, покореженной от времени. Тут она увидела, что происходит внутри.
Милый, добродушный доктор Куэвас, который помогал ей родиться и лечил от всех детских болезней и приступов астмы, превратился в толстого и мрачного вампира, совсем как на картинках в книгах дяди Маркоса. Доктор наклонился над столом, где Нянюшка обычно готовила еду. Рядом с ним стоял какой-то незнакомый молодой человек, бледный, как луна, в рубашке, запачканной кровью. Его глаза словно обезумели от любви. Клара увидела белые ноги своей сестры, ее босые ступни. Девочка задрожала. В это мгновение доктор Куэвас отошел, и ее глазам открылось жуткое зрелище: Роза лежала на столе с глубоким разрезом на теле, а ее внутренности были вынуты и сложены рядом, длиннющие зеленые волосы, словно папоротник, свисали со стола до самого пола, запачканного кровью. Глаза Розы были закрыты, но из-за игры теней и света Кларе показалось, что она различила выражение мольбы и унижения на лице старшей сестры.
Клара, застыв на ящике, решилась досмотреть все до конца. Еще долго следила она за всем происходящим сквозь щель, не замечая, что замерзает. Наконец мужчины перестали потрошить Розу, вводить жидкость в вены, омывать ее внутри и снаружи ароматным уксусом и смазывать лавандовым маслом. Потом тело наполнили тампонами для бальзамирования и зашили кривой иглой, какой шьют матрацы. Доктор Куэвас умылся, вытер слезы, надел черный пиджак и вышел с выражением смертельной тоски на лице. Клара видела, как юный незнакомец поцеловал Розу в губы и, тяжело дыша, стал целовать ее шею, грудь, ноги. Потом вымыл ее губкой, надел на нее вышитую сорочку, причесал волосы. Клара оставалась, пока не вернулись Нянюшка и доктор Куэвас, они одели Розу в белое платье, возложили ей на голову флердоранжевый венок, который она хранила в шелковой бумаге ко дню своей свадьбы. Ассистент поднял Розу с такой трогательной нежностью, как если бы он держал ее на руках, чтобы впервые перенести через порог своего дома, будь она его невестой… Клара смогла пошевелиться, лишь когда наступил рассвет. Тогда она проскользнула в постель, чувствуя внутри себя молчание целого мира. Молчание овладело ею, она перестала говорить. Клара не говорила в течение девяти лет после этих событий, пока у нее снова не появился голос и она смогла сообщить о предстоящем замужестве.
Глава 2
Лас-Трес-Мариас
Эстебан Труэба ужинал с сестрой Ферулой в столовой своего дома, среди старомодной викторианской мебели, которая в далеком прошлом была прекрасна. Все тот же жирный суп, их ежедневное блюдо, и все та же пресная рыба, которую они ели по пятницам. Прислуживала им кухарка, работавшая у них всю жизнь и получавшая плату, что была в свое время положена рабам. Старая женщина без конца сновала из кухни в столовую, согбенная и полуслепая, но все еще бодрая, и выставляла и уносила блюда весьма торжественно. Донья Эстер Труэба не ела в столовой со своими детьми. По утрам она неподвижно сидела в кресле, смотрела из окна, что делается на улице, видела, как годы разрушают квартал, – тот квартал, который в годы ее юности был великолепен. После завтрака ее перемещали в постель, устраивая так, чтобы она могла полусидеть, не мучаясь от артрита, и тогда ее главным занятием становилось чтение трогательно-жалостливых книжечек о жизни и чудесах святых. Так она проводила время до следующего дня, когда повторялось все то же самое. Единственный ее выход на улицу происходил по воскресеньям, когда она присутствовала на обедне в церкви Святого Себастьяна в километре от дома, куда Ферула и служанка привозили ее в кресле на колесах.
Эстебан перестал выковыривать кости из беловатой мякоти рыбы и положил вилку на тарелку. Он сидел прямо, так же как ходил, очень прямо, слегка откинув назад голову и немного склонив ее набок, смотрел искоса, со смесью близорукости, гордости и недоверия. Это выражение казалось бы неприятным, если бы глаза не были удивительно светлыми, а взгляд мягким. Его выправка и горделивый вид скорее подходили бы человеку полному и небольшому, который хотел бы казаться выше, а Эстебан и так был высокого роста, метр восемьдесят, и очень худощавый. Тело его напоминало устремленную ввысь вертикаль, увенчанную высоким лбом и львиной гривой, которую Эстебан зачесывал назад. Впечатление подчеркивали тонкий орлиный нос и летящие брови. Он был ширококостный, а ладони напоминали мастерки. Ходил он большими шагами, двигался энергично и казался очень сильным, обладая при этом заметной грацией. Лицо было красиво, несмотря на суровое, мрачное и почти всегда недовольное выражение. Отличительной чертой его характера была вспыльчивость и быстрый переход к ярости, он часто терял голову; в детстве он бросался на пол с пеной у рта, не в силах даже дышать от злости, и дрыгал ногами, словно в него вселился дьявол. Чтобы снова овладеть собой, он должен был окатиться холодной водой. Позже он научился сдерживаться, но и в конце жизни страдал от приступов внезапного бешенства.
– Я не вернусь на шахту, – сказал он.
Это были первые слова, которыми он обменялся с сестрой за столом. Он решил так прошедшей ночью, когда понял, что теперь не сможет в поисках внезапного обогащения вести жизнь анахорета. Концессия на шахту была действительна еще два года, время, достаточное для тщательной разработки удивительной жилы, которую он открыл, но он считал, что, хотя управляющий и обкрадывал его немного или же не умел работать так, как умел он, нет никакого смысла заживо хоронить себя в пустыне. Он не хотел стать богатым такой ценой. Впереди была жизнь – чтобы разбогатеть, если удастся, чтобы скучать и ожидать своей смерти без Розы.
– Чем-то ты должен заняться, Эстебан, – ответила Ферула. – Знаешь, мы тратим очень мало, почти ничего, но мамины лекарства стоят дорого.
Эстебан взглянул на сестру. Это была еще красивая женщина, пышнотелая, с овальным лицом римской мадонны, но ее бледная кожа, желто-красный румянец и тревожный взгляд уже выдавали уродство смирившейся со своей участью старой девы. Она спала в смежной комнате, рядом с доньей Эстер, готовая в любой миг бежать к ней на помощь, поить ее травами, делать ванночки, поправлять подушки. Душа ее была истерзана. Она испытывала тайную радость от унижения и грубой работы, ведь она верила, что тяжким путем жестоких страданий завоюет Небо, и поэтому наслаждалась, очищая гнойнички на больных ногах матери, обмывая ее, погружаясь в ее смердящие запахи и в ее несчастья, исследуя ее ночной горшок. И так же, как ненавидела она себя за это постыдное и жалкое наслаждение, она ненавидела мать за то, что та доставляла ей это наслаждение. Ферула заботилась о ней, не жалуясь, но хитроумно старалась заставить ее платить за свою погубленную жизнь. Открыто об этом не говорилось, но это стояло между ними всегда: дочь принесла свою жизнь в жертву матери и осталась старой девой по этой причине. Из-за болезни матери Ферула отвергла двух женихов.
Ферула не говорила об этом, но все это знали. У нее были резкие, неловкие движения и такой же характер, как у брата, но жизнь и женская сущность обязывали ее сдерживаться и обуздывать себя. Она казалась столь духовно совершенной, что приобрела славу святой. Ее считали примером самоотречения в угоду донье Эстер и самоотверженности в воспитании единственного брата. Так повелось с тех пор, когда заболела мать и умер, оставив их в нищете, отец. Ферула обожала своего брата Эстебана, когда тот был маленьким. Спала с ним, купала, брала на прогулки, работала от зари до зари, шила одежду чужим людям, только чтобы заплатить за его учебу, и проплакала от злости и бессилия весь день, когда Эстебан должен был пойти работать в нотариальную контору, потому что ее заработка им не хватало на еду. Она заботилась о брате и служила ему, как теперь служила матери, и затянула его в невидимую сеть вины за неоплаченное благодеяние. Едва надев брюки, мальчик стал отдаляться от нее. Эстебан точно помнил минуту, когда понял, что от сестры на его жизнь падает зловещая тень. В тот день он получил первое жалованье. Он решил оставить себе пятьдесят сентаво и осуществить мечту, которую лелеял издавна: выпить чашку кофе по-венски.
Он много раз уже видел в окне французского отеля официантов, которые проходили с подносами, парящими над головой, уставленными сокровищами: высокими хрустальными бокалами, которые были увенчаны взбитыми сливками и украшены чудесной замороженной вишней. В день первой получки он, прежде чем осмелился войти, прошел мимо этого ресторана несколько раз. Наконец, с беретом в руке, робко переступил порог и вошел в роскошную залу, где висели люстры со стеклянными подвесками и стояла стильная мебель. Он вошел с ощущением, что все смотрят на него, на его слишком узкий костюм и старые башмаки. Он сел на краешек стула, уши горели; сделал заказ официанту чуть слышным голосом. Он видел в зеркалах, как снуют люди, ожидал с нетерпением, заранее предвкушая то удовольствие, о котором столько раз мечтал. И вот ему принесли кофе по-венски, гораздо более восхитительный, чем он представлял себе, роскошный, дивный, с тремя медовыми галетами. Как зачарованный, Эстебан долго смотрел на бокал. Наконец осмелился взять ложечку с длинной ручкой и со вздохом счастья погрузил ее в сливки. У него прямо слюнки потекли. Он готов был продлить это мгновение как можно дольше, до бесконечности. Стал размешивать, наблюдая, как темная жидкость в бокале набегает на пену сливок. Размешивал, размешивал, размешивал… и вдруг краешек ложки ударился о стекло и появилась дырка, куда, словно под давлением, выплеснулся кофе. В ужасе – под веселыми взглядами посетителей за соседними столиками – Эстебан увидел, что все содержимое бокала пролилось на его единственный костюм. Он встал, бледный от поражения, и, оставляя за собой след кофе на мягких коврах, вышел из французского отеля с проигрышем в пятьдесят сентаво.
Он пришел домой мокрый, злой, расстроенный. Узнав, что произошло, Ферула желчно сказала: «Это потому, что тратишь лекарственные деньги мамы на свои капризы. Вот Бог и наказал тебя». В эту минуту Эстебан и увидел ясно: сестра жаждет подчинить его, чтобы и он чувствовал себя виноватым, и понял, что должен спасаться. Брат все больше отдалялся от сестры, она все больше становилась ему неприятна. Его освобождение из-под ее опеки Ферула воспринимала как несправедливость. Когда он влюбился в Розу и она увидела, что брат в отчаянии, словно мальчик, что он просит ее помочь, что снова нуждается в ней, – а он ходил за ней по пятам, умоляя поближе познакомиться с семьей дель Валье, поговорить с Розой, подкупить Нянюшку, – Ферула снова почувствовала себя нужной Эстебану. На время они, казалось, помирились. Но это примирение было недолгим; Ферула быстро поняла, что она стала нужна Эстебану только из-за Розы. И очень обрадовалась, когда он уехал на прииск.
С пятнадцати лет, когда он начал работать, Эстебан смог взять на себя содержание семьи и собирался следовать своему намерению, но Феруле это казалось недостаточным. Ей было тяжко чувствовать себя запертой в пахнущих старостью и лекарствами стенах, просыпаться от стонов больной, следить за часами, чтобы вовремя дать лекарство, постоянно испытывать скуку, усталость, тоску, а ее брат пренебрегал своими обязанностями. Он свободный, он будет счастлив, он добьется успеха. Он может наплодить детей, познать любовь. В день, когда она посылала ему телеграмму, извещая о смерти Розы, она испытала странное чувство, почти радость.
– Ты должен работать где-то, – повторила она.
– Вы ни в чем не будете нуждаться, пока я жив, – ответил Эстебан.
– Легко сказать, – возразила Ферула, вытаскивая застрявшую в зубах рыбную косточку.
– Я поеду в деревню, в Лас-Трес-Мариас.
– Там все слишком запущено, Эстебан. Я всегда говорила тебе, что лучше продать эту землю, но ты упрям как осел.
– Никогда не следует продавать землю. Это единственное, что остается, когда уже нет ничего.
– Ну нет. Земля – это просто романтика, а что обогащает людей, так это верный нюх в делах, – возразила Ферула. – Но ты, правда, всегда твердил, что в один прекрасный день отправишься жить в деревню.
– Вот и настал этот день. Я ненавижу этот город.
– Почему ты не скажешь откровенно, что ненавидишь этот дом?
– И его тоже, – грубо ответил он.
– Мне бы очень хотелось родиться мужчиной, чтобы я тоже смогла уехать! – проговорила она с ненавистью.
– Я тоже врагу не пожелаю родиться женщиной, – согласился он.
Они закончили обед в молчании.
Брат и сестра отдалились друг от друга, и единственным, что еще связывало их, была мать и смутное воспоминание о любви, которую они испытывали друг к другу в детстве. Они родились в некогда богатой семье, помнили падение и разорение отца, постепенно подкрадывающуюся болезнь матери. Донья Эстер страдала артритом с молодых лет, сперва окаменел позвоночник, потом она стала жить точно замурованная в четырех стенах, с трудом передвигаясь по дому, и наконец, когда перестали сгибаться колени, она, уже будучи вдовой, в полном отчаянии окончательно переместилась в кресло на колесах. Эстебан вспомнил свое детство, узкие костюмчики, вервие святого Франциска, которое заставляли его носить неизвестно во имя каких обетов матери и сестры, вспомнил залатанные рубашки и свое одиночество. Ферула, которая была на пять лет старше, стирала и крахмалила ему рубашки чуть ли не каждый день, чтобы он всегда хорошо и опрятно выглядел. Она напоминала ему, что по линии матери он носит самое благородное и знатное имя во всем вице-королевстве Лимы. Труэба стал не более чем печальным происшествием в жизни доньи Эстер. Она должна была выйти замуж за человека своего круга, но безумно влюбилась в сумасброда, эмигранта в первом поколении, и тот в течение нескольких лет промотал ее приданое, а потом и все наследство. Но к чему Эстебану была голубая кровь его предков, если в доме не хватало денег на оплату счетов из магазина и он был вынужден ходить в колледж пешком, потому что на трамвай не было ни сентаво. Он вспоминал, что в колледж его одевали, обернув газетами грудь и спину, потому что у него не было нижнего шерстяного белья, а его пальто дышало на ладан. Он сильно страдал, воображая, что его товарищи могут услышать, как слышал он, шуршание бумаги, трущейся о тело. Зимой единственным источником тепла была жаровня в комнате матери, где, экономя свечи и уголь, собирались все трое. Это было детство, полное лишений, трудностей, бесконечных ночных молитв, обращенных к Деве Марии, страхов и чувства вины. Детство прошло, а в Эстебане остались злоба и не знающая меры гордыня.
* * *
Два дня спустя Эстебан Труэба уехал в деревню. Ферула проводила его на вокзал. Прощаясь, она холодно поцеловала брата в обе щеки, подождала, пока он поднимется в вагон со своими двумя кожаными чемоданами, теми самыми, с бронзовыми застежками, которые он купил, когда ехал на прииск, и которые должны были служить ему всю жизнь, как обещал продавец. Она просила его беречь себя и навещать их время от времени, сказала, что будет скучать, но они знали: им суждено не видеться долгие годы, и в глубине души оба чувствовали облегчение.
– Сообщи, если маме станет хуже! – крикнул Эстебан в окно, когда поезд тронулся.
– Не беспокойся! – ответила Ферула, помахав платком с перрона.
Эстебан Труэба откинулся на спинку, обтянутую красным бархатом, и возблагодарил умение англичан конструировать вагоны первого класса так, чтобы в них можно было путешествовать как настоящему кабальеро – без куриц, корзин, картонных коробок, перевязанных веревками, без хныканья чужих детей, которое невозможно переносить. Он поздравил себя с тем, что в первый раз в своей жизни решил потратиться на самый дорогой билет, и подумал, что это и есть те мелочи, что отличают кабальеро от деревенщины. Поэтому, хотя положение его было не из завидных, с этого дня он решил доставлять себе маленькие удовольствия, каковые помогут ему чувствовать себя богачом.
– Я не желаю снова становиться бедным! – сказал он себе, думая о золотой жиле.
Из окошка вагона он видел, как сменяют друг друга пейзажи центральной долины – обширные пространства, тянущиеся вдоль подножия горной цепи, богатые виноградники, пшеничные поля, луга люцерны и чудоцвета. Он сравнивал эти долины с бесплодной равниной на севере, где, погрузившись в яму, провел два года среди дикой природы и пейзажей, напоминавших лунные. Правда, он не уставал любоваться красками пустыни: синими, темно-лиловыми, желтыми красками минералов, лежащих на поверхности земли.
– Моя жизнь становится другой, – пробормотал он. Закрыл глаза и уснул.
Он вышел на станции Сан-Лукас. Жалкое место. На деревянном перроне с крышей, изъеденной термитами и разрушенной непогодой, не было видно ни души. Долина просматривалась сквозь туман, что поднимался после ночного дождя с влажной земли. Далекие горы были закрыты облаками, и только заснеженная вершина вулкана виднелась отчетливо. Он оглянулся вокруг. В детстве – в то единственно поистине счастливое время, до того как отец окончательно разорился, предался вину и обрек себя на бесчестье, – он ездил верхом по здешним краям. Он вспоминал, как жил летом в Лас-Трес-Мариасе, но это было так давно, что воспоминание почти стерлось, и он не узнавал ничего вокруг. Эстебан обошел станцию. Единственная дверь была заперта на замок. Висело какое-то объявление, написанное карандашом, так что слова разобрать было невозможно. Он услышал, как поезд за спиной тронулся; вагоны, оставляя за собой клубы белого дыма, исчезали. Он был один на этой тихой платформе. Подхватив чемоданы, Эстебан пошел по глинистой тропинке, ведущей в поселок. Он шел минут десять, радуясь, что нет дождя, ведь он и так едва тащился с тяжелыми чемоданами по этой дороге, которую дождь в считаные секунды превратил бы в непроходимое болото. Подойдя к селению, он увидел дымки над трубами и вздохнул с облегчением. Ему на миг показалось сначала, что эта деревушка покинута, такой печальной и бедной она выглядела.
Он остановился у первых домов. Ни души. На единственной улице, застроенной хижинами из необожженного кирпича, царила тишина; Эстебану почудилось, что все это ему снится. Он подошел к ближайшему дому – без единого окна, но с открытой дверью. Оставил свои чемоданы у порога и вошел, громко крикнув. Внутри было темно; свет шел только от дверного проема, и Эстебану потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к полутьме. Тогда он различил на земляном, утрамбованном полу детей, их было двое, и они посмотрели на него огромными испуганными глазами. В заднем дворике он разглядел идущую в дом женщину, которая вытирала руки о край передника. Увидев его, она инстинктивно легким жестом поправила прядь волос, падавшую ей на лоб. Он поздоровался, и она ответила, закрывая рот рукой, чтобы скрыть беззубые десны. Труэба объяснил, что ему нужна повозка, но женщина, казалось, не поняла его и только с застывшим взглядом прикрыла детей полой передника. Он вышел, подхватил багаж и двинулся дальше.