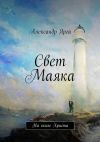Читать книгу "Аксиомы религиозного опыта"
Последним даром Церкви, о котором я могу здесь упомянуть, является живое Духонаучение, идущее от священства и пастырства.
Я разумею не только толкование Писания, Предания, Догмата и Таинства. Богословское образование и искусство пастырского общения необходимы священнику по самому званию его: он призван помогать своим прихожанам в поисках религиозного разумения и в часы сомнения; ему необходимо душевное глубокочувствие и ясный взор духовника, проницательно видящего индивидуальную человеческую душу и способного указать в трудную минуту жизни верный путь. Но еще драгоценнее этих знаний, разумений и умений – истинный и живой евангельский дух, который свидетельствует о Христовой благодати. Я разумею: молитвенную силу, любящее сердце и свободную, живую христианскую совесть.
Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет более действительного проповеднического служения, как сила и искренность личной молитвы. Вера крепнет и распространяется не от логических аргументов и не от усилий самонасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, но от живого восприятия Бога, от молитвенного огня, от очищения сердца, его подъема и просветления, от живого созерцания, от реального посещения Благодатию. Если священник способен искренно и беззаветно молиться сердцем и действительно молится так в своем уединении, то его церковная молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его церковном богослужении, и в его проповеди, и в его жизненных делах. И прихожане его сразу почувствуют сердцем, что «Сам Дух» молится в нем «воздыханиями неизреченными» (Рим 8:26) и что эти воздыхания передаются и им по неизреченным путям.
Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является как бы «неопалимой купиной» в своем приходе: прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, становятся соучастниками его молитвы; им передается теплота его веры; они приобщаются его духовному полету. И поучения его воспринимаются по-особому: не только умом, а и сердцем, живой совестью и воспрянувшей волей. Его беседы проникнуты творческим духовным опытом, живым религиозным созерцанием; они идут от сердца и воспринимаются всей душой. И дат же простая встреча с ним испытывается как утешение и безмолвное ободрение. Таков был Василий Великий.
В основе всего этого лежит некий религиозный закон, согласно которому глубина веры растет и крепнет в молитве, ибо молитва есть благодатное вознесение души к Богу, озаряющее, удостоверяющее и очищающее. Вот почему пастырь призван быть живым источником и живой школой молитвы.
Второе, что пастырь несет своим прихожанам в качестве дара от лица Церкви, есть живое, любящее сердце. Лучшее христианское миссионерство есть то, которое проистекает из подлинной доброты и сердечного понимания. Пока человеческое чувство сохнет и гаснет в умственно-отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и каменеет в ненависти, до тех пор человеку остается недоступным откровение Христа. Бессердечные люди не постигают в Евангелии самого главного; а если поймут, то не заживут им и не осуществят его. Черствая жадность делает человека слепым и глухим. «Реки воды живой» (Ин 7:38) текут только у любящих людей: ибо любовь отверзает сердце человека – и для Христова откровения, и для жизни и страдания других людей.
Если священник имеет эту любовь, то она чувствуется и воспринимается и в его церковной молитве, слышится и в его проповеди, обнаруживается и в его делах. Кто беседует с ним или помогает ему, у того возникает особое ощущение: он чувствует, что воспринял от своего духовника нечто драгоценное, жизненно существенное и ободряющее, что он испытал свет и теплоту сердечного огня, что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо живое сердце имеет запас доброты для всех: утешение для горюющего, помощь для нуждающегося, свет для беспомощного, живое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек. Простое обхождение с таким человеком становится незаметно живой школой сердечного участия, любовного такта, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный духовник есть носитель христианского духа, духа любви и сердечного созерцания. Таков был Серафим Саровский.
И вот, третье, к чему приводит христианский пастырь и что нам дарит через него Церковь – есть свободная и творческая совесть. Эта совесть должна жить в нем как самостоятельная и независимая сила, как критериальная мера добра и зла, мера, по которой светские люди могли бы проверять, выправлять и крепить свою собственную совесть. Там, где мы беспомощно сомневаемся и колеблемся, он, как мастер совести, должен видеть ясно и глубоко; где мы блуждаем и заблуждаемся, он должен знать и указывать нам прямую дорогу; где мы вопрошаем, он должен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушениях и соблазнах; он должен быть нашей опорой в колебаниях и изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечестность, неискренность, измена, интрига; и при этом – хранить справедливость в суде и в осуждении. Ибо совестный христианин не преувеличивает – ни в утверждении, ни в отрицании. Его суждение исходит из предметного видящего смирения, но произносится с мужеством и силой, ибо не он только произносит его, но предметный огонь в нем. Сколь прекрасен искренний и откровенный исповедник ничем и ни в чем неподкупный, бесстрашный пред сильными и свободный от честолюбия и властолюбия! Сколь драгоценен такой очаг христианской совести, с чистым пламенем и кротким светом! Таков был Иоанн Златоуст.
Понятно, что священство и старчество такого православного уклада является одним из драгоценнейших даров Церкви. Издревле монахи и священнослужители, жившие сердечным созерцанием и посвящавшие себя сверх этого и духовному аскезу, входили в тот «собор христианской праведности», который Церковь берегла и завещала последующим поколениям. Еще Василий Великий призывал: «желай лучше узнать жизнь праведных» (Письма. 39) и советовал «всматриваться в жития святых, как бы в движущиеся и действующие какие изваяния» (Письма. 2). И если вспомнить, что вчувствование в совершенство есть один из лучших путей для душевного очищения, то и этот дар Церкви предстанет нам во всем своем значении.
Весь этот путь должен естественно привести человека к религиозной цельности и религиозной искренности.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
О РЕЛИГИОЗНОЙ ЦЕЛЬНОСТИ
1Если кто-нибудь доселе сомневался в автономности и непосредственности религиозного опыта, то процесс религиозного катарсиса, изображенный мной, может и должен погасить это сомнение. Никто не может заменить «меня» в «моем самоочищении»; никакой совет, никакое авторитетное руководство не могут угасить «мою» самодеятельность в этом деле; совет остается делом советующего, применение его доступно только «мне самому». Религиозный опыт и в особенности религиозное очищение требуют от меня духовного самостроительства. И самая помощь Божия, – всегда необходимая и благодатная, – предполагает мою свободную волю, невынужденное расположение моего сердца, сосредоточенность моего созерцания, словом – свободное обращение мое к Богу: сначала непосредственно к Его лучам, даруемым каждому из нас, потом – непосредственно к Нему, излучающему, зовущему и открывающемуся.
То, что человеку нужно для религиозного очищения, есть именно религиозная самодеятельность, ибо Божие излучение и откровение даются всегда. Затруднение не в Боге, а в нас самих. Безразличие, пассивность, лень, земная страстность, жестокосердие, слепота, неумение, переменчивость, неустойчивость, отсутствие горения, недостаток воли и выдержки – все это присуще нам и должно быть преодолено в нас для того, чтобы совершилось необходимое.
А это необходимое состоит в пересмотре душевно-жизненных содержаний и в обновлении духовно-жизненных актов.
Надо, чтобы Божии лучи были открыты во всем и везде восприняты. Надо, чтобы они проникли во все слои души, сжигая пошлое и окрыляя душу к духовности. Надо, чтобы все жизненные акты человека прошли через некое очистительное и обновляющее согласование, – нисходя в душе к ее единому глубочайшему источнику и восходя в предметном плане к единому высочайшему Предмету, Богу. Процесс этот следует охарактеризовать двояко, – как душевное «нисхождение» и как предметное «восхождение», – но на самом деле это есть единый процесс, который Мейстер Экхарт описывал как «рождение Бога в душе»…
Тот, кто начнет проходить это очищение души по огням жизни, рано или поздно, – и лучше раньше, чем позже, – заметит, что от каждого единичного постижения, осмысления или у зрения в душе остается некоторый след, не исчезающий и как бы «опускающийся вглубь». Дело не сводится к тому, что одна «проблема существования» или одна «сторона жизни» осмыслилась в свете Божьего луча, тогда как все остальные остались незатронутыми и самая глубина души пребывает погруженной во мрак. Напротив, каждая проблема жизни, переведенная на язык духа, вводит человека в новое, высшее измерение жизни, заставляет его предполагать и желать такого же обновления для других сторон бытия и, главное, пробуждает «око духа» в глубине души.[174]174
См. главу одиннадцатую.
[Закрыть] Увидеть духовное можно только при помощи этого ока: от каждого огня жизни оно пробуждается, зрит, приемлет, очищается и крепнет. Таким образом, каждый акт религиозного катарсиса приводит в движение весь строй и уклад души, особенно тогда, если дело не ограничивается «теоретическим анализом» отвлеченной проблемы, а совершается силой сердечного и совестного созерцания и реально обновляет жизнь человека.
Если же мы представим себе, что такая катартическая работа становится постоянной и как бы «перепахивает» всю личную жизнь, наподобие того, как этого требовал Сократ от своих учеников, то мы поймем, что этот процесс создает действительное обновление жизни и, может быть, прямо «новую духовную личность» в человеке. И вот, основное, чего следует добиваться в этом обновлении – это цельность новой души.
Не следует ставить этому обновлению произвольные пределы: «этого» я не буду касаться; или: пусть такие-то содержания и такие-то акты остаются неприкосновенными для духа; или еще: «не могу же я отдать на такой суд и вынести на такой свет – все радости жизни и все сладости греха»… Всякая такая резервация ограничит, задержит или исказит религиозный катарсис души. Необновленные содержания образуют сначала «залежи» низшего сорта, потом сферу самоволия и самоутверждения, центр «активного сопротивления», «восстания» и, наконец, «гражданскую войну»… Необновленные акты быстро создадут особую, самостоятельную, вторую личность в человеке, и этот тягостный раскол рано или поздно приведет к духовно-, а, может быть, и душевно-разрушительным последствиям.
В предотвращение этого надо с самого начала признать, что человек религиозен лишь там, где он целен, и лишь постольку, поскольку ему удалось добиться в самом себе внутреннего единения и единства. Тот, кто признае́т Бога лишь одной частью души и духа, а другой или даже другими – не признае́т, тот не закончил своего душевного катарсиса: он остановился на распутии и не имеет основания считать себя религиозным человеком. Пока воды его жизни плещутся тихо, он будет держаться на их поверхности, и, может быть, даже он будет казаться и себе самому, и другим людям – «религиозным человеком». Но первое же волнение «жизненного моря» покажет ему, что он состоит во внутреннем расколе и что все дивные свойства религиозности не свойственны ему. Если же поднимется настоящий ураган и море начнет ежеминутно грозить ему «девятым валом», он тотчас же почувствует, что его «религиозность» была мнимой и что этой иллюзии пришел конец.
Итак: надо добиваться цельности для своего религиозного опыта.
2Духовный и культурный кризис, ныне переживаемый христианским человечеством, возник из утраты им религиозной цельности. Нецельная религиозность есть слабая, колеблющаяся, исчезающая; она перестает вести, воспитывать и очищать человеческую душу; с ней начинают соперничать, ее начинают отстранять от культурного руководства иные силы души, иные акты человека; а так как религиозность, давая человеку лучшее, сама предъявляет к нему великие требования, а другие акты требуют меньшего и за то обещают «все», – человек, постепенно теряя вкус к лучшему, начинает двигаться по линии наименьшего сопротивления, по линии легчайшей кратчайшей и скорейшей в достижении… «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф 7:13).
Все основные силы души постепенно отрываются от религии, «секуляризируются» и начинают безрелигиозное существование. При этом роковое значение принадлежит не светскости их творчества, не независимости его от церковных предписаний, а безрелигиозности и противохристианскости этого творчества: ибо видимая автономия ведет их к бездуховности, к безбожию, к утрате религиозного опыта, к кризису и разложению культуры. Губительна не автономии религиозного опыта, а злоупотребление автономией в сторону оскудения и опошления.
И вот, «ум» «не подтверждает» религиозных догматов христианства, отвергает их, отвертывается от религиозного опыта и выдвигает свои рассудочные обобщения.
Сердце начинает стыдиться христианских состояний, – доброты, смирения, покаяния, умиления, совестных порывов, – черствеет и отмирает, и именно поэтому предается злобе, зависти, ненависти и разврату. Воля отвертывается от христианских целей и, руководствуясь рассудком и бессердечием, выдвигает свои цели, от осуществления которых стонет и содрогается современное человечество. Воображение перестает служить духовному созерцанию и предается чувственному произволению, капризу, похоти и разнузданию. И все эти силы начинают творить по-своему новую «культуру», – «культуру» содержательного разложения и формальной тирании.
Цельность духа утрачена, творчество перестает быть глубоким и органическим; начинается эпоха распада, разброда, беспредметности и смуты.
Истинная религиозность отличается именно тем, что она требует духовной цельности и потому призвана целить всякий распад и разброд. Это отнюдь не означает, что религия ведет к тоталитаризму, как это мы видели исторически у Савонаролы во Флоренции, у Кальвина в Женеве и в других религиозных сектах. Религия вообще не есть внешне принудительный порядок; она дорожит человеческой свободой, т. е. духовной добровольностью и самодеятельностью человека. Цельность, которую я имею в виду, есть внутренний строй и уклад души, добываемый человеком именно в порядке этой духовной добровольности и самодеятельности. Религиозный дух ищет внутреннего единства и органической согласованности; это я и называю «цельностью».
Поэтому возрождение настоящего религиозного опыта, как оно предносится мне в будущем, должно преодолеть эти больные внутренние разрывы и расколы, из которых растет культура последних столетий. Вера и разум; сердце и ум; ум и созерцание; созерцание и сердце; сердце и воля; воля и совесть; совесть и инстинкт; инстинкт и разум; дела́ и вера – все эти и другие возможные противопоставления и расколы образуют сущие раны в единой и священной ткани духа. Мы знаем, что человеческая душа может жить, путаясь, распадаясь и изнемогая в таких противоположностях; мало того, она способна в порядке душевной болезни разделяться в человеке и образовывать две исключающие друг друга «полуличности» (шизофрения, паранойя). Но религиозный дух к этому не способен; он этого не приемлет и с этим не примиряется.
Среди даров, которые религия несет человеку, имеется дар органической цельности духа. И если душа человека лишена этого дара, то это означает, что ей надлежит продолжать свое духовное очищение и что ей предстоит еще дорасти до настоящей религиозности.
Поэтому все перечисленные нами силы необходимы в религиозном опыте; и все они должны не просто «участвовать» или «соприсутствовать» в нем, но срастись в единый и целостный духовный акт.
3Так, религиозный человек не может мириться с тем, что он верит во что-то, отвергаемое его разумом; или с тем, что разум его утверждает нечто такое, против чего восстает его вера. Если он примирится с этим, тогда он будет слабо веровать и робко мыслить; вера его будет под цензурой законно восстающего разума, а разум его будет под анафемой законно отвергающей его веры; сам же он будет вековечным изменником и предателем: то изменником своей веры, то предателем своего разума. И потому он будет – то осуждать себя за свою веру, то подавлять в себе свои разумные воззрения. Он не будет доверять ни своему разуму, ни своей вере; и кончит тем, что не будет доверять самому себе и потеряет к себе уважение.
Теория двух «параллельных», – различных или противоположных, – истин, к которой склонялись Шаррон и Монтень, психологически понятна в своем возникновении; это был компромисс, спасавший «разум» от преследования католической церкви и в то же время не порывавший окончательно с церковной догматикой; но в духовном отношении эта теория была наивна и беспомощна. Она предлагала религиозному человеку духовную шизофрению как способ жизни; или же – некий «бухгалтерский» самообман в верованиях и убеждениях. Две истины, – одна религиозная, неприемлемая для разума, а другая разумная, неприемлемая для религиозного опыта и веры, – значит ни одной истины; это означает неисцелимый раскол в духе; двоевластие, с перемирием в гражданской войне духа с самим собой. Эта гражданская война узаконялась как способ жизни: рано или поздно она разразилась бы и привела к окончательному отвержению или веры, или разума, или и веры и разума вместе.
То, чего надо добиваться, есть не просто «примирение» веры и разума или синтез их учений, а тождество веры и разума. Вера должна стать разумной верой, а разум должен стать верующим разумом.
Для этого идея разума должна быть расширена, углублена и окрылена. Разумная мысль совсем не прикована к чувственному опыту как своему якобы единственному источнику: есть еще опыт нечувственный (психология, логика, математика) и сверхчувственный (духовный). Разум прав, когда он требует и ищет достаточных оснований в опыте; он остается разумом и тогда, когда ищет этих оснований в нечувственном и сверхчувственном опыте. И тогда он становится верным и драгоценным орудием веры: вера делается разумной верой, противоположность снимается и раскол в духе предотвращен.
Соответственно с этим вера должна быть прикреплена к идее достаточного основания и к религиозно-предметному опыту. Нельзя относить к вере всякое суеверие, пустоверие, легковерие и все аутистические фантазии на религиозные темы, которыми она психологически и исторически окружена. Нельзя строить веру на страхе, на вожделении, на расчете, на жадности и на других инстинктивных побуждениях души. Нельзя строить веру на изнеможении разума. Нельзя «спасать» богооткровенные истины, которые разум еще не умеет оправдать и принять, посредством отречения от разума: «верую именно потому, что мой разум изнемог» («credo quia absurdum»). Разум есть высокий и светлый Божий дар, а не соблазн, идущий от грешной и богопротивной «человечины»; и не искушение, исходящее прямо от диавола. Вера не смеет быть ни слепа, ни легка, ни глупа. Ни слепота, ни легкость, ни глупость не ведут к Богу. И то «безумие» и «юродство», о которых пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам (1 Кор 1:18–25), есть безумие и юродство (и «соблазн») только для слепых иудеев и для непросвещенных язычников.[175]175
В греческом оригинале сказано не «для Еллинов безумие», «ἔθνεσιν δὲ μωρίαν», т. е. «племенам же глупость».
[Закрыть] Толковать эту вдохновенную иронию апостола в буквальном смысле, как отречение христианства от разума – было бы неверно и опасно и противоречило бы всем разумно-апологетическим трудам и писаниям как самого Павла, так и всех отцов церкви. Ибо все они утверждали именно за христианским учением высшую зрячесть, глубину и разумность.
Слепая вера будет неизбежно строиться на страхе и уведет в нечистые сферы души. Легкая вера будет прилепляться ко всякому субъективно импонирующему или подкупающему вздору и уведет от Бога. Глупая вера угасит в себе все критерии удостоверения и очищения. Из всего этого возникнут только гибельные соблазны.
А между тем религиозная вера не есть вопрос личного «вкуса» или «произволения» и не есть вопрос второстепенного «приукрашения» жизни вроде комнатного фарфора или цветника в саду; это есть вопрос всей жизни, всей судьбы человека, вопрос земной смерти и, может быть, посмертной гибели. Исключить разум из решения такого вопроса – значило бы поистине лишиться разума. Только в несчастный час жизни может прийти человеку на ум – доверить всю судьбу своего духа безразумной слепоте, легкомысленному противоразумию или безответственной глупости. И все это – в пределах христианства, парящее благовестие которого начинается словами «В начале был Разум» (Ин 1:1): «’Εν ἀρχη̨̃ ἠ̃ν ὁ λόγος»…
Нет, вера может и должна иметь достаточное основание, и в обретении его разум служит ей незаменимую службу, – но, конечно, разум, а не просто рассудок, слепой ко всему, кроме чувственного опыта и формальной логики! Это достаточное основание вера должна находить в религиозно-предметном опыте со всей его духовностью, созерцательностью и сердечностью; и разум призван содействовать этому, а не противодействовать. В результате этого разум станет верующим разумом, приобретя всю личную силу и все религиозное достоинство веры; а вера станет разумной верой, приобретя всю убедительность и всю терпимую мудрость разума.