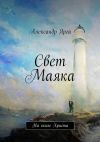Читать книгу "Аксиомы религиозного опыта"
Все это означает, что потребность символически изобразить Бога просыпается в человеческой душе с самого начала, с того момента, как он пытается уйти духом от повседневной жизни, от тесноты, пошлости и смрада своего жилища, в таинственную пещеру, под тень старого дуба или же прямо создать «обитель» своему Богу… Тем естественнее, тем понятнее эта потребность, когда он пытается вообразить и изобразить самого Бога, обитающего в этой обители. И тогда перед ним встают те же самые затруднения, с которыми он борется в религиозной архитектуре, – но теперь уже в скульптуре и живописи.
Я не могу пересказать здесь историю этой борьбы религиозного человечества за верное богоизображение, ни в языческом мире, ни в христианском. Но актологически осветить сущность этой борьбы необходимо.
Есть две возможности: или исключить чувственное воображение из религии, или включить его в строение религиозного акта. Исключение есть дело трудное, насильственное и опустошительное. Это дело трудное, потому что огромное большинство людей почти неспособно к отрешенному нечувственному созерцанию, которое дается лишь избранным натурам и требует долгого упражнения и особой душевно-духовной дифференциации; большинство людей нуждается в чувственном воображении и изображении для того, чтобы хотя через него узреть нечувственное. – Это дело насильственное, потому что запрещение скульптурных и живописных изображений в религии остается внешней «отменой», нисколько не считающейся с религиозной способностью и потребностью человека: новый отрешенный религиозный акт нельзя предписывать и навязывать, как это пытались сделать императоры-иконоборцы во главе с Львом Исавром и Карлом Великим. – Это дело опустошительное, потому что отказ от чувственного воображения в религии сразу – нарушает жизненную цельность религиозного акта и лишает религиозное чувство всего того богатства, всей той художественной глубины и всей той духовной выразительности, которые присущи подлинному искусству. А между тем религия, с одной стороны, требует жизненной цельности и не мирится с произвольно-доктринерским рассечением человеческого существа: она ищет и объемлет всего человека – и чувствующего, и мыслящего, и созерцающего, и изволяющего, и действующего. С другой стороны, именно человеческому чувствилищу («сердцу») свойственна жажда узреть любимое, созерцать веруемое, и если невозможно созерцать Бога «выну» и «воочию», то зреть Его символически или хотя бы аллегорически, наподобие того, как духовно-прозорливый человек зрит его в природном естестве.
Пока человек имеет тело и живет на земле, ему невозможно обойтись без чувственных состояний, проявлений и образов. – Правда, от минимума пищи, слов, восприятий, движений и представлений чувственный облик личной жизни оскудевает, но это не освобождает человека от протяженной жизни в пространстве. Поэтому задача состоит не в том, чтобы отнять у духа эту жизнь как «непригодную» или «унизительную», или грешную, а в том, чтобы творчески прожечь ее духом, включить ее в религиозный акт и подчинить ее веянию божественной Благодати. А это значит – посильно и даже сверхсильно искать изображения, или отображения, или хотя бы аллегорического знаменования Бога в чувственных образах.
В этом человеку, конечно, приходится считаться с затруднениями «апофатического» характера: ибо если Господь в своей сущей предметной самосути непознаваем, незрим, невыразим и неописуем, то как же можно найти чувственные образы, способные Его выразить и изобразить? Таких чувственных образов, по-видимому, нет и быть не может. Но «иконотворчество» и не ставит себе таких задач ни в архитектуре, ни в скульптуре, ни в живописи: дело не в том, чтобы чувственно вообразить и адекватно изобразить сущую таинственную самосуть Божию, недоступную человеку, но в том, чтобы, постигнув сердцем луч Его совершенства, прожечь этим лучом чувственный образ (человека или природной вещи) так, чтобы у взирающего на этот образ сердце через зрение и воображение загорелось этим самым лучом Божьего совершенства и вознеслось в этом огне к непостижимой Самосути. Бога нельзя показать чувственно, но опыт божественного можно возжечь в сердцах через чувственный образ. И если всякое художественное искусство призвано к этому и добивается этого, то «иконотворчество» усваивает себе эту задачу художественного искусства, исходя из той глубины религиозного опыта, в которой живет сущее Откровение. А эту религиозную глубину указует людям Церковь.
Это означает, что включение чувственного воображения в религиозный акт отнюдь не делает «фантазию» самостоятельным и руководящим началом в религии и не развязывает ее к беспредметному произволу: религиозное воображение призвано не творить чувственную химеру из страха или из вожделения, как это мы видим в Индии и в семитических религиях Ближней Азии; напротив, оно остается предметно подчиненным более глубоким показаниям религиозного опыта – сердцу и его созерцанию, церковному догмату и каноническому указанию. Иконо-творящее воображение призвано увидеть верное – сердечным нечувственным созерцанием и найти для нечувственно-узренного художественно-точный и церковно-приемлемый чувственный образ Бога или божественного в человеке (изображение святых).
Этот найденный и закрепленный образ отнюдь не посягает на предметность «портретного» характера: «вот таков зримый образ Бога, таков сущий Господь на самом деле»; или же – «вот точно таково было историческое обличие Иисуса Христа, Девы Марии и поименованных святых». Икона говорит совсем иное: «дошедший до нас по церковному Преданию лик Спасителя, воспринятый из Евангелия нечувственным созерцанием сердца, может быть художественно изображен в таком обличии; взирай на него и возносись сердцем к нечувственному созерцанию Духа Христова». Подобное же надо выговорить об иконе Богоматери. В том же понимании осмысливается иконописание ангелов и святых (апостолов – по Евангелию и по преданию, святых – по житиям и по преданию).
Надо в особенности признать, что «все запреты» апофатического богословия не могут быть применены к начертанию образа Иисуса Христа: в Нем Божество стало «плотию», т. е. реально приняло человеческое обличие и стало художественно изобразимым. Иначе – в изображении Отца и Духа Святого, где чувственное воображение осуждено бороться и изнемогать, встречаясь с великими трудностями онтологического и образного характера; но в изображении Сына Божия эти трудности уступают место затруднениям религиозно-художественного и исторического рода. В Лице Спасителя – Бог даровал людям радость «во плоти зрения» и художественной изобразимости; и странно было бы, если бы люди из самомнения или из-за духовной слепоты отказались от этой радости. В этом отношении классическое обоснование иконописи, изложенное у Иоанна Дамаскина, остается через все века непоколебимым и неопровержимым.
При этом мы можем психологически понять людей другого исповедания, которые не знают иконы и не понимают ее значения: их «христианство» живет (если оно вообще живет) волевым и умственным актом; оно ушло от сердечного созерцания; и конкретный, т. е. художественно-проникновенный, спиритуализм православия чужд их религиозности… Они устранили воображение из религии, и их обхождение с внешним миром пространственных вещей стало безрелигиозным (а именно экспериментально наблюдающим и утилитарно техническим). И вследствие этого икона кажется им разновидностью «идола».
Но на самом деле «идол» есть обожествляемое изображение Бога; это есть «сам бог» или «почти сам бог» – остаток фетиша. Икона же не обожествляется, а почитается, как «не Бог», но «сущая святыня»; и только из глубины сердечного созерцания можно сказать, что это за святыня и в чем ее святость.
Когда человек вешает у себя в комнате портрет своей покойной матери или отсутствующего друга, то, взирая на него, он отнюдь не принимает изображение дорогого человека за самого почившего или отсутствующего. И тем не менее он вешает портрет этот на видном и почетном месте, чтобы созерцать сквозь условно похожие и несовершенно передающие черты – то душевно-духовное существо, которому он предан сердцем. Это делают почти все люди, и никто из них не считает себя «портретообожателем» или «идолопоклонником».
Икона есть зримое напоминание о Боге и призыв к Нему, а не сам Бог; поэтому давно пора перестать говорить ветхозаветные слова о «кумире» и «всяком подобии». Она есть, подобно храму, как бы «дверь Божия», в которой не следует останавливаться, но через которую следует войти в «пространство духовной молитвы». Икона не заменяет и не замещает божественного Предмета, но образно символизирует Его, даруя человеку восприятие «отсутствующего» и незримого, но как бы присутствующего и видимого: чувственное взирание вызывает в душе сердечное созерцание, и дух пробуждается к вниманию и молитве. Взирая на икону молитвенно, человек созерцает то, на что сокровенно и символически она указывает; он видит то, о чем она говорит и что она раскрывает; он религиозно вчувствуется в эту символизируемую святыню. Перед ним зерцало божественного совершенства (spaeculum perfectionis), с которым он вступает в своеобразное и драгоценное религиозно-художественное отождествление и, следовательно, в духовное единение. Верующее сердце увереннее находит свое сокровище (Мф 6:21; Лк 12:12,31) и возносится.
Таким образом, икона является художественно данным средоточием религиозно-молитвенной медитации; чувственным началом сверхчувственного созерцания; священным обликом, сосредоточивающим на себе молитвенные «лучи» целых поколений страдающих, созерцающих и духовно-возносящихся душ; благодатною дверью к Богу, способной не только сосредоточивать духовные излучения людей, но по вере их – могущей и передавать им свыше всемогущие Лучи Божией благодати (чудотворные иконы).
Таков третий дар Церкви.
4То, что православно-верующие получают «яко дар» от своей Церкви, сводится, прежде всего, к Писанию, Преданию и Догмату. Я предоставляю церковным историкам и верующим богословам (ибо суждение неверующих, религиозно слепых богословов, число коих на Западе все увеличивается – неинтересно) рассматривать и толковать эти величайшие дары по существу и касаюсь их исключительно в порядке религиозной актологии.
Призвание Церкви состояло не только в том, чтобы осуществить, собрать, канонизировать и соблюсти сквозь века верную и аутентическую запись евангельских событий, слов и дел, но и в том, чтобы открыть верующим и еще не уверовавшим людям доступ к Св. Писанию и научить их верно читать и понимать записанное. Людям естественно и подобающе искать непосредственного касания ко Христу, Сыну Божию, совершенно так, как его искали и находили евангельские больные и сомневающиеся и как этого желал и осуществил апостол Фома; и никому из них не возбранялось – видеть, слышать, касаться и исцеляться, вопрошать днем вместе с самарянкой «у кладезя» благодатной Воды и в ночной тишине вместе с Никодимом. Книга жизни должна быть доступна всем, и потому неправы те исповедания, которые столетиями возбраняли верующим самостоятельно читать Св. Писание. Опасение, что люди прочтут неверно и истолкуют искаженно, всегда сохраняет свое значение, но это только означает, что акт верного чтения должен быть указываем и насаждаем пастырями церкви.
Надо различать чтение формальное и чтение плеротическое. Формальное чтение доступно всякому грамотному человеку: оно осуществляется глазами, обычным словоосмысливающим сознанием и регистрирующим, религиозно-безразличным восприятием при помощи воображения и рассудка. Так мы читаем повседневные газеты и книги, причем многие совсем и не догадываются о духовной пошлости такого чтения, о возможности и необходимости иного. Верное чтение Св. Писания есть чтение плеротическое, т. е. чтение из полноты религиозного акта, с участием духа, совести и сердечного созерцания: Духа, т. е., прежде всего, чувства ответственности и воли к совершенству; совести, т. е. живой готовности узнать и осуществить веяние совершенства; сердца, т. е. любви к Богу; и созерцания, т. е. нечувственного взирания сквозь чувственные знаки и явления. Это есть чтение, осуществляемое полнотой личного религиозного опыта; и только этой субъективной «плероме» может даться и открыться предметная плерома. Это есть не просто «внимание», но и духовное и сердечное «внутрь-имание», о котором молится Церковь словами: «о сподобитися нам слышанию святого Евангелия». Это разумеет Василий Великий, говоря: «пусть ум изыскивает смысл сказанного, чтобы воспеть тебе духом, воспеть же и умом»; и Феофан Затворник, когда советует при чтении Писания останавливаться на прочитанном и «стоять» дотоле, пока сердце не примет его и не покроет своим ви́дением.
Это означает, что есть особая духовная культура религиозного чтения, которая должна практически преподаваться Церковью, с тем, чтобы формальное чтение было раз навсегда дезавуировано и отведено. Надо признать, что почти все ереси и секты в истории христианства, а также все современные доктрины, критически разлагающие новозаветный текст и приходящие к выводу, что мы не знаем ничего о Христе или что Он совсем не жил на земле, имеют в основании своем формальное чтение с произвольно умствующим толкованием. Писание – от Духа и дается только живому и собранному сердцу. Чтение сердцем – отнюдь не есть праздная выдумка, и осуществление его отнюдь не отдает восприятие и суждение читающего на жертву субъективной впечатлительности и личного произвола. Внемлющее сердце, сдерживаемое духовной ответственностью и волей к предметной верности – имеет свою культуру и является величайшей силой верного разумения. И именно такая культура может и должна вызвать в душе тот аскез силы суждения, который научит человека воздерживаться от неосторожных и притязательных лжеучений, вынашивать свое разумение до полной зрелости и искать помощи и научения в святоотеческой литературе. Именно недостаток такой культуры привел на наших глазах Л. Н. Толстого к его новому «христианству» без христианства.
Такая культура сердечной плеромы необходима особенно в восприятии следующих даров Церкви – Предания и Догмата.
Невозможно сомневаться в том, что Христос вел со своими учениками негласные, а может быть, и прямо тайные беседы, наподобие Его беседы с Никодимом. Невозможно также сомневаться в том, что канонические евангелия сохранили нам не все, что желала бы воспринять о Христе душа верующего христианина. Есть ряд «апокрифических» евангелий; и тот, кто читал их, может только изумляться тому безошибочному отбору, который был проведен Церковью при составлении новозаветного канона: до такой степени в этих «евангелиях» проявляется чуждый дух, дух человеческого любопытства, словоохотливой выдумки и снижения высших мерил, в отличие от духоносного и живоносного характера канонических Евангелий. Есть еще сборники «Логий», т. е. отдельных изречений, приписываемых Христу. Однако наряду с этим Церковь хранит еще изустное предание, о необходимости которого высказался с такой убедительной силой и глубиной Василий Великий (О Святом Духе, гл. 27). Это Предание не следует смешивать с бесчисленными, нередко наивными, фантастическими и по духу нехристианскими «легендами» позднейшего происхождения. Церковное Предание обычно не «повествует», а дает указания о совершении молитв, обрядов и таинств и об их сокровенном смысле. Отвергнуть это все рассудком, оторванным от сердечного созерцания, значит порвать те драгоценные, живые нити, которые связывают нас с апостолами и приближают нас к эзотерии Христа. Принимать же это наследие следует из плеромы сердечного созерцания.
Это требование относится с еще большей силой к Догмату.
Надо знать, что далеко не все религии, известные нам из истории человечества, имели свои зрело завершенные догматы. Религиозность Индии прямо уклонялась от догматики. О догматах пали-буддизма трудно даже и говорить. Мудрая практическая философия Конфуция и Лао-цзы воспитывала человека, а не раскрывала ему истинного ведения о Боге. В Пятикнижии Моисея насчитывается до 613 заповедей к соблюдению, но «символа веры» в нем не найти. Греки, римляне и позднейшие культы Ближнего Востока жили мифом, а не догматом. Таким образом христианский Символ Веры является вряд ли не первым догматом в истории религий.
Верующий христианин, воспринимая от своей Церкви такой догмат, раскрывающий ему истину о Боге и тем самым высший смысл общечеловеческой и личной жизни, получает сразу великое облегчение, но и бремя чрезвычайной ответственности. Облегчение состоит в том, что ему дается зрелый плод долгого и целостного религиозного опыта, воспринявшего Откровение из первоисточника и молитвенно претворившего его «о Духе» в сердечно-продуманное и формулированное «учение». Он получает из чистого и авторитетного источника то «благое научение», которое призвано стать как бы «духовным кристаллом» его собственного автономного религиозного опыта. Но именно это и возлагает на него высокую религиозную ответственность.
Религиозный догмат не есть «текст» для заучивания наизусть, хотя знать его наизусть подобает каждому. Он не есть и ряд логических тезисов для философского анализа и богословского толкования, хотя пройти через школу такого толкования необходимо каждому христианину. Догмат есть нечто несравненно большее: он требует от нас религиозного наполнения и исполнения, сердечной и всежизненной плеромы. Сердечное созерцание должно увидеть через Символ Веры – Господа Бога в меру Его созерцаемости и познаваемости; Христа Спасителя в Его пришествии, земном пути, воскресении и вознесении; Духа Святого в Его животворящей силе и славе; апостольскую и соборную Церковь; и земной путь личного человека от крещения, через страдания и таинства – к бессмертной жизни после земной смерти. Увидеть это все не значит только «познать» нечто новое, но значит начать новую жизнь: ибо познание при помощи сердечного созерцания требует всего человека и вовлекает его целиком. Религиозный опыт Евангелия и христианская онтология заключены в христианском Символе Веры в некотором как бы сосредоточенном и прикровенном виде, выраженные в скупых, лаконических словах, из коих за каждым зрится некий «колодезь» разумеемого содержания; личный опыт христианина призван спуститься в эти «кладези» или «шахты», принять все скрытое в них богатство и развернуть его по мере сил – в личной молитве и в личных жизненных деяниях.
Напрасно люди думают и говорят, будто Символ Веры, сформулированный Церковью шестнадцать веков тому назад, изжил свое время и устранен развитием научной культуры. Они пытаются этим «объективировать» в истории духовную инородность и несостоятельность своего собственного акта, как бы «узаконяя» свою неспособность к духо-сердечному созерцанию. «Грозя» никейскому Символу Веры от лица рассудочной науки, они не понимают или забывают основное, именно, что рассудок совершенно некомпетентен в делах религиозного опыта и что ему нечего сказать в той сфере, которая раскрывается только инородному (гетерогенному) акту. «Наука», которая не понимает своих предметных и актовых пределов, забывает обязательный для нее аскез силы суждения и вторгается в недоступные ей сферы, – есть уже не наука, а «полу-наука», со всей ее слепотой и зловредностью.
Акт, наблюдающий внешние явления, удостоверяющий их и обобщающий их черты, желающий все взвесить и смерить, – некомпетентен в сфере духовного опыта; и суждения его безответственны и неинтересны. Догмат дается Церковью как основа религии, а религия не есть наблюдение внешних явлений и есть не просто умственное «воззрение», а самый огонь жизни. Так называемое «христианское» человечество еще не жило в духе и в смысле христианского Символа Веры, и пути эти для него еще открыты. – Таков внутренний смысл догмата.
5Рассматривая и исчисляя по порядку основные дары Церкви, мы не должны представлять себе эти блага в том разделенном и разрозненном виде, в котором их представляет изложение: напротив, они слагаются в проникновенное единство. Религиозный акт есть душевно-духовная основа всего; храм и иконы суть его «вещественные знаменования»; писание, предание и догмат суть его источники и сокровища, в целом – его обоснование; молитва, обряд и таинство являются его жизненно церковным осуществлением. Все это образует целостное духовное единство, не знающее расчленения и живущее во взаимопроникновении. Все это вместе составляет тот дар Церкви, который можно обозначить как духонаучение.
Церковь учит людей молиться, т. е. верно обращаться к Богу и вступать с Ним в то драгоценное единение, которое составляет самую сущность религии. Человек призван жить в обращении к Богу и лучше всего, чтобы это обращение было непрерывно, т. е. чтобы оно не угасало в душе при всех ее земных занятиях.[173]173
См. об этом в главе двадцать второй «О молитве».
[Закрыть] Но это обращение должно непременно иметь свои сосредоточенные подъемы, духовно верные и действительно приводящие к единению с Богом; и вот Церковь учреждает и осуществляет для этого свои богослужения. Эти богослужения составляют, прежде всего, школу верной молитвы.
В церковных богослужениях и особенно в Таинствах надо различать две стороны одного единого события: внешнюю сторону – слышимого слова и видимого действия; и внутреннюю сторону – сердечно-созерцательного и молитвенного наполнения («плеромы»). Внешнее («обряд») осуществляется церковно– и священнослужителями; и наружное участие в нем предстоящих людей является малейшим. В православном богослужении они, например, не поют целой общиной, как это мы видим в западных храмах, а предоставляют пение более искусным и подготовленным певцам, отчего благолепие службы только повышается. Но внутреннее, душевно-духовное наполнение обряда молитвой есть дело предстоящих в храме людей. Каждый из них «приносит» в храм свою отзывчивую или неотзывчивую душу, свою способность или неспособность к самостоятельной молитве, свою озабоченную мысль, свое полурастраченное в земных делах чувство, свое чувственно-засоренное воображение и свое малое умение сосредоточиваться духовно. И вот, в этом внутреннем объеме своего личного опыта каждый из нас должен осуществить то внимание (т. е. «внутрь-имание»), которое позволит ему почувствовать, приять и «уразуметь» религиозно-символическую глубину обряда: его облачения, его древнеобретенные и молитвенно-насыщенные слова, его живые действия – каждение, хождение, воздевание рук, благословения, поклоны, чтение и пение, – открывание и закрывание врат и завесы и все те благоговейно-таинственные свершения, которые составляют видимое обличие таинств.
Религиозно-символическая глубина православного богослужения имеет сразу несколько измерений. За ее истовой, спокойной и благоговейной внешностью скрывается вся история христианства, все его богосозерцание, вся его понерология (учение о зле) и сотериология (учение о спасении), весь земной путь Христа, все догматические основы веры, все искусство молитвы – и все это в виде приуготовления и осуществления таинств. Здесь все насыщено религиозной символикой, все ждет от предстоящих сердечного разумения и созерцания, все требует духовного смысла и, следовательно, пребывания в духе. И многое, что людям иного религиозного акта, не разумеющим конкретного спиритуализма Православия, кажется «странным» или «излишним», или даже «идолопоклонническим», – не открывается им потому, что они погасили в себе художественно-символическое постижение и плерому сердечного созерцания. Именно поэтому они и не понимают конкретного спиритуализма Православия.
Конкретный спиритуализм Православия состоит в том, что религиозное чувство не противопоставляет вещественное – духовному, как чуждое ему, несоединимое с ним, не приемлющее ни Духа, ни его закона: наоборот, оно признает, что вещественное может и должно принять в себя начало Духа, проникнуться им, получить Его достоинство и значение, стать Его воплощением и воплотить в себе Его благодатную силу. Дух способен делать вещественное своим знаком, своим «седалищем» или «жилищем», так что он оказывается присутствующим в нем; он присутствует в нем – своей святостью и своей силой, тем более – своим «влиянием» на окружающую среду, которое верующие испытывают как радостное подтверждение, полуверующие – как «чудо», а неверующие как «фантазию теопатических натур».
Истоком такой веры и такого ви́дения является прообраз воплотившегося Бога, Сына Божия, Иисуса Христа. Это означает, что земное явление Христа переживается не только как единоразное, единственное в истории и исторически-преломляющее событие, но еще и как некий завет и обетование: обетование духопобедной возможности и реальности, а для человека – заповедь одухотворения. Овеществление Божества образует основу Таинства Евхаристии, преподающей верным «частицу» («при-частие») таинственно овеществленного Сына Божия. По этому прообразу православная мысль созерцает возможность и реальность иных «Духо-воплощений». Так, человеческий дух, проникаясь Духом Божественным, может целостно одухотворить свою плоть. Тогда Дух может сообщить ее обладателю харизматические дарования при жизни, даровать ей нетление по смерти и сохранить за ней и посмертно эти харизматические дары. Подобное Духо-присутствие и подобное же излучение благодати в вещь может состояться и в иконе, и в освященной воде, и в освященном елее. Здесь нет ни малейшего «идолопоклонства», но есть конкретный христианский спиритуализм (или, лучше, Спиритуализм), сдерживаемый духовным трезвением и ограждаемый от легковерия и суеверия началом церковного разума.
Освятившиеся вещи могут стать священными, – не божественными, каким было человеческое обличие Христа и каковыми по Его завету верующие христиане созерцают Св. Дары Евхаристии, но священными, ибо воспринявшими через освящение лучи Благодати. Здесь нет обожествления вещи, как в «идолопоклонстве»; материя не становится Богом и Бог не является вещью, как в «фетишизме». Но подобно тому как дух человека (πνευ̃μα, spiritus), предаваясь Духу Божию (Πνευ̃μα, Spiritus), способен подчинить себе и Ему свою плоть и сделать ее своим и Его верным выражением, «седалищем» или «жилищем», так и вещи могут воспринять духовное освящение и передавать его людям по вере их. Ибо дух не отвлеченное понятие, не «фикция» и не противовещественное начало, отвергающее плоть и материю; он есть живая, творческая и властная сила, способная как бы «врастать» в материю (отсюда «конкретный», т. е. сращенный) и подчинять ее своему закону. И в конечном счете вся духовная культура есть одухотворение вещества и вещественной жизни (и в познании, и в искусстве, и в нравственном делании, и в правовом общении). Именно потому вся духовная культура требует от человека личной духовности, а человеческая духовность живет и питается от Духа Божия. А конкретный спиритуализм исповедует эти основы как свои аксиомы.
Люди, которым этот конкретный спиритуализм чужд, будут всегда испытывать затруднение в понимании православного богослужения и особенно православного таинства. Ибо это богослужение есть не только «школа молитвы», но живое духовное делание: взращивание и укрепление живого духа в людях и духовное освящение всякой естественной вещи, с которой человек имеет живое дело. Таинство же есть особливое преподание благодати человеку, ищущему живого единения с Богом.
К верному восприятию таинства человек должен внутренно, а постольку и внешне, подготовиться: он должен очистить свою душу от всего противодуховного, пробудить в себе волю к совершенству, возжечь огонь своей христианской совести, покаянно осветить им свою греховность, открыть свое духовное око для ви́дения и разумения, привести в движение свое созерцающее сердце и сосредоточить полноту своей веры («плерому»). Полнота таинства требует религиозно-молитвенной плеромы от участника. Думаю, что это верно и применительно к священнослужителю, совершающему таинство.
Подобно тому как чудеса Спасителя требовали веры от исцеляемого, т. е. его сердечно-созерцающей плеромы (см. Мф 9:2,22,29; 13:58; 15:28; 17:20; Мк 5:34; 10:52; Лк 7:50; 8:48; 17:19; 18:42), так и чудо Таинства: благодать не только даруется, но и приемлется; дарование ее нисходит свыше, но к приятию ее мы имеем «достодолжно» (по слову Симеона Нового Богослова. I, 162) подготовляться, чтобы причащаться «не в суде» себе и «не во осуждение», но «в жизнь вечную». Так, как это выражено у апостола Павла (1 Кор 11:27–34); и как это разъяснено у Кирилла Иерусалимского применительно к Таинству Крещения: при искренней вере крестящегося «люди совершают видимое, а Св. Дух дарует незримое»; «если же ты лицемеришь, то люди будут тебя крестить, но Св. Дух не будет тебя крестить» (Катех. XVII, 36).
Вот почему следует признать, что внешний обряд без внутренней молитвы есть лишь наружная форма или возможность религии и единения с Богом, но не их реальное осуществление; и что таинства, как «стихии, питающие духовную жизнь» человека (Феофан Затворник), требуют от него духовного и искреннего наполнения. Иначе этот драгоценный дар Церкви – только дается, но не принимается и не благодатствует.