Текст книги "Почта духов. Повести"
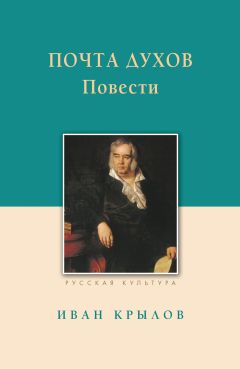
Автор книги: Иван Крылов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку
Недавно, прогуливаясь по городу, увидел я дом, у которого теснилась толпа народа; я вошел в сени, чтоб спросить, что это значит? как взял меня за руку молодой человек. «Государь мой! – сказал он, – еще очень рано, не угодно ли вместе со мной прогуляться, и я вам после в сем доме покажу вещи, подлинно достойные удивления».
Радуясь товариществу, вышел я с ним из сеней и пошел по вымощенной красным мрамором улице. Как был я в самом простом платье и не столько должен был отвечать на поклоны, то потому без всякого помешательства мог иметь с товарищем моим следующий разговор.
«Признаться, что в большом свете очень тесно жить без денег, – сказал я, – соблюдая имя бедняка, а еще несноснее видеть, что люди недостойные пользуются богатством, а мы, которые чувствуем, что могли бы принести пользу государству, совсем позабыты, что существуем на свете».
«Это правда, сударь, – отвечал он, – что хотя куча бедняков больше, нежели богатых, однакож со всем тем их не примечают. По крайней мере нам служит одно то утешением, что мы не первые на это жалуемся. Впрочем, видя по лицу вашему в вас честность и имея способы вам помочь, я за долг почитаю этим вам служить. Послушай, друг мой, – сказал он, вдруг переменя голос, – ты кажешься мне так беден, что с трудом можешь себя поправить; правда, хотя на нашем острове можно надеяться на хитрость, но состояние твое так мало, что тебе нельзя сделать никакого плутовства, не быв за то повешену или высечену розгами. Хочешь ли ты, чтоб я дал тебе хлеб? Вступи в нашу шайку, я в ней старшиною и обещаю тебе мое покровительство».
Я. А какая это шайка? Не одна ли из тех, которые, как сказывали мне, состоят из ярмоночных врачей, бродящих без всякого знания с своими пузырьками, порошками и пластырями, коими, как язвой, переводят они большую половину ваших добродушных земляков.
Он. Нет, они ныне не бродят шайками, а живут на нашем коште на одном месте и дожидаются в своих домах охотников отправиться на тот свет.
Я. Так не из тех ли она состоит эфунопалов, которые, ходя по селам и по городам, сказывают сказки, брав за то дорогую цену, которые одни имеют хитрость вдруг и брать милостыню, и налагать подати, и продавать какие-то моральные лекарства от физических болезней, за которые им платят очень много, хотя никто от них не вылечивается.
Он. Нет, и они уже ныне не ходят шайками, а на наш счет построили школы, и всякий город ставит себе за честь содержать по нескольку сот таких эфунопалов. Правда, им скучно было привыкнуть к такой жизни, но зато приумножение их доходов их утешает. Они и ныне продают неизлечающие лекарства, налагают подати, берут милостыню, получают от нас жалованье и торгуют очень прибыльно жизненными каплями, обнадеживая, что, кто их принимает, будет жить три тысячи лет. Но оставим их; я предлагаю тебе вступить в нашу шайку, которая сегодня будет играть в этом доме, то есть чтоб ты сделался комедиантом.
Мне очень хотелось посмотреть, до какой степени простирается самолюбие самых последних званий, а для того хотел я несколько унизить звание комедиантов и послушать, каково оно будет защищаемо своим членом.
«Как, сударь, – сказал я, – вы советуете, чтоб я вступил в столь презренный и подлый промысел!»
Он. Потише, государь мой! Вы живете в обществе, а не знаете учтивости, которая употребляется на нашем острове, и при мне называете подлым ремесло, в котором я нахожусь, но я не сержусь никогда на вспыльчивость молодого человека и уверяю вас, что мое ремесло ничем не хуже других. Скажите, что вы в нем находите дурного?
Я. Во-первых, то, что это ремесло всеми почитается подлым.
Он. Это одно только предрассуждение. Приказный человек нимало не уважает военного состояния; воин бранит приказных; купец хвалит свое звание, а лекарю нравится свое. Негодный промысел есть только тот, который приносит более вреда, нежели пользы, а наш приносит больше пользы, нежели вреда. И самая низость сего звания полезна для того, что поведение комедианта не берется в пример и он своею худою жизнию не заражает целого народа, а добродетельною не делает лицемеров, старающихся ему подражать и под видом благочестия производящих тысячу разорений. Комедиант не имеет случая сделать несправедливого суда; угнетать каким-нибудь откупом целый город; проманивать по двадцати лет бедных просителей, не делая ничего и живя их имением. Вся власть его ограничивается только тем, что изображает на театре пороки. Он может поправить те части злоупотребления, до которых не достигают законы и которые более вреда и разорения приносят государству, нежели самые хищные откупщики.
Я. Это правда, но надобно быть очень тверду, чтоб сносить презрение.
Он. Презрение! Его достойны только низкие души, а не низкие звания. Я знаю человека и в моем промысле, с которым многие честные и разумные вельможи ищут знакомства; знаю также некоторых знатных, которыми, несмотря на их великолепие, гнушаются и низкие люди; но если ты охотник до знатности, то я позволю тебе на театре играть роли самых знатных людей.
Я. Вы очень унижаете истинную знатность, сравнивая ее с театральною.
Он. Это сравнение справедливо. Как скоро ты на театре играешь знатную ролю, тогда все другие лица стараются оказывать тебе почтение; правда, что за театром оно исчезает, но не то ли же самое делается и с вельможею? Как скоро он входит в знатность, тогда всякий старается пред ним казаться униженным, всякий оказывает ему обожание, все его хвалят, все ему льстят; но лишь только сила его исчезает, тогда все его приближенные снимают перед ним свои маски; им кажется он обыкновенным человеком, и они, оставляя его, идут к другому читать ту же самую ролю, которую читали перед ним.
Я. Это правда, что тут есть некоторое сходство, но быть народным шутом! – это очень тягостно.
Он. Напротив того, это очень весело. Лучше заставлять народ смеяться или принимать участие в мнимой своей печали, нежели заставлять его плакать худыми с ним поступками. Есть шуты, которые очень дорого стоят народу, но мало его забавляют, а мы из числа тех, которым цена назначается от самих зрителей, по мере нашего дарования и прилежности, а не происками и не по знатности покровителей; сверх же того, мы из числа тех шутов, которые не подвержены пороку публичной лести: мы и перед самими царями говорим, хотя не нами выдуманную, однакож истину; между тем как их вельможи, не смея перед ними раскрывать философических книг, читают им только оды и надутые записки о их победах.
Я. Я отдаюсь наконец на вашу волю, но только с тем, чтоб играть мне иногда короля, иногда разносчика, иногда судью, а иногда ветошника: меня очень будут забавлять такие перемены.
Он. Пойдем, я согласен, и это одна из наилучших выгод комедианта. В сем он подражает величайшим философам, ибо он после царя с таким же веселием бывает разносчиком, с каким равнодушием после разносчика бывает царем, чего лишены актеры большого театра, называемого светом.
Новый мой покровитель ввел меня в залу.
«Вот, друзья мои, вам новый товарищ, – сказал он нескольким стоящим в кругу царям, царицам, скороходам и крестьянам, которые все вместе рассуждали о каком-то политическом предприятии их острова. – Его осанка, – продолжал он, – его рост и хороший стан подают нам немалую надежду, что он будет исправный царь».
После сего короли и лакеи очень пристально зачали на меня смотреть и что-то шептали между собою, а королевы говорили вслух, что они ни на каком театре лучше меня царя не видывали.
Такая похвала заставляла иногда на меня коситься новых моих товарищей, но я, мало о том заботясь, пошел в амфитеатр, чтоб посмотреть новую трагедию, которую тогда давали. Множество зрителей ожидали с нетерпеливостию открытия занавесы, и наконец минута эта настала. Трагедия была сочинена по вкусу островитян в восьми действиях двенадцатистопными стихами. Действующие лица были очень порядочно связаны, и как я еще несколько помню ее содержание, то расскажу тебе, почтенный Маликульмульк, подробнее.
Главный герой сей трагедии был некоторый островский Дон-Кишот. (Это один роман гишпанский, стоющий любопытства; я тебе его пришлю. Впрочем, ты, путешествуя по разным странам, может быть, видал многих и знатных Дон-Кишотов.) Он был вдруг философ, гордец и плакса; актер по смыслу слов очень изрядно поддерживал свой характер; он храбрился в тюрьме, читал на театре рассуждения тогда, когда надобно ему было что-нибудь делать; будучи простолюдимом, гордился пред государем и плакал пред своею любовницею, как дитя от лозы, когда она делала ему ласки, а чтоб ему чаще хлопали, то он, оборотясь к зрителям, почти при всяком стихе твердил им, что он их одноземец. Островитяне иногда краснелись, что такой чудак родился между ими, однакож нередко хлопали ему в ладоши, чтоб не заснуть от праздности.
Другая, то есть его любовница, была царская дочь, она была несколько его поумнее, но столько хвалила своего любовника, как будто бы желала выйти за него без приданого, хотя и не видно было, подлинно ли имела она это намерение, будучи богатее своего жениха. Третье лицо изобразить хотело какого-то злодея. Писатель характер его заключал в словах, а не в действии. Он ничего не делал, но иногда кричал, что он всех перережет и передавит; а между тем, когда он спал на театре, то самого его удавили в седьмом действии, и осьмое доигрывается уже без него.
Наконец четвертый, как говорят, был прекрасный характер; на нем основывалась вся трагедия; сказывают, что это был предобродетельный человек, и им окончалось зрелище; но жаль только того, что автор не выводил его на театр. Может быть, добродетельный характер был для него слишком труден.
Письмо XVIIОт гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
Извини меня, любезный Маликульмульк, что я давно к тебе не писал; это не оттого, чтоб мне было нечего писать; но я столько занят делами и окружен столь многими предметами, что, не зная, за что приняться, впал в нерешимость и долго бы в ней пробыл, если бы мой молодой Припрыжкин не подал мне причины к размышлению, которое выбило у меня на время из головы все другие предметы.
«Поздравь меня, любезный друг, – сказал мне Припрыжкин, – с исполнением трех главнейших моих желаний». – «Как! – вскричал я, – неужли ты оставил свет! собрал хорошую библиотеку! и нажил себе искренних друзей!» – «Вот какой вздор! – отвечал он. – Я никогда этого не желал, как только один раз в жизни, когда недавно проигрался и был без денег; о, тогда я был великий философ! Но, любезный друг! ты знаешь нынешний свет и нашу мягкую философию, которую и у лучшего нашего философа один рубль испортить в состоянии. Нет, у меня есть другие гораздо основательнейшие желания, которые небу было угодно исполнить. Поздравь меня, любезный друг, – продолжал он, меня обнимая, – с тем, что я сыскал цуг лучших аглинских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту; а что еще более, так мне обещали прислать чрез несколько дней маленького прекрасного мопса; вот желания, которые давно уже занимали мое сердце! Представь, не благополучный ли я человек, когда буду видеть вокруг себя столько любезных вещей! Я умру от восхищения! – Прекрасный мопс! – Невеста! – Цуг лошадей! – Танцовщица! – О, я только между ими стану разделять свое сердце! Я принужу их, чтоб они все равно меня любили… И если не за других, то, конечно, за собачку парируют тебе всем, что она будет меня любить, как родного своего брата».
Такое прекрасное начало в первый раз заставило меня узнать, каким образом здесь женятся, и я захотел получше разведать, что значит здешняя женитьба.
«Поздравляю тебя, любезный друг, – сказал я ему, – с исполнением твоего желания, а более всего с невестою; я уверен, что ты не ошибся в твоем выборе».
«Конечно, – сказал он, – лошади самые лучшие аглинские!»
«Я о твоей невесте говорю, – продолжал я, – не правда ли, что она разумна?»
«Уж, конечно; говорят, что лучше ее со вкусом никто не одевается».
«Без сомнения, она добродетельна?»
«В том я верю ее матери, которая говорит, что дочка ни в чем от нее не отстала; а эта барыня может служить примером добродетели. Она вечно или перебирает свои четки на молитве, или бьет ими своих девок, а остальное время проводит в набожных разговорах наедине с своим учителем богословия».
«Я думаю, что она прекрасна?»
«О! что до этого, то я никому, кроме своих глаз, не поверю; но я еще не успел ее видеть».
«Как, – сказал я, – ты женишься и не знаешь своей невесты?.. Но чем же она тебе так нравится?»
«Тридцатью тысячами дохода, – отвечал он мне с восхищением, – неужели ты думаешь, что это шутка? Если мне танцовщица будет стоить и двадцать тысяч, то все еще у жены останется десять, к которым приложа мой доход мы можем с нею жить, делая честь нашему роду. Что же ты смотришь на меня, вытараща глаза? О, как можно в тебе узнать уездного дворянина! Я вижу, что тебе в диковинку такие свадьбы, а это оттого, что ты еще не знаешь модного общежития; будь же свидетелем моей женитьбы и приучайся к правилам света».
После сего подхватил он меня в свою карету, и мы поехали с ним в ряды для закупки к свадьбе ему уборов.
Купцы наперекор просили нас в свои лавки и кричали, что у них есть самые дорогие товары; некоторые, правда, говорили, что у них есть лучшие, но у таких простяков, как я приметил, покупали очень мало.
«Друг мой, – сказал я одному из сих купцов, – скажи мне, неужели здесь товары не потому выбираются, что они лучше, а потому, что дороже? То правда, что лучшие должны быть дороже; но я примечаю, что это у вас редко вместе встречается».
«Государь мой, – отвечал мне купец, – будьте уверены, что я имею все должное почтение к таким господам, как вы и его сиятельство г. Припрыжкин, и я бы думал обидеть его милость, если бы показывал ему лучшие товары, а не те, которые дороже; да и он, конечно, сочтя меня за невежу, пошел бы искать товаров в другие лавки. Были, правда, здесь варварские времена, когда у нас спрашивали лучшего, но просвещение переменило такие грубые нравы, и мы ныне нередко берем за серебро обыкновенную цену, по двадцать четыре копейки и менее за золотник; а за такой же золотник стали платят нам по сто двадцать рублей. За шелк берем мы самую умеренную цену, а за связку соломы недавно брали по четыреста и по пятьсот рублей; но, по несчастию, наши барыни недолго пользовались приятною вольностию платить за солому дорогую цену, и мы принуждены были поравнять ее ценою, не более, как с лучшею золотою парчою. Мы были бы в отчаянии, если бы дорогая цена стали не утешила нас в умеренной прибыли от соломы. Вот, сударь, – продолжал он, показывая мне, – стальной аглинский эфес, который стоит сто десять рублей».
«Я тебе сию минуту плачу за него деньги, – сказал я, – но скажи мне, чего он в самой вещи стоит?»
«Я божусь, – говорил купец, – что он из самой лучшей аглинской стали; железа тут не более как на девять копеек. Работа агличанам, может быть, стоит не больше полфунта стерлингов или два крона, что на здешние деньги сделает два рубля двадцать копеек[4]4
Деньги той земли привел я в здешние российские, чтобы их названием не открыть такой странной земли; а я за долг почитаю умалчивать о народе, которого гном Зор в письме своем описывает, да и не верю, чтобы мог где быть такой безрассудный, который бы за сталь платил в 60 раз дороже золота. Впрочем, уверяю читателя, что в сравнении денег ни одною полушкою не ошибся. (Прим. автора.)
[Закрыть]. Пятьдесят два рубля восемьдесят копеек мы даем им прибыли; а достальные пятьдесят пять рублей я имею честь брать с своих просвещенных земляков». – «Этого бесчеловечнее ничего быть не может!» – вскричал я. «Не угодно ли, сударь! – говорил купец, – посмотреть еще аглинских стальных цепочек, женских поясных и шляпных пряжек и шляпных петель; будьте уверены, что я уступлю вам за самую сходную цену». – «Что стоит эта цепочка?» – спрашивал я, указывая на одну подлинно изрядно сделанную. «Последнее слово двести тридцать рублей, – ответствовал купец. – Я не говорю о настоящей ее цене, – продолжал он, – оная вам известна; но я уверен, что это не помешает вам купить так хорошо выработанную вещь».
Чтобы сдержать мое слово, я заплатил ему за три золотника стали двести тридцать рублей. «Но скажи мне, – говорил я купцу, – неужели это не делает вреда государству и какую может приносить ему пользу?»
«Польза очень не мала, сударь, – отвечал купец, – во-первых, нас почитают богатыми потому, что мы за безделицы платим дорого; вкус наш в великой славе потому, что такие прекрасные вещи нигде так не расходятся, как здесь; наши знатные господа, бывши одеты с ног до головы в такие драгоценности, подают великое мнение иностранным о своей знаменитости… Вот, сударь, пользы от дорогих товаров… Правда, есть также и вред, но он почти неприметен и об нем не для чего думать. Эта безделица, сударь, вся состоит только в том, что наши мужики иногда умирают с голоду и в городах всему необходимому великая дороговизна».
«Ты шутишь, – сказал я, – неужели такие безделицы, каковы аглинские цепочки, пряжки, пуговицы, петли или такие мелочи, каковы французские соломенные шляпки, блаженной памяти соломенные накладки и прочие подобные сим вздоры могут принести такой вред государству? Пожалуй, мне это растолкуй».
«А вот, сударь, – продолжал купец, – между тем, как ваш приятель покупает у моего сидельца нужные для него товары, я вам в коротких словах об этом расскажу. Например, его сиятельство г. Припрыжкин вздумал жениться; ему неотменно надобно к свадьбе множество таких мелочей; деньги на них он должен брать с своих четырех тысяч душ крестьян; в одну минуту посылает он приказ собрать с них к будущему году восемьдесят тысяч рублей. Мужики, получа такое строгое повеление и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города, где обыкновенно более можно выработать денег; вместо сохи и бороны берут они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками или разносчиками; днем работают, а по ночам, чтоб лучше собрать свой оброк, взыскивают его с прохожих. Город, вместо того чтоб получать от них хлеб, должен бывает сам их кормить и, сверх того, еще платить им деньги. От таких-то гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы на господах, а господа опять принимаются за своих крестьян. К концу года крестьяне возвращаются в свои жилища с деньгами, отдают восемьдесят тысяч рублей господину, а на достальные десять тысяч рублей посылают в город купить себе хлеба, которого им становится мало до будущего года. Итак, города терпят недостаток, деревни голод, граждане дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах и празднует несколько дней великолепно свадьбу с своею почтенною невестою, которая, с своей стороны, щегольством такую же приносит пользу государству».
Между тем г. Припрыжкин кончил торг с сидельцем моего краснобая и, отсчитав ему шесть тысяч рублей за такие прекрасные товары, радовался, что заплатил дороже всех за свою покупку. Надобно думать, что и невеста не менее делала приуготовлений.
На другой день после сего у невесты в доме был бал, где было такое же собрание, о котором я тебя раз уведомлял, с тою только разностию, что тут были без масок и не платили денег. Невеста и жених, в первый раз увидевшись, через десять минут сделались так коротки, как будто были уже десять лет обвенчаны. Ему позволяли некоторые вольности жениха, но я приметил, что не один он пользовался таким правом. Неотказа (так называлась молодая невеста) была так благосклонна ко всем мужчинам, что, казалось, будто она за всех за них выходит замуж. С своей стороны и Припрыжкин ей не уступал; он всякую женщину почитал своею невестою, и всякая женщина была так к нему снисходительна, что почитала его своим женихом или еще и более. Я приметил между прочим, что мать невестина, женщина набожная, очень долго разговаривала у окна с будущим своим зятем с весьма важным видом. «Вот женщина умная, – сказал я сам в себе, – она, конечно, дает ему наставление в добродетели и в будущем хозяйстве». Но ты узнаешь скоро, любезный Маликульмульк, что я имел причину пенять себе в безвременно сделанной похвале сей старушке.
Прохаживаясь по залу, вздумалось мне хорошенько расспросить про здешнюю женитьбу, и для того зачал я разговор с одним, повидимому, постоянным и скромным гостем. Слова наши были наперед о мелочных вещах, как-то о погоде (здесь очень часто начинаются преважные разговоры вопросом: какая на дворе погода? или: который бы, вы думали, час?); наконец я довел разговор до женитьбы.
«Признаюсь, сударь, – говорил я ему, – что я очень радуюсь счастию моего приятеля Припрыжкина: женитьба есть такое утешение в жизни, что она отъемлет у человека половину горестей в оной; как весело разделять время с прекрасною и добродетельною женою, которой нравы во всем согласны с мужниными! Хорошая женщина – любезный товарищ в уединении, и наставления разумной красавицы скорее исправить могут, нежели десять скучных поучений какого-нибудь грубого старика; а основательному, но не гибкому разуму мужчины не худо иметь себе в общежитии советником проницательный женский разум; и самые упреки из уст любимой женщины кажутся приятны».
«Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть? – спросил меня незнакомый. – Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах; по вашему вопросу мне кажется, что они еще не лишились своей невинности, видно, что письма о развращении их нравов, полученные мною, несправедливы».
«Государь мой! – отвечал я, – очень бы я рад удовольствовать ваше любопытство, но признаюсь, что я не был столь далеко отсюда, а приехал прямо из одной здешней провинции для покупки модных уборов моим родственницам; однакож, чтобы впредь не быть мне смешным такими вопросами, прошу вас, пожалуйте, расскажите мне, каким образом здесь почитается женитьба?»
«Очень просто, – отвечал он мне, – и это в коротких словах рассказать вам можно. У нас с женою так же поступают, как с платьем… Приходят в ветошный ряд, выбирают то, которое побогатее, платят за него деньги и относят домой; тогда-то уже увидят, что платье или не впору, или дурно сшито, и, усмотря свою ошибку, вешают его в гардероб, на место его выбирают другое и на него никогда уже не взглядывают, а только пишут его в реестре своем, хотя нередко камердинеры и знакомые им пользуются… Вот история женитьбы, с малою, однакож, разницею. Тот, кто хочет жениться, проведывает о невестах; к нему приходят и сказывают, что такая-то девушка приносит за собою в приданое десять тысяч рублей доходу; часто, не любопытствуя далее, он посылает к ее отцу сказать, что он такого-то чина и стольких-то душ владетель, хочет на ней жениться. С обеих сторон справляются с великим прилежанием в истине сих уведомлений и потом начинают свадьбу; если же после, как то часто случается, ни жена, ни муж друг другу не понравятся, то всякий утешает себя, как может, и делают добровольно уговоры, чтоб не вступаться в некоторые безделицы, которые прежде сего мужей и жен краснеться заставляли. И таким образом муж, не сходясь с своею женою несколько лет, может надеяться быть не последним в своей фамилии, а жена имеет удовольствие приписывать своему мужу все домашние дела, которыми часто вертят комнатный служитель и человека четыре посторонних.
Дети, которые приписываются такому прекрасному супружеству, воспитываются с равною с обеих сторон прилежностию. Муж, не почитая это за свое дело, думает, что и того довольно с его стороны сделано, когда они носят его имя, а жена, видя, как мало думает о них тот, кто причиною их рождения, сама старается перещеголять его в нерадении; и такие-то прекрасные отрасли готовятся со временем занимать какие-нибудь важные места в государстве!»
Лишь только окончил он свою речь, как Припрыжкин, подошедши, отвел меня к стороне…
«Доволен ли ты, любезный друг, своею будущею тещею?» – спросил я его.
«Можно ли спрашивать меня об этом! – сказал он, – когда ты видишь, в каком я смущении; представь, что эта старая хрычовка в меня влюблена, и как видно, что старушка жалует скорые решения, то, по ее словам, я очень ясно заключаю, что мне не видать ее дочери за собою до того времени, покуда…»
«О чем же ты думаешь? – вскричал я, – оставь эту старую фурию; неужели ты хочешь быть до такой степени развращен?»
«Вот какое дурачество! – сказал Припрыжкин, – чтоб я пожертвовал тридцатью тысячами доходу для такой мелочи; будь уверен, что я не столь своенравен, и если я теперь в досаде, то это не оттого, чтоб я старался презирать мою дорогую тещу».
«Что ж! разве ты страшишься, чтоб не узнали люди о таком преступлении?»
«Вздор! что кому за нужда до чужих дел?»
«Или не хочешь, чтоб твоя невеста сведала о сей измене?»
«Совсем не то: хотя невесту свою вижу я и в первый раз, но как у многих моих приятелей видал я ее портреты, которые без всякого прекословия переходили из рук в руки и доставались многим, то из того заключаю, что и подлинник не упрямее своих списков; итак, поэтому не думаю, чтоб она на меня слишком осердилась за непостоянство».
«Что же тебя так беспокоит?»
«То, – отвечал с досадою молодой Припрыжкин, – что я сего вечера дал слово быть у моей прекрасной танцовщицы, а если эта старая хрычовка не отвяжется от меня с своими любовными изъяснениями, то я лишусь приятного удовольствия увидеться с театральною нимфою, а принужден буду проводить скучные часы с гадкою старухою».
По счастию господина Припрыжкина, сей день кончился без дальних для него хлопот с будущею его тещею, потому что к вечеру нашел он отговорку, чтоб уехать для свидания с своею танцовщицею, и мы с ним вместе поехали; меня завез он в тот дом, где я живу, а сам поскакал к своей сирене.
Прости, любезный Маликульмульк, я скоро тебя уведомлю, чем кончится такая знатная свадьба, которую Припрыжкин торжествует на счет своих четырех тысяч душ.









































