Текст книги "Казаки"
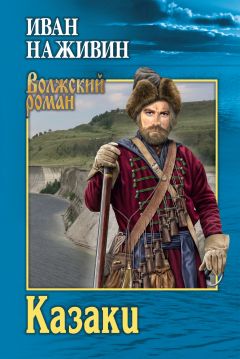
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
XL. Большая правда
Прошло три месяца. Заливаемый обильно кровью, пожар утихал. Только на низу, в Астрахани, все еще шумела вольница, но Москва раскачивалась унять и ее… Дикий зверь, раненный тяжко, или птица сразу же сдают в крепь, в неприступные места, и там и кончают, никем незримые, и свои страдания, и свою жизнь. И многие, многие люди, раненные в душу во всероссийском смятении этом, усталые и печальные, потянулись в крепи – кто куда…
Царственные большой печати и государственных великих посольских дел сберегатель, начальник Посольского Приказа, близкий царю думный боярин Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин был уже отцом Антонием, смиренным иноком Крыпецкого монастыря близ Пскова, который очень полюбился ему, когда, совсем молодой, жил он у себя в псковской вотчине своей, а потом, всего шесть лет назад, был псковским воеводой. Да и вообще, хотя народ «скопской» и был исстари озорным, Ордын любил свою озерно-лесную красивую родину. И до него в старину многие бояре и работники государственные на склон лет удалялись так в глушь, в тишину, в монастырь, с тою только разницею, что для них эти обители были действительно крепью, надежным пристанищем, а он выбрал это убежище для себя только потому, что иначе ему, важному вельможе государства московского, некуда было деваться. О нем нельзя было сказать, что он на века опередил свое время, – такие люди всегда и везде чужие, и, родись он триста лет спустя, он был бы также безбрежно одинок. Как и его сына, точно еще в колыбели какой-то черный ангел поцеловал его в это большое, думное чело, и поцелуй этот наложил на всю его судьбу навеки нерушимую печать страданий и одиночества.
Некуда деваться – как итог целой трудовой и самоотверженной жизни!..
И тем не менee это было так и не могло быть иначе: поцелуй черного ангела дает великие радости, но и великие печали и обязывает принять многое, о чем рядовой человек и понятия не имеет.
Отец Антоний, в поисках полной тишины, испросил у игумена благословения поселиться не в общежитии, а в скиту, в небольшой ветхой избенке, где жил недавно преставившийся отец Агафангел. Желание его сразу было исполнено: иноки видели собственноручные письма великого государя к отцу Антонию – царь часто просил у него советов в деле управления – и надеялись извлечь чрез него великие и богатые милости для обители. И хотя иноку и не подобало предаваться суетным размышлениям и в книгах чести, ничего не сказал отец игумен, когда из Москвы были доставлены в келию отца Антония несколько ящиков с книгами. Отец Антоний не мог не сознавать, что он, отрекшись от мира, пользуется немного тем положением, которое он в этом мире занимал, но это совесть его не смущало: каждый идет к Богу так, как может.
Он сидел один на берегу светлого лесного потока, который дремотно журчал и гулькал в привядшей уже траве. Вокруг золотое море осеннего леса и тишина такая, что биение своего сердца слышно. В побледневшем и точно печальном небе иногда пролетала стая гусей или грустно и нарядно трубили лебеди. Отец Антоний тихонько напевал какую-то молитву – церковные напевы нравились ему своей торжественностью и печалью – и бродил душой среди развалин своей жизни, стараясь разгадать, что же это за сила была, которая произвела все эти разрушения, не виноват ли он сам в чем-нибудь. Но что он ни передумывал, что ни проверял, опять и опять упирался он в тот же тупик: он хотел добра, а в результате получились страдания и для людей, и для него самого, полное бездорожье и крик отчаяния…
В его душе, – чувствовал он, – жили всегда две правды: одна – маленькая, земная, нужная для повседневности, правда Марфы, а другая – большая, небесная, правда Марии, которою он хотел осветить и освятить правду земную. Иногда это как будто удавалось ему, но иногда, большею частью, правда небесная как-то точно не давалась примешивать себя к земной, свертывалась, уходила, и он чувствовал, что она как будто немного даже враждебна правде земной, тем его заботам, которые все были направлены на благо людей. И это чрезвычайно смущало его и часто делало нерешительными…
Он любил Россию, дом предков своих, любил большою, проникновенною любовью и не покладая рук работал, чтобы сделать ее сильной, богатой, довольной. Он видел, что, задавив в невероятном усилии целого ряда поколений дикую и злую азиатчину, которая душила ее, она сама этой азиатчиной точно заразилась и, как богатая урожаем нива в непогоду, гнила на корню. Он понимал, что ей надо выбиться к свободному морю, дохнуть свежим воздухом его, зажить одной жизнью с опередившими ее народами. Да, но для этого прежде всего нужна была вооруженная борьба с этими самыми народами. Борьба эта истощала народ, подрывала его силы, повергала его в нищету и крайнее отчаяние, и он, как бешеный, бросался на то государство московское, которое для него он, Афанасий Лаврентьевич, хотел сделать цветущим, великим, довольным!.. А во-вторых, и главное, невольно возникало сомнение в ценности и возможности самого этого единения с народами западными: раз не встречают они Русь, младшего брата, столько столетий служившего им щитом против дикой и злой азиатчины, столько крови своей в борьбе этой пролившего, радостными объятиями, не сажают его с собой за почестный братский пир, а наоборот, всячески стараются повредить Poccии, задержать ее, отбросить назад, во мрак, как делает это усилившаяся после тридцатилетней войны Швеция, закрывшая России все выходы к морю, то действительно ли так ценна эта их образованность? Не та же ли это азиатчина по существу, только что почище одетая да покраше причесанная?.. Он остро чувствовал этот вражий напор мира западного и по необходимости, для защиты, думал соединить всех славян в одну братскую семью, чтобы иметь возможность сопротивляться этим вражьим наскокам. И вот теперь без стыда он не мог вспомнить той своей горячей речи, которую произнес он в Андрусове перед поляками, выясняя необходимость такого славянского единения… Единение славян!.. А он должен был от этих самых славян из всех сил отбивать коренные русские области, которые они, опираясь на силу, хотели у родственной им по крови Poccии неправедно оттягать, и он хотел блага своему народу, но из этого его стремления вытекали войны с их бедствиями, разорением, страшными морами, а из войн – возмущения народные, еще более страшные и опустошительные, чем войны…Воистину и правы шведские куранты, говорившие о tragoedia moscovitica!..
Он хотел развить торговлю российскую, он посылал для этого посольства во все края, вплоть до далекой Индии, он хотел закрепить за Россией ее пустынную и далекую амурскую украину, заселив ее казаками и войдя чрез них в более тесную связь с Китаем, он первый учредил в России правильные почтовые сношения с Западом, – в результате появились и усилились всякие Шорины, которые на всем этом обогащались чрезмерно, а народ был по-прежнему нищ и убог и в бесчисленных восстаниях требовал головы этих самых Шориных и смотрел на них всегда как на мироедов и кровопийц. Блага не получилось.
Он – и не один он – из всех сил стремился насадить в России побольше школ, напечатать побольше хороших книг, но тут прежде всего наткнулся он на яростное сопротивление отцов духовных, учительного сословия, которые и в школе, и в книге видели самых страшных врагов своих. Когда еще Годунов задумал основать хорошо организованные школы с преподаванием нескольких языков, то духовенство воспротивилось, находя, что крепость земли русской в единстве веры, нравов, языка, а от иноземцев пойдет непременно смута: «В земле гишпанской, – аргументировали святители и просветители, – вера ова папежская, иначе лютерская, благочестие же изсякло, человцы же мудры и дохтуроваты делом и звездочетием». С тех пор прошло больше полвека, но и до сих пор твердят упорно эти просветители, что философия, астрономия и другие науки бесполезны и что заниматься ими то же, что мерять аршином хвосты звезд, что богомерзостен перед Богом всяк любящий геометрию, что душевные греси учиться астрономии и еллинским книгам, что проклята прелесть тех, иже зрят на свод небесный. Своему разуму верующий – твердили они, святители и просветители, – удобь впадает в прелести различные. Люби простыню, говорили они, паче мудрости, высочайшего себе не изыскуй и глубочайшего себе не испытуй…
А книги!.. С каким трудом удалось русским людям наконец наладить, чтобы книги строились на Москве. В результате выпущена масса заведомой лжи, как эта пресловутая история Гизеля, в которой повторяются жалкие побаски о том, как русские цари преемственно приняли власть от императоров византийских, что слово славяне происходит от славы, а Москва от Мосоха, сына Иафетова, прапрадеда народа русского. А эти географии и космографии, в которых – двести лет спустя после Галилея и сто лет после Кеплера, с трудами которых он ознакомился за рубежом, – учат, что земля имеет четырехугольную форму и подобна престолу в святая святых, устроенному Моисеем, что стоит она на самой себе, а края ее, загибаясь, переходят в небесный свод…
И что для него было важнее всего, так это то, что то просвещение, к которому он так тянул Poccию, не делало людей лучшими ни на йоту, – в этом, увы, стародумы были не неправы!.. Паисий Лигарид говаривал: «Если бы меня спросили, что служит опорой духовного и гражданского сана, то я ответил бы, что, во-первых, училища, во-вторых, училища, и в-третьих, училища, – из училищ жизненный дух разливается, как сквозь жилы, по всему свету, это орлиные крылья, на которых слава облетает вселенную…» Но гордые слова эти не помешали Лигариду играть презреннейшую роль в жизни церкви российской… А судьба просвещенного Котошихина? А просвещенный и передовой Бор.Ив. Морозов? Ясно, что в том просвещении, которое насаждалось, что-то не так…
И всего, может быть, для него, человека религиозного, страшнее был тот разгром, те развалины, которые какие-то странные силы жизни произвели в важнейшей для него области бытия, в области веры. Религиозен был он смолоду и смолоду верил, что та вера, в которой он вырос, есть единственная правая вера, есть подлинное откровение Божие человеку. Но судьба рано столкнула его с иноземцами. Большею частью это были честные, прямые, xopoшие люди, которые жили жизнью несравненно более чистой, чем русские люди, и вот эти-то xopoшиe, честные люди в глазах русских были поганцами опасными, проклятыми навеки еретиками. Поездки за рубеж по делам государским окончательно подорвали его веру в избранность народа русского и в то, что «Москва – это Третий Рим, а четвертому не бывать». Но если православная вера не есть единственно правая вера, то какая же вера правая? Оказалось, что правых вер бесконечное количество: для евреев это Моисеев закон, для магометанина Коран пророка, для Аввакума неистового и для боярыни Морозовой их вера права, для Нила Сорского и князя Вассиана Патрикеева, – которым он не мог не отдать дани любви, – права их вера, а для стригольников, жидовствующих или Матвея Башкина, рушивших все, правда Божия в том, за что шли они на всякия муки безтрепетно. И в страдании открылось ему: все пути, при условии искренности и чистоты, ведут к Богу одинаково, ибо всякий вмещает только то, что он вместити может, что – это было следующей ступенью – разум в делах веры бессилен, что область ее – только чувство, только сердце, что в чувстве религиозном все люди одно, и что только разум вносит в дела веры вражду, и кровь, и погибель, и что в конце концов, может быть, был прав тот монах-католик, с которым он долго беседовал в Риме о вопросах недоуменных и который в конце концов с кроткой улыбкой сказал ему:
– Si vis me esse in luce, sis benedictus; si vis me esse in tenebris, sis iterum benedictus!66
Если желаешь мне просветления, будь благословен; если желаешь мне быть во тьме, снова благословен будь (лат.).
[Закрыть]
Это не сделало его, конечно, равнодушным к религиозной жизни народа, и он тяжело болел тем нестроением, которым страдала исстари русская церковь и которое Никон только увеличил.
Начал этот самоуверенный, грубый и злой поп с того, что, не считаясь с умственным уровнем своего народа, с его верованиями, стал исправлять – не основы веры, а крошечные детали, опечатки, букву: старые книги оказались вдруг не правилами, а кривилами, оказалось, что по ним не хвалили Бога, но хулили Его, несмотря на то что вера православная была и до Никона единственной правильной верой, единственно спасающей! И повел свое дело этот ограниченный самодур так, что «никто не смел с ним слова молвить: яко лев восхищая и рыкая, иным ноги ломает дубиною, а иным кожу сдирает и с кобелями теми грызется, как гончая с борзыми». И если он, пастырь душ бесчисленных, пасет их кнутом и дубиной с великим проклинательством, то и они в долгу не остаются, и во имя Господа Аввакум честил его публично: «Носатый и брюхатый кобель, отступник и еретик, сын дьявола, отцу своему, сатане, работает», его звали предтечей антихриста и, чтобы спастись от него, шли на костры. И, обрушиваясь с яростью на старые книги, в то же самое время этот грубый, вечно пьяный поп ведет такую же яростную борьбу с новыми иконами, на глазах народа бьет их вдребезги об пол и у царя выхлопатывает указ, чтобы немцы не смели надевать русской одежды: раз он по ошибке благословил немцев в русской одеже и больше не хочет он ошибкой дать святыни благословенья псам!.. И эта ненависть его к псам была так велика, что, когда Никита Иванович Романов одел холопов своих в немецкие кафтаны, он, великий государь и патриарх московский и всеа Руси, тайком выкрал эти кафтаны и изрубил их в куски. А когда князь Одоевский, Никита Иваныч, вздумал Положением своим окоротить несколько на всю Русь разгулявшихся попиков, то бешеный глава церкви прозвал его Адоевским – от ад, – врагом божественным, дневным разбойником и богоборцем. К чему же, в конце концов, свелась эта бурная деятельность во имя Господа? К тому, что тысячи и тысячи людей гниют по тюрьмам и в ссылке далекой, терзают их на дыбах, сгорают они в огне в то время, как сам патриарх Никон уже в конце патриаршества своего совершенно охладел к своей реформе и даже в типографии своей печатал старые книги по-старому! А боярыню Морозову, Феодосью Прокофьевну за эти самые старые книги только что бросили в тюрьму и рвали на дыбе!
И так было во всех областях жизни человеческой: слепота, злоба, ничтожество всего и в конце концов – развалины. Какая, в конце концов, разница между деятельностью его и Никона? Разве, понимая, отчего и как образуется казачество, не он содействовал кровавому усмирению волнений и гибели Разина?.. Войны ничего, кроме бедствий, не дающие, мирные договоры, мира ни в малейшей степени не обеспечивающие, просвещение истинами, которые чрез десять лет оказываются жалкой и преступной ложью, – вот все, на что была потрачена вся его жизнь! А в конце всех этих дней, полных труда, забот и волнений, измученный человек, распятый на невидимом кресте жизни, поднимает к небу скорбные глаза и, плача в тишине осеннего леса, вопрошает робко: в чем же была моя ошибка, Господи? Где же путь?
И более чем когда-либо, ясно теперь понимал он, что ошибка его была в том, что, искушаемый суетным желанием устроить жизнь людей, он подменял для них и для себя большую правду жизни, которая всегда жила в глубине его души, правдами малыми, временными, земнородными.
Но в чем же эта большая правда, как в одном слове выразить ее?
Вспомнились гордые слова мудреца галльского: cogito ergo sum. Как показались ему они прекрасны, когда впервые он услышал их!.. Но он знает – и всегда знал, – что есть слово болеее прекрасное: amo ergo sum, ибо только тогда, когда он любил, не чувствовал он тяготы жизни и ее безвыходности. Так, но для чего же тогда миражам ненужным была отдана вся его жизнь?
Сзади послышались шаги. Отец Антоний оглянулся: к нему подходили двое странников с подожками и котомочками, один вроде попика, с постным личиком и пронзительно-любопытными глазенками, а другой смуглый, точно опаленный, с черными глазами, в которых горел огонь неуемный и неугасимый. Завидев отца Антония, оба низко поклонились ему.
– К тебе, отец Антоний… – проговорил попик. – Побеседовать, коли милость будет…
– Ну, садитесь, отдыхайте,– ласково отвечал отец Антоний. – Откуда вы?
– Да по совести ежели, то ниоткуда, отец…– отвечал попик. – Перекати-поле мы, бродячий народ: сегодня здесь, а завтра где Бог приведет.
– Чего же вы эдак ходите-то?
– Испытуем, где чем люди живут… – сказал попик.
– Града грядущего взыскуя… – тихо добавил черный.
– Вон вы какие!.. – участливо посмотрел на них отец Антоний. – Ну и что же проведали вы?
– Не нашел я больших толков, отец… – проговорил попик задушевно. – Везде одно и то же: нестроение, нечистота и пестрообразные неправды. Скажи мне одно, отец, молю тебя… ведь я знаю, что в миpy ты большой боярин был, что всего у тебя вдосталь было, и вот все ты бросил и ушел в пустынь – стало быть, знаешь же ты что-то, что-то постиг!.. Так вот и скажи ты мне, ради Христа небесного: почему это я во всем одно паскудство вижу?
За стеной леса, в обители ударили к вечерне, и звуки колокола, важные, чистые, святые, поплыли над лесной пустыней. Все трое перекрестились – как всегда, больше по привычке.
– Зайду, к примеру, я к обедне, поп проповедь говорит, – продолжал отец Евдоким, – а я слушаю и вижу, что ему пуще всего удивить меня охота ученостью своей или там красно-глаголашем… Почему это я никому и ни в чем поверить не могу? Царю – не верю, патриарху – не верю, святым – не верю, себе и то не верю!.. Иной раз словно и самому Господу Богу не верю. И вот во всей этой блевотине вселенской точно тону я, захлебываюсь, и постыла мне вся жизнь часто так, что хошь и на веревку да на перемет…
– Так разве ты один в блевотине мирской тонешь? – тихо сказал отец Антоний. – Благодари Господа и за то, что ты хоть чувствуешь, что тонешь…
– Тону, захлебываюсь… – повторил отец Евдоким. – И вот диво дивное и чудо чудное: из блевотины этой самой взыскую всей душой, вот как Петруха сказал, града грядущего, града светлого, где была бы во всем чистота и лепота да аллилуиа бесконечная!..
– Не ты один зовешь Бога из блевотины твоей… – отвечал отец Антоний. – Разве не читал ты псалмопевца: спаси мя, Боже, я погряз в болоте глубоком и не на чем остановиться, впал в глубину вод, и стремление их увлекает меня. Я изнемог от вопля моего, засохла гортань моя, утомился глаз в ожидании Бога моего…
– Да что мне от того, что и другие изнемогают?! – с тоской воскликнул попик. – Я, я сам изнемогаю, сам утопаю, сам погибаю… И… и вот говорю, а сам себя слушаю, себе не верю, и сам себе противен до изнеможения… Есть ли cnaceниe мне, отче? Или я проклят от века? Ежели проклят, дык за что жа? И как, как войду я в град грядущий, я, пес смердящий? Для брачного пира, писано, нужны и брачные одежды, а у меня всего только лохмотья кабацкие вонючие, и вонью этой вот я еще словно и похваляюся…
– Слабый я человек и не вижу ясно путей Господних… – сказал тихо отец Антоний. – Но мню, что аллилуиа с гноища звучнее для Господа всех кимвалов и тимпанов и органов доброгласных…
– И я войду в град грядущий?!
Наступило молчание – только колокол пел за лесом. И трепетала душа отца Антония близостью Господа. И он поднял глаза на странников и отвечал уже не им столько, сколько себе, уловляя словом ту большую правду небесную, которая всю жизнь жила в нем:
– Войти в град грядущий не можно потому, отец, что мы все всегда в нем…
– Как ты то мыслишь, отче? – воскликнули оба странника, жадно на него глядя. – Как в нем?!
– Мы все в нем, в небесном Иерусалиме, с рождения нашего, но только ослеплены очи наши, и, недостойные, не видим мы его… – с волнением проговорил отец Антоний, вставая. – Вот он – град небесных радостей… – широко раскинул он руки, точно обнимая всю эту пылающую в огнях осени землю, и это тихое небо, и все, что в них. – Нет иного града, как тот, который уже дарован нам, но который скверним мы всяким шагом нашим, всякою думою, всяким мечтанием! Отоприте золотым ключом любови вход в него и вместе со всяким дыханием возрадуйтесь и восхвалите Господа…
В свете тихом, в свете вечернем пел за лесом колокол. И отец Антоний почувствовал с несомненностью, что говорить больше нельзя, что нет на языке человеческом слова более высокого и более святого, чем то, что он сказал, и что подобает теперь только одно: молитва. Отец Антоний молча низко поклонился обоим и тихо ушел в свою хижинку.
Постояли они, помолчали и лесной тропой медленно пошли к обители. В душе Петра было строго и торжественно, но отец Евдоким уже потух. И вдруг он остановился.
– А помнишь, как мы с тобой на Керженце были? – сказал он. – Помнишь, пустил нас к себе ночевать этот старовер сердитый?
– Ну? – невнимательно спросил Петр.
– И было у него в избе полно девок грудастых в беленьких убрусах скитских…
– Ну?.. – внимательнее повторил Петр.
– И вопросил я его о всех женках этих, и он сказал, что нет в них греха никакого, что все то поповские выдумки, что сам Господь заповедал человеку любовь… И все от Писания… тоже…
И он широко осклабился всеми своими желтыми, изъеденными зубами.
– А ты помнишь, что сказал только что отец Антоний? – тихо сказал Петр. – Он сказал, что с гноища аллилуиа Господу всего сладостнее…
И, окинув восхищенным взором сияющую в свете вечернем землю, оборванный, в липовых лапотках, истомленных путями, он истово перекрестился и сказал тепло:
– Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже…
Молча шли – каждый в себе.
– А ты отсюда куда думаешь? – спросил отец Евдоким.
– Никуда… – отвечал Петр. – Сичас пойду к игумену и попрошу благословения остаться при отце Антонии. Он уже дряхл, – буду носить воду ему, дрова, ходить за ним. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже…
Отец Евдоким подумал.
– А что же, пожалуй, и верно… – раздумчиво и печально сказал он и в тоске прибавил: – Что, в самом деле, лапти-то зря трепать?..
В звездную ночь, когда все спали, отец Евдоким повесился на вожжах в конюшне монастырской, над навозом…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































