Текст книги "Казаки"
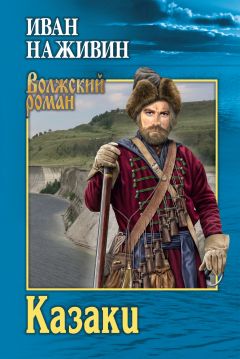
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
XLI. Крестный ход
Бежавший во время взятия Кагальника на Волгу Алешка Каторжный сразу бросился со своими на Астрахань, Федька Шелудяк, царствовавший вместо бежавшего Ивашки Черноярца в Царицыне, наказывал ему во что бы то ни стало поднять астраханцев на новый поход на Москву.
– Только шевельнись чуть, опять все враз подымется… – бешено сверкая глазами, говорил он. – И главное, только время там никак терять не моги. Васька Ус, слышно, хворает все, так ты на него не гляди…
Алешка пригреб со своими к Астрахани. Там митрополит с попами развел в народе большую смуту. В конце апреля, в Страстную пятницу, по городу распространился слух, что юртовские татары опять привезли от царя милостивую грамоту к астраханцам, но в город показаться с ней боятся. После долгих криков и споров старшины казацкие разрешили грамоту взять и прочитать ее народу, но когда ее прочитали, казаки стали кричать, что грамота составлена митрополитом да попами, потому что если бы была она настоящая, то была бы она за красной печатью. И кричали:
– На раскат митрополита, старого черта!..
Плохие вести для них шли отовсюду, и потому митрополит очень осмелел: он обличал, уговаривал и на дерзких даже замахивался, тряся седой головой своей, посохом. Более политичный Иосель – он вынырнул в Астрахани – ласково и убедительно звал казаков удалыми добрыми молодцами, презрительно говорил о Москве и высоко держал знамя казацких вольностей, втихомолку бойко приторговывал рыбой, шелком, старинным оружием, пухом, драгоценными камнями, мукой и всем, что попадалось под руку. Большинство казаков были уже должны ему – впредь до лучших времен…
А против митрополита озлобление нарастало все более и более. Но покончить с ним еще не решались: уж очень сан велик. Прикоснуться к саккосу, говорили знатоки, великий грех. Федька Шелудяк прислал из Царицына посольство, настаивая, чтобы покончить с упрямым попом. И долго, обсуждая это дело, гудел взволнованный круг.
– Он ссылается грамотами и с Тереком, и с Доном, и с боярами… – кричали казаки. – От него вся и смута идет… И по какому такому случаю он на круг с хрестом вышел?.. Что мы, нехрещенные какие нешто? Taкиe же православные хрестьяне… На раскат старого черта!..
Но так как никак нельзя было прикоснуться к саккосу, то митрополита сперва тут же, на кругу, раздели священники, а потом на Зелейном дворе палач Ларка стал жарить старика на огне, пытая, с кем он грамотами ссылался и, главное, где его животы и казна. Потом Алешка Грузинов сбросил измученного старика с раската. Тут же кстати отрубили голову и приятелю Степана, князю С.И. Львову, который до сего времени содержался в тюрьме. После этого составили торжественный круг и на том кругу все, старшины, казаки – донские, астраханские, терские и гребенские – и пушкари с затинщиками, и посадские люди, и гостинные торговые люди, которые уцелели, написали между собой приговор, чтобы жить им всем здесь, в Астрахани, в любви и в совете, и никого в Астрахани не побивать, и стоять друг за друга единодушно, идти вверх побивать изменников-бояр.
– Эй, попы!.. Прикладывай руку за себя и за своих чад духовных… – крикнул Васька Ус, весь покрытый какими-то язвами, в которых, говорили, были черви. – Живо!.. А то всех перебьем…
Приговор был подписан, казаки торжественно отнесли его в Троицкий монастырь, положили на хранение в ризницу и тотчас же бросились снаряжать струги для похода на Москву. Васька уже не мог из Астрахани двинуться, и место походного атамана с Царицына должен был занять Федька Шелудяк. И казаки разом взяли Саратов, Самару и в июне осадили Симбирск, где воеводой был Петр Васильевич Шереметев. Переговоры с ним не привели ни к чему, и казаки бросились на приступ, но трижды были отбиты. Шереметев, осмелев, сделал вылазку и наголову разбил воров. Побросав все, даже часть своих товарищей, казаки бросились к Самаре, а оттуда разошлись кто куда хотел, – только астраханцы с Федькой во главе решили возвратиться в Астрахань.
Москва окончательно потеряла терпение, и бывший симбирский воевода Ив. Богд. Милославский с ратной силой выступил водой на низ. Царь дал ему право передать мятежникам его царское прощение: великий государь великие и страшные вины их отпускает не иначе чего ради, а токмо ища погибших душ к покаянию и обращению. И получил воевода на дорогу от царя в помощь икону Пресвятые Богородицы, именуемую Живоносный Источник в чудесех.
В отряде Милославского был и молодой Воин Афанасьевич Ордын-Нащокин, исхудавший и горький. Жил он только одной думой: где она, что с ней? Куда занесли ее страшные бури? Поверить, что она каким-то чудом уцелела, было невозможно и бессонными ночами ему такие мысли приходили о судьбе Аннушки, что он стонал и не знал, что делать. В Самаре – конечно, она встретила царские войска крестным ходом, – во время передышки войск ему удалось напасть на след ее: была при Степане, а потом бежала с каким-то жидовином ночью, неизвестно куда. В Саратов – город, конечно, встретил их крестным ходом, – тоже была дневка, но Воин Афанасьевич не нашел никаких следов ни пропавшей девушки, ни таинственного жидовина и, разбитый, с захолодавшей душой возвращался к себе на берег, как вдруг его остановила какая-то пожилая монахиня.
– Ты, сынок, не из Москвы ли будешь? – спросила она.
– Из Москвы… – отвечал он.
– Ах, родимый, у нас в скудельнице монастырской девица из Москвы лежит, одна-одинешенька, никого из сродственников нету… – сказала монахиня. – Нельзя ли как объявить в войске, поспрошать, может, есть кто из ее близких…
– Как зовут ее? – спросил Воин Афанасьевич, чувствуя, как его сердце замерло и остановилось.
– Аннушкой зовут ее, родимый, Аннушкой, покойного самарского воеводы Алфимова дочка… – сказала монахиня.– Да что ты, Господь с тобой?!
– Веди меня к ней скорее, мать!.. – едва выговорил он. – Скорее!..
Монахиня широко перекрестилась.
– Господи Иисусе Христе!.. Да уж я не знаю как…
– Веди скорее!..
– Да ведь, родимый мой, плоха она очень… Уж и не бает совсем…
– Да не терзай ты меня, мать!.. – воскликнул Ордын страстно. – Веди же…
Сводчатый, полутемный коридор. Торжественно пахнет ладаном и воском. Черные монахини низко кланяются молодому воину… Отворяется дверь. На низкой, широкой скамье лежит что-то плоское и прозрачное. И – синие бездны…
Он зашатался.
Аннушка строго нахмурила свои тонкие брови, с усилием всматриваясь в его смуглое, перекошенное страданием лицо. И вдруг синие бездны начали проясняться, теплеть, и в углах у белого точеного носика налились две огромные капли. Монахиня тихо отерла слезы, – они налились опять и опять. И, не отрываясь, смотрели в его лицо синие глаза, и разрывалась душа на части болями острыми, нестерпимыми, нечеловеческими.
– Аннушка… – едва выговорил он.
Тень улыбки скользнула по бледным губам. Говорить она не могла. Говорили только ее глаза…
Рыдая, он упал к ее одру, приник на мгновение лбом к ее прозрачной руке и снова, оторвавшись, стал смотреть в глаза, и снова прижался лицом к ней… Страшный, как ночной набат, кашель потряс ее пустую, гулкую грудь, из угла рта протекла на подушку струйка крови, и синие глаза, не отрываясь от его лица, стали стыть, заволакиваться, уходить… И по прелестному личику тихо разливалось выражение какого-то неземного покоя и нежности…
Вдоль берега, у стругов, уже пели настойчиво, повелительно медные рожки, призывая в поход…
Ордын не помнил, как очутился он на своем струге. Он не видел ни Волги солнечной, ни зеленых берегов, ни бегущей на низ флотилии, – для него весь мир был одной сплошной черной дырой, полной боли и рыданий. С ним заговаривали – он смотрел сумасшедшими глазами и ничего не понимал. На него дивились, перешептывались, покачивали головами. Он сидел на носу один, смотрел в играющие волны, а сзади него солдаты тихонько напевали новую московскую, такую унывную песню:
Схороните меня, братцы, между трех дорог,
Меж московской, астраханской, славной киевской,
В головах моих поставьте животворный крест,
А в ногах мне положите саблю вострую…
Кто пройдет или приедет, остановится,
Моему животворному кресту помолится,
Моей сабли, моей вострой испужается:
Что лежит тут вор удалый, добрый молодец,
Степан Разин по прозванью, Тимофеевич…
В Царицыне, конечно, встретили московскую рать крестным ходом. А в последних числах августа Милославский обложил Астрахань. В городе начался голод. Появились перебежчики. Их кормили, поили, ласкали. Поэтому число их увеличилось. Казаки хотели было перерезать в Астрахани вдов и сирот всех ими казненных, но – это было уже невозможно. И всего больше помешал этому Иосель.
Иосель бойко торговал мукой, пухом, драгоценными вещами, старьем, птицей, давал деньги взаймы и уже строгонько покрикивал на казаков.
– Пхэ!.. И что они из-под себя думают?.. Захватили какую-то паршивую Астрахань и думают, что завоевали все царство московское… – говорил он страшно убедительно. – И что вы хотите: чтобы в Астрахани были свои порядки, в Царицыне свои, в Казани свои, а в Москве опять свои? В государстве должен быть порядок, чтобы можно было торговать, всюду ездить, делать дела… А эти добры молодцы думают, что они Бог знает каких делов накрутили, а на самом деле одна глупость и необразованность… Конечно, вольности казацкие, я не говорю, но надо же и торговать…
– Вот проклятый!.. – смущенно бурчали казаки. – И туды крутить и сюды, и никак в толк не возьмешь, чего он хотить…
А другие, потолковее, предостерегали:
– Опасайся, ребята: что-то наш Иосель переменился…
С Дона прибыло тайное посольство. И там дела были не веселы. Всего хуже было то, что атаман Корнило Яковлев и Михаила Самаренин возвратились на Дон не одни, а со стольником Косоговым, который вез казакам милостивую грамоту, хлебный и пушечный запас и денежное жалование. Казаки крепко запасу обрадовались: на Дону благодаря всей этой смуте было голодно. Косогова сопровождали рейтары. И чтобы почтить Москву, казаки встретили царского посла за пять верст от Черкасска, в степи.
По обычаю собрался круг. Косогов – чистяк и краснобай, державшийся очень уверенно, – сообщил казакам, что Корнило Яковлев и Михайло Самаренин дали в Москве за все казачество обещание принять присягу на верность великому государю. Старики и вообще домовитые казаки с большой охотой согласились, но молодежь и беднота подняли шум.
– Мы рады служить великому государю и без крестного целования… – кричали они. – А крест целовать незачем…
Три раза собирался круг, а столковаться все никак не могли. Наконец, старики постановили: кто на крестное целование не пойдет, того казнить смертию по воинскому праву казацкому и пограбить его животы, а пока не дадут все крестного целования, положить крепко заказ во всех куренях не продавать ни вина, ни другого питья, а кто будет продавать, того казнить со всей жесточью.
Этого казаки уж не выдержали, и 29 августа попы привели к присяге атамана и всех казаков перед стольником царским и его дьяком.
– А теперь, казаки, – крикнул довольный Косогов, – сослужите великому государю службу: идите под Астрахань чинить над ворами промысел…
– Радостным сердцем пойдем!.. – закричали казаки посмышленее. – Будем всей душой служить великому государю…
Но через некоторое время к стольнику явились старшины: они только что прослышали, что крымский хан готовится со 100 000 ордой напасть на Азов, а потому им никак невозможно покинуть Дон без защиты. Стольник вынужден был принять это к сведению и руководству…
Замутился астраханский круг, когда донские послы закончили свою печальную новость…
– Сволочи!.. – сплюнул кто-то.
– Вольному Дону аминь… – подвел итог другой.
– Ну и москвитяне, чтобы им…
– Все кончал!.. – сказал Ягайка.
Он снова был в Астрахани: «Наша совсем заболталась… – объяснял он. – Не хочит лесам сидеть – туды-сюды гулять хочит…»
И Федька Шелудяк прямо с круга пошел в Троицкий монастырь, где хранился приговор астраханцев о взаимной поддержке, о вольностях казацких, о походе на Москву, и с перекошенным лицом на глазах всех изорвал его и бросил в грязь…
Астраханцы совсем пали духом. В кружалах шло мрачное пьянство. Иосель был чрезвычайно озабочен и строго покрикивал на казаков: самые несообразные люди – пхэ!.. – и придумали какие-то там дурацкие вольности… Вот Москва, это да, с Москвой всякий порядочный человек торговать может…
Приказные, несмотря ни на что, писали себе и писали…
26 ноября к воеводе Ив. Богд. Милославскому явилась депутация: Астрахань сдается…
Торжествующий Милославский тотчас же приказал строить через проток мост для торжественного входа в Астрахань царских войск, и через сутки мост был готов.
В строгом порядке выстроились войска. Все ратные люди были пешем, в самых лучших одеждах и без шапок. Воевода поднял шестопер. Стукнула пушка, заиграли трубы, забили барабаны и тулумбасы, зазвонили в Астрахани красным звоном колокола, и многоцветная река силы московской устремилась через мост в город. Впереди войска попы шли с путем молебным, а за ними воевода с иконою Пресвятые Богородицы Живоносный Источник в чудесех. А навстречу москвитянам, в предшествии и сверкающего ризами и хоругвями крестного хода, шли астраханцы, все до единого. И когда подошли горожане поближе, все они шарахнулись на колени и завопили о пощаде.
– По милости великого государя, – торжественно и громко сказал воевода, – вам всем, всяких чинов людям, кто был в воровстве, вины отданы и вы государскою милостью уволены…
При ликующем колокольном звоне, при радостных кликах счастливых астраханцев, при пении молебном непрестающем войска снова двинулись в город. Воевода прежде всего вошел в собор и поставил там икону свою. Потом принял он печать Царства Астраханского, Приказную Избу и, осмотрев все укрепления, расставил по стенам караулы. Никто не был не только казнен, но даже задержан. Даже Федька Шелудяк, и тот остался на свободе и жил на воеводском дворе.
По обычаю доброго старого времени вся старшина казачья должна была, конечно, поднести новому начальству любительные поминки. Так, Иван Красуля, раньше начальник стрельцов Астраханских, а потом один из воровских атаманов, поднес воеводе ту драгоценную шубу, которую получил от Степана во время пьянства князь С.И. Львов, и саблю, тоже принадлежавшую Львову. Другие поднесли воеводе кто шапку горлатную лисью, кто перстень с камнем драгоценным, кто панцирь цареградский, кто пищаль турецкую, а Алешка Грузинов, тот, что митрополита под раскат пустил, тот ловко отделался тем, что роздал кафтаны да шапки приказным и получил отпуск на все четыре стороны. Монахи за свое шатание и сношения с ворами платились саженными осетрами и прямо божественной икрой. Казаков одолевала нищета: добытое все было давно пропито и заложено у Иоселя, а остатки пошли начальству на поминки. Многим беглым, кроме того, не хотелось возвращаться к прежним господам, где их ждали только нещадные батоги. И потому казаки, чтобы устроиться в жизни посолиднее, посытее, потеплее, отдавались в холопы воеводам, дьякам, подьячим и стрелецким головам…
Иосель получил большой подряд на поставку для государевой армии всякого продовольствия и уже сносился грамотами с московским торговым человеком Иваном, сыном Ивановым, Самоквасовым о закупке для Самоквасова всего улова по учугам. Писал Иоселю и сам именитый гость Василий Шорин о больших делах. Иосель метался как неприкаянный по городу, недосыпал, недоедал и убедительно говорил, что для великого государя он и жизни не пожалеет…
Раз, чтобы закупить для войска рыбу, отправился Иосель на учуги. Там, пока он осматривал товар и упорно торговался, гребцы его перепились чуть не до потери сознания: скучал простой народ эти дни крепко. А Иоселю нужно было проехать и на соседние острова. Делать нечего, взял он на учуг маленький челночок и поехал по промыслам один, – Иосель был парень смелый. И вдруг он почувствовал, что он в камышах заблудился. Он тревожно завертелся туда и сюда, но, кроме неба и камышей, вокруг ничего не было… Он причалил к небольшому плоскому островку и только хотел было вылезть на берег, чтобы осмотреться, как увидал на отмели у самой воды – человеческий череп. Он подошел ближе: то был труп какой-то богатой, судя по истлевшим одеждам, женщины, который прибило сюда волнами. И вокруг черепа по песку легло – точно слезы застывшие – ожерелье жемчужное, а пониже, на груди, искрилась большая бриллиантовая звезда с огромным сапфиром посредине. Иосель так и обомлел и дрожащими руками, боязливо оглядываясь по сторонам, схватил и звезду, и ожерелье, а потом, спрятав их, стал осторожно перебирать истлевшие ткани: нет ли еще чего… И нашел он еще несколько перстней драгоценных и тяжелое запястье, все индийскими сапфирами – да какими, чуть не в орех!.. – усыпанное…
И, убедившись, что больше на трупе ничего нет, Иосель торопливо поплыл протоками дальше. Он не помнит, как он и на учуги опять выплыл…
И с той поездки стал он покрикивать на казаков еще строже…
Ранней весной московская армия пошла обратно, а казаки на Дон, и, когда шли струги московские по Волге вверх, казаки и солдаты и стрельцы, завороженные тихим весенним вечером, унывно, с душой напевали новую, неизвестно кем сложенную песню:
Замутился тихий славный Дон
От Черкасска до Черна моря,
Помешался весь казачий круг:
Атамана боле о нет у нас…
– Гожа песня… – с убеждением тряхнул головой князь Иван Пронский, который вел войска вместо Милославского, оставшегося в Астрахани воеводой. – Пра, гожа…
Нет Степана Тимофеича, —
продолжали казаки, стрельцы и солдаты унывно, с душой:
По прозванью Стеньки Разина…
Поймали добра молодца,
Завязали руки белыя,
Повезли во каменну Москву
И на славной Красной площади
Отрубили буйну голову…
Эпилог
Через несколько месяцев, уже летом, прибыль в Астрахань князь Яков Одоевский, и начались аресты, пытки, казни. Ларка работал в Пыточной башне не покладая рук. Ив.Б. Милославский, ссылаясь на царскую милостивую грамоту, запротестовал было, но ему великим государем в новые дела встревать было не велено. Федька Шелудяк, Алешка Грузинов, Иван Красуля и многие другие были повешены. Один был сожжен живым за то, что у него нашли тетрадку заговорного письма. Менее виноватые были отправлены с Милославским на службу в верховые города. Воеводу, его дьяков и подьячих за поборы и взятки не наказывали: что же, пить-есть всякому надо, дело житейское… Батюшки, собравшись, долго решали, помавая главами, не причислить ли митрополита Иосифа к лику святых, и по зрелому обсуждению решили: не причислять…
Иосель прямо из сил выбился на службе великому государю московскому и решил наконец отдохнуть. Забрав в Белой Церкви всю свою бесчисленную семью, он отбыл в Голландию, и там, в Амстердаме, скоро возникло большое банкирское дело: Иосиф Диамантенпрахт с сыновьями. Банк вел дела исключительно с князьями, герцогами и даже королями и был известен во всей Европе. Поэтому, когда великому государю московскому понадобились деньги на введение войск иноземного строя, то его постельничий, человек великой остроты, глубоких московских, прежде площадных, потом же дворских, обхождений проникатель И.М. Языков, посоветовал ему попросить денег у голландских жидов, – хотя бы у достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта. Было решено: попросить, но как бы между прочим, по пути. И снаряжено было посольство в Англию, которое и должно было заехать в Амстердам, чтобы узнать, как взглянут там на это дело. Во главе посольства был И.М. Языков, а советником при нем по торговым делам был именитый московский гость Иван Иванов сын Самоквасов.
Почтительный, но строгий клерк впустил их в поместительный, но темный кабинет достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта. И.М. Языков вежливо осведомился, на каком диалекте желает с ними беседовать достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт.
– Да ведь вы, кажется, москвитяне? – вежливо приподнявшись им навстречу и глядя на них поверх очков, проговорил банкир. – Тогда будем говорить по-русскому…
И вдруг он раскрыл рот и онемел.
– Иоська, да ведь это ты?! – воскликнул вдруг Иван Иванов сын Самоквасов, тоже во все глаза глядя на еврея.
– Ну, оказия!..
– Ясновельможный пан воевода… – любезно осклабился Иосель. – Ну, могу вам сказать: встреча!.. А как драгоценное здоровьице глубокочтимой Пелагеи Мироновны?
– Гм… – откашлялся Иван Самоквасов. – Супружницу мою – разве ты забыл? – зовут не Пелагеей Мироновной, а Матреной Ильинишной… Эх, память-то у тебя коротка!
– А, да, да, да, да… – шлепнул себя ладонью по лбу Иосель. – В самом деле! Ну конечно… Матрена Мироновна… Здравствует она?
– Ничего, живем себе по-маненичку…
– Садитесь, садитесь, гости дорогие… – проговорил достопочтенный Иосиф Диамантенпрахт, указывая гостям на глубокие, бархатные кресла. – А помните, ясновельможный пан… гм… гм… как вы, бывало, все посмеивались да приговаривали: кто кого?.. Ну: кто же кого?..
И он веселыми, умными глазками вежливо посмотрел на Ивана Иванова сына, Самоквасова.
– Ты обскакал… – махнул рукой именитый гость.
– Хе-хе-хе-хе… – тихонько засмеялся достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт. – Хе-хе-хе-хе… Но, как видится, и вам жаловаться не приходится…
– Нет, Бога гневить нечего… И мы ничего, живем, хлеб жуем… – сказал Иван Самоквасов. – Ну, одначе, мы к тебе по делу мимоездом заехали, посоветоваться. Только ты уж вот что: старое не поминай – может, у нас там и не все ладно было, но…
– Ну зачем?.. Кто старое помянет, тому глаз надо выковыривать, как по-русскому говорится… – сказал господин Иосиф Диамантенпрахт. – Чем могу служить?
И.М. Языков обстоятельно и очень дипломатично изложил дело. Еврей вытянул губы, как бы нюхая свои седые усы. Глаза его были скорее печальны.
– Видите ли, достопочтенный и сиятельный князь… – проговорил он медлительно. – Фирма немножко… ненадежна…
– Как? Россия-то?
– Что ж что Poccия?..– сказал задумчиво господин Иосиф Диамантенпрахт. – Возьмите первое: великий государь уже в годах, а наследник Феодор слабоват, а там еще сыновья да от двух разных матерей. И бояре крутят туда и сюда: то Нарышкины, то Милославские, то кто, то что… А внизу – казаки… Взять деньги, конечно, не трудное дело, а вот кто платить-то будет, если – чего, конечно, упаси Боже… – великий государь… ну, что-нибудь с ним случится?.. Впрочем, раз вы едете в Англию, то, может быть, на обратном пути вы понаведаетесь, а я тем временем посоветуюсь с сыновьями. О, они у меня такие головы, такие головы – ай-вай, дай бог всякому министру таких детей иметь! И Иосиф, и Янкель, и Симхе, и Мойша, и Рувим, и Арончик, и Лейба, все…
Но когда на обратном пути российское посольство заехало договорить о деле в Амстердам, то достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт, к великому прискорбию своему, в деньгах должен был отказать решительно и окончательно: фирма ненадежна…
И действительно, дела на Москве как будто все не клеились, tragоedia moscovitica все продолжалась. Сперва при дворе чрезвычайно усилился думный боярин Артамон Сергеевич Матвеев, и, все более и более входя во вкус власти и богатства, пользуясь своим влиянием на царя, первый выхлопотал у него незаконный указ 13 октября 1675 г. о продаже крестьян без земли и тем окончательно свел русского крестьянина на положение скота. Тут вскоре внезапно скончался великий государь Алексей Михайлович, и при дворе начались бешеные интриги и борьба за власть Милославских и Нарышкиных. На престол российский вступил больной царь Феодор, а именитый боярин Матвеев, обвиненный в ведовстве, ушел в далекую ссылку в Пустозерск, где и жил в великой нищете. Его верного слугу Орлика за то, что не донес он своевременно о чернокнижных занятиях своего господина, сожгли. Потом, после скорой смерти Феодора, подняла великую смуту на Москве разбитная царевна Софья, о которой историки говорят, что она «даже занималась сочинением комедии для придворного театра». Она начала свою деятельность стрелецким бунтом, во время которого погибло много бояр, а между ними престарелый князь Юрий Алексеевич Долгорукий, усмиритель казаков, и только что вернувшийся из ссылки боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Избранный криком народным у Красного крыльца царем московским маленький царевич Петр был в тени…
И если неспокойно было наверху, то еще более неспокойно было на низу, в безбрежном море крестьянском. Везде разбойничали неуловимые шайки лихих людей, из которых наибольшие заботы причиняла шайка атамана Тренки Замарая, работавшая то в муромских, то в брынских лесах. Делались попытки использовать в смутах и царское имя: уже в 1674 г. в Малороссии изловили самозванца Воробьева. Шумела, как всегда, и Волга: в 1693 г. воровская ватага, прибежав сверху, осадила там Черный Яр. И если в тихом Коломенском мальчик Петр пускал деревянные кораблики по сонному пруду, в котором некогда его батюшка Алексей Михайлович всемилостивейше купал своих стольников и любительно смеялся над их проказами, и если во главе своих потешных мальчик штурмовал воображаемые крепости, то по граням безбрежных и тоскливых степей заволжских, среди которых человек так унизительно мал, по-прежнему бродили не помнящие родства волки степные и только и ждали, что удобного случая… Так что мудрая осторожность достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта в переговорах с постельничим И.М. Языковым имела, пожалуй, под собой некоторые основания…
И только победные громы Полтавы заставили Торговый Дом «Наследники Иосифа Диамантенпрахта» задуматься и понять, что достопочтенный основатель фирмы несколько ошибся на этот раз в своих расчетах. Достопочтенный Иосиф Диамантенпрахт Младший был немедленно командирован фирмой в Санкт-Питер-Бурх, очень быстро нашел нужные ходы и предложил правительству Российскому свои услуги.
– Деньги мне нужны… – коротко сказал Петр. – Кондиции?
Достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт Младший вкрадчиво и очень убедительно изложил свои условия. Великан обернул к нему свое вдруг страшно налившееся кровью лицо и грянул:
– Да ты с кем говоришь, об-бразина? Привык голоштанных немецких-то дуксов обдирать… Закладывать тебе Poccию я не собираюсь…
Достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт сжался в комочек.
– Маэстэт…
Огромный, весь в мозолях и не очень опрятный кулачище ахнул по еловому, ничем непокрытому, заваленному всякими планами и чертежами столу:
– Вон!..
В дверях мелькнули пятки…
Но все это было еще скрыто в сумрачных далях грядущего. А пока Москва, несмотря на все смуты свои, сладко пила и ела, от полден до вечерен отдыхала, а с темнотой опять разбредалась по своим опочивальням теплым. И по-прежнему тихи были ночи московские, ночи кремлевские, – только куранты играли нарядно, отмечая тихие часы, да стучали колотушки сторожей, а по стенам зубчатым и по башням, в звездной высоте, восхваляя великое царство московское, по-прежнему пели сторожевые стрельцы:
– Славен город Москва-а-а-а-а!.. – пел один у башни Тайнинской.
– Славен город Володиме-е-е-е-ерь!.. – отзывался другой, у Кутафьи.
– Славен город Астраха-а-а-а-ань!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































