Читать книгу "Прекрасный человек"
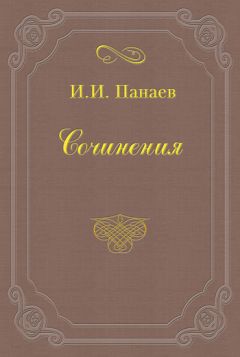
Автор книги: Иван Панаев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Иван Иванович Панаев
Прекрасный человек
…О нем твердили целый век:
N.N. прекрасный человек!"
Пушкин
Глава I, служащая вступлением; в ней рассказывается о том, в какую счастливую минуту родился прекрасный человек
– Тс! тс! шш! шш! Экой народец какой! Васька, да что же это такое? разве ты не можешь пройти, не задев за что-нибудь? Мало бьют вас, бестии… Нечаянно? нечаянно! Да еще бы нарочно? Шшш! Шш! Шш!.. О, господи боже мой! чувства никакого нет в этом народе, решительно никакого.
Так, качая головою, шептал человек низенького роста, толстенький, с крошечными глазками, с огромной лысиной, прохаживаясь на цыпочках взад и вперед по комнате. На этом человеке был надет пестрый бухарский халат, и маленькая шея его была опутана белым платком, который почти совершенно закрывается широкою орденскою лентой красного цвета с желтой каемкой…
Хотя этому человеку было только сорок лет, но на его круглом и полном лице резко обозначились морщины, – может быть, следствие усиленных трудов, и несмотря на полноту лицо его было болезненно-бледно, – может быть, от сидячей жизни. Глазки его, совершенно заплывшие, будто нехотя, будто с трудом глядели на божий свет; к тому же в эту минуту он моргал веками, лишенными ресниц, обыкновенного их украшения. Но да не подумает читатель, чтоб этот почтенный человек моргал по привычке, – совсем нет, он не имел никаких дурных привычек, решительно ничего особенного: какое-то торжественное спокойствие, ненарушимая безмятежность всегда царствовали на его полной физиономии – и он моргал веками только в самые критические минуты своей жизни, когда душа его бывала сильно взволнована и когда он сильно был недоволен или поражен чем-нибудь. В первом случае он беспрерывно моргал обоими глазами, во втором только изредка подергивал правым глазом.
– Шш! шш! – продолжал он, обращаясь к удалявшемуся в переднюю лакею, который стучал своими каблуками. – Ради же самого бога, Васька, шш!.. Как же ты не возьмешь, братец, в расчет, что ходить тебе взад и вперед совершенно незачем? Сидел бы в передней да тачал бы сапоги, а то нет…
Лакей остановился, обернулся лицом к барину и разинул рот, но тот в страшном испуге замотал своими коротенькими ручками, заморгал глазками и снова, но выразительнее прежнего прошептал: шш!
Когда лакей вышел из комнаты, барин приложил руку к правому уху и, казалось, стал к чему-то внимательно прислушиваться… Но кругом была тишина ненарушимая; нагоревшая сальная свеча издавала слабый свет, едва освещая комнату средней величины о трех окнах, уставленную красными решетчатыми стульями, украшенную двумя ломберными столами и двумя зеркалами.
Через минуту послышалось слабое стенание, как будто из других соседних комнат: при этих звуках человек в халате заморгал, почти не переводя дыхания, опустился на стул, как бы ожидая еще что-то, но опять все по-прежнему сделалось тихо, и, казалось, долго удерживаемый вздох вырвался из груди низенького и толстенького человечка и облегчил его. Губы его зашевелились; он забормотал что-то невнятно, но через минуту, приподнявшись со стула и заложив за спину свои коротенькие руки, которые едва сходились назади, он снова стал прохаживаться по комнате на цыпочках и говорить довольно ясно, впрочем, шепотом:
– Десять лет! десять!.. Истинно неисповедимы судьбы твои, Господи! Все это как будто сон… И знал, и видел, кажется, собственными глазами, а как-то не верилось. Надо взять в расчет, что в наше время десять лет очень много времени, очень! Однако такое странное происшествие должен считать я не иначе, как милостию божиею; только если бы все благополучно кончилось! а то ведь десять лет, десять!.. – И, повторяя беспрестанно это роковое число, он моргал обоими глазами.
Голова низенького человека опустилась на грудь, так что он подбородком уперся в самую середину ордена, висевшего у него на шее.
В это самое мгновение кто-то чуть слышно полурастворил дверь комнаты, противоположной передней, и чья-то голова выглянула из двери; но свеча так нагорела, что невозможно было рассмотреть, кому принадлежала эта голова. Низенький человек приподнялся и вздрогнул.
– Кто тут? – произнес он вполголоса и вдруг, как будто испугавшись, что проговорил слишком громко, повторил едва слышно: – кто тут?
– Это я, батюшка Матвей Егорыч, – отвечала голова, высунувшаяся из двери, также шепотом.
– Я! я! кто же я? – бормотал себе под нос Матвей Егорыч. – Сколько раз говорил я, что на вопрос «кто?» должно всегда сказывать имя и отчество или просто имя, а то я – ну что такое я?
Рассуждая таким образом, Матвей Егорыч подошел к столу, на котором стояла свеча, и хотел сощипнуть с нее, но рука изменила ему, обнаруживая его внутреннее волнение; однако он продолжал мыслить вслух:
– Вишь, как нагорела! а я совсем этого и не заметил. И оплывают как! Обманул меня этот плут Прохоров, а еще знакомый человек, еще говорит: отличные свечи, Матвей Егорыч…
– Матвей Егорыч!
– Кто там?
После двух или трех неудачных попыток он снял со свечи, взял ее со стола и подошел к двери, из которой выглядывала голова. Но подсвечник дрожал в руке его.
– Это ты, Василиса? Ради бога, скажи, что такое? не случилось ли чего?
В самом деле, морщинистая голова, повязанная платком и выглядывавшая из двери, принадлежала Василисе, домоправительнице Матвея Егорыча.
– Ничего, батюшка, не случилось, благодарение богу.
– Ничего? То-то же… Да я хотел тебе сказать, Василиса, – продолжал Матвей Егорыч, – если тебя спрашивают: кто тут? – то следует взять в расчет, что желают узнать, кто именно вошел: Петр, Иван, Егор, Алена, Домна или… или… но я не может служить ответом, я неопределенно; а всегда и на все должно отвечать определенно.
– И! до того ли теперь, Матвей Егорыч!
– Что? а разве что-нибудь было?.. – И правый глаз Матвея Егорыча начал словно подергиваться, и он не мог докончить начатой речи.
– Нет, все слава богу, батюшка, ничего не было; все идет как должно; известное дело, что не легко…
– То-то же.
Матвей Егорыч покачал головой.
– Поди сюда, Василиса.
Он поставил свечу на стол и снова заложил руки за спину, остановившись посредине комнаты против домоправительницы.
– Я очень боюсь, Василиса, очень, потому что…
– Батюшка, Матвей Егорыч, чего же бояться? это дело обыкновенное…
– Оно конечно; но надо взять в расчет десять лет, Василиса, – вот что главное…
– Ведь у бога все возможно, Матвей Егорыч.
– Так, так: но сама ты знаешь, иногда бывают случаи…
– Точно, сударь, не ровен бывает час. Матвей Егорыч заморгал обоими глазами.
– Но ты говоришь, что ничего, слава богу?
– В добрый час сказать, батюшка.
Матвей Егорыч опустил руку в широкий карман своего жилета и вынул оттуда табакерку, любимую свою табакерку, с изображением девицы, стоящей перед трюмо, в шнуровке. Он взял щепотку табаку и с расстановкой три раза медленно провел два пальца с табаком под носом: так обыкновенно нюхивал Матвей Егорыч; потом протянул руку с табакеркой к домоправительнице.
– Возьми-ка щепотку, другую, Василиса Ивановна. Василиса взялась было за табак, но в эту самую минуту опять послышался стон, и гораздо сильнее, чем в первый раз. Табакерка выпала из руки Матвея Егорыча, веки его захлопали.
– Беги туда, Василиса, беги скорей, брось все это! Что-то будет! Боже мой! брось это, Василиса, брось…
– Ничего, батюшка, не беспокойся, все, даст бог, будет хорошо.
И между тем она собирала с пола на ладонь просыпанный табак.
– Брось все, ну черт с ним, и с табаком, беги скорей…
– А вы, батюшка, не взойдете туда? ведь я за тем и пришла, чтобы спросить вас, Матвей Егорыч, не зайдете ли к нам.
– Нет, нет, ей-богу не могу, Василиса. Беги же скорей. Уж я лучше здесь побуду. Ведь, может быть, ничего, – продолжал он дребезжащим голосом, смотря ей прямо в лицо, – так все слава богу и кончится? Может быть, не правда ли, а? – И на глазах его показались слезы.
– Ничего, батюшка, ничего… – И Василиса отдала табакерку Матвею Егорычу и вышла, или, лучше сказать, выбежала из комнаты с подобранным табаком.
– Ничего, ничего! – шептал Матвей Егорыч, оставшись один. – Ничего… Конечно, оно дело самое простое; это случается всякий день, а в таком большом городе, как Петербург, и в день-то, я думаю, по нескольку раз; однако надо взять в расчет десять лет, десять!..
Он провел рукою по лицу, отирая слезы, и еще раз повторил: «Десять!»
Три раза он прошелся по комнате, три раза принимался осматривать у свечи, не повредился ли шалнер в его любимой табакерке, не попортилась ли дама, стоявшая перед трюмо; но все это он делал почти машинально: мысли его заняты были чем-то важнейшим, что можно было сейчас заметить по учащенному миганью век.
Вдруг в передней раздался звон колокольчика; по звону можно было догадаться, что какая-то могучая рука привела его в движение. Матвей Егорыч вздрогнул.
– Какой это дурак так дергает за ручку колокольчика? – прошептал он, подходя на цыпочках к двери передней: Звон раздался в другой раз и еще сильнее…
– Шш! шш!.. Васька! Васька!
Но Васька ничего не слыхал: он сидя спал на прилавке в передней; на коленях его лежал сапог; с боку, на этом же прилавке, в груде кожи, колодок и сапожных щеток, стояла оплывшая и нагоревшая свеча… Видно, сон его был глубок и приятен, если и колокольчик, висевший над самою его головою, не мог разбудить его.
Матвей Егорыч подошел к нему и начал расталкивать.
– Экой народец! – шептал он, – и утром спит, и вечером спит, и ночью спит, всегда спит и ничего не хочет взять в рассуждение. Да разве жизнь-то дана нам для сна? Ему, дураку, что хочешь толкуй, ничего не возьмет в голову. Васька!
Лакей, ворча и протирая глаза, начал приподниматься.
– Ну же, братец, проснись! Посмотри, свеча-то как оплыла; ведь ты, бесчувственное животное, пожар в казенном доме сделаешь. Ну, за что я тебя буду кормить, если ты все спишь?
– Я не спал, Матвей Егорыч, ей-богу не спал. Зачем, сударь, спать.
– И божится! Хоть ты тут что хочешь, а он свое. Бесчувственный народ!
Звонок раздался в третий раз.
Матвей Егорыч зажал уши и закрыл глаза; потом с силою, которую ему придал гнев, толкнул лакея к двери.
– Гостей не принимать… Слышишь ли! Меня нет дома, нет дома…
И, повторяя последние слова, он вышел из передней, немного притворил дверь залы и в щелочку стал смотреть, кто войдет.
Когда Матвей Егорыч увидел вошедшего, он с чувством собственного достоинства приподнял голову, поправил крест, висевший у него на шее, отворил дверь и остановился против вошедшего. Во всей фигуре его было что-то торжественное; он принял на себя ту величавую осанку начальника, когда тот становился лицом к лицу с подчиненным.
Вошедший был департаментский курьер.
– Что же это ты, братец, так стучишь? – сказал Матвей Егорыч. – Поднял звон на весь дом. Ты этак можешь и жену мою перепугать и звонок оборвать; надо звонить осторожно. Эх, Афанасьев! а я думал, что ты деликатнее всех.
– От его превосходительства, – сказал курьер, подавая Матвею Егорычу огромный пакет.
Матвей Егорыч, взяв пакет, вышел из передней и почувствовал, что в пакете лежит что-то необыкновенно крепкое, тяжелое, и правый глаз его тотчас начал значительно подергиваться. Он улыбнулся, улыбнулся с такою приятностию и добродушием, что описать этого решительно невозможно. Подошедши к столу, на котором стояла свеча, он ощупал пакет и потом распечатал его и вынул из него письмо. В письме обернутый в темно-красную ленту с черными полосами покоился орден св. Владимира 3-й степени. Матвей Егорыч тщательно развернул ленту, в которой скрывался орден, и потом, держа ленту за кончики, начал любоваться и орденом и лентой на некотором расстоянии. Орден живописно качался на ленте, потому что руки Матвея Егорыча дрожали от душевного волнения. Так прошло несколько минут. «Спасибо его превосходительству, ей-богу спасибо… – шептал Матвей Егорыч, – внимательность дороже всего в начальстве, а орденок красив, весьма красив… Посмотрим, однако ж, что пишет его превосходительство».
Вытерев пыль со стола и положив орден на стол, Матвей Егорыч развернул письмо, поднес к свече и вполголоса, с расстановками, прочел следующее:
«Любезный Матвей Егорыч! Спешу препроводить к вам знаки ордена Владимира 3-й степени. Поздравляю вас с этою монаршею милостью, которую вы вполне заслужили вашей ревностной и полезной службой. Указ Капитулу только вчера подписан; но мне хотелось поскорее видеть на вас этот орден, и я велел купить его для вас. Примите от меня этот подарок, как свидетельство моего к вам уважения, с коим имею честь быть…»
– И прочее, и прочее, – произнес Матвей Егорыч, складывая письмо и улыбаясь с тою же невыразимою приятностью. – И прочее… То-то я смотрю, что крест-то больно красив… Аи да его превосходительство! спасибо ему, ей-богу спасибо!.. Афанасьев! поди же сюда, дружок, – закричал он курьеру, опуская руку в карман своих панталон и вынимая оттуда два целковых.
– Имею честь поздравить, ваше высокородие!
– Спасибо тебе, спасибо, вот возьми.
Курьер взял два целковых, поклонился и вышел.
Тогда Матвей Егорыч взял со стула свечку и перенес ее на другой стол, к зеркалу; потом, опустив ниже на грудь орден св. Анны, он сверху св. Анны возложил на себя вновь пожалованный ему орден и начал смотреться в зеркало.
– Вот это орден! – говорил он сам с собою, поправляя Владимира. – Слава богу – вот дослужился до какой награды…
Вдруг пронзительный младенческий крик прервал размышления Матвея Егорыча: он заморгал веками, вздрогнул и в совершенном остолбенении опустился на стул, только изредка робко поглядывая на дверь, противоположную передней, как бы кого – то ожидая оттуда.
В самом деле, через несколько минут эта дверь отворилась, и Василиса, остановившись перед Матвеем Егорычем, поклонилась ему в пояс.
– Матвей Егорыч! имею честь поздравить вас, батюшка, с сынком. Нам сынка бог дал…
– Сынка?.. Сынка? – повторил он, не двигаясь со стула, на котором сидел. – Сынка?.. – Матвей Егорыч перенес столько сильных потрясений в продолжение последнего часа, что в эту минуту он совершенно смутился… Жена, Владимир 3-й степени, сынок… все перемешалось и спуталось в голове его. Он подумал, что это сон, один только соблазнительный сон. Не шутя, сомнение в действительности всего происшедшего дошло в нем до такой степени, что он начал ощупывать, точно ли у него на груди висит владимирский крест… Уверясь в последнем, он протер глаза и уже с большим сознанием повторил: – сынка?..
– Сынка, Матвей Егорыч, сынка! да и какой мальчик-то! весь, кажется, в вас, батюшка.
– В меня?.. Ну… а что Настасья Львовна?
– Ничего, батюшка, все благополучно.
– Благополучно? Что же она…
– Ничего, батюшка, лежит, лежит… Пожалуйте к нам, она вас спрашивала. Где, говорит, Матвей Егорыч; что он не придет ко мне? Да и сынишку-то своего посмотрите. Славный мальчик, славный!
Матвей Егорыч приподнялся со стула, потер лоб и пошел на цыпочках вслед за Василисой.
Настасья Львовна лежала на широкой постели за перегородкой, а возле нее младенец.
Матвей Егорыч подошел к постели.
Настасья Львовна устремила на него томные глаза и вздохнула.
– Ну, как вы себя чувствуете, дружок?
– Благодаря бога, – проговорила она едва слышно.
– А я за вас порядочно струхнул! думаю себе, надо взять в расчет десять лет… Ну, поздравляю с сыном… Поздравьте же и меня, душечка, кроме сынка, и еще кое с чем…
– С чем же, друг мой?
– Не говорите много, не говорите, это нехорошо… а вот я вам сейчас покажу.
Матвей Егорыч отвязал назади шеи тесемочку, снял крест и, держа орденскую ленту двумя пальцами, поднес крест к Настасье Львовне.
– Вдруг две радости… – прошептала она.
– Не говорите, душечка, не говорите; теперь мы за вас будем говорить. А! Настасья Львовна! ведь в счастливую минуту родился ребенок? Что скажете? Только что я подвязал крест на шею, как и слышу его крик… Счастливый будет ребенок, Настасья Львовна, ей-богу, счастливый! Да где же он, мальга?.. А! мое почтение! Да мы его назовем Владимиром, непременно Владимиром, в честь пожалованного мне ордена, который я возложил на себя в самую минуту его рождения. Как вы думаете, душечка?.. Ведь это надо взять в расчет… Не говорите, не говорите, вам говорить нехорошо, а так только улыбнитесь… Да он у нас, посмотрите, сам со временем дослужится до такой же приятной награды… а? пузырь! не правда ли? Ведь выдумал же родиться именно в такую счастливую минуту, скажите пожалуйста!.. Душечка, а знаете, ведь это не капитульский крест: сам его превосходительство купил и прислал мне в подарок.
Он снова поднес орден к самым глазам супруги.
С минуту она любовалась им; но уже слабость одолевала ее, уже орден представлялся ей в тумане – и она заснула нечувствительно.
Матвей Егорыч на цыпочках вышел из спальни…. Он все улыбается, – так ему было весело. Это была самая светлая минута в его службе, потому что вся жизнь представлялась ему в форме департаментской службы…
«По всем признакам, – думал он, – этот ребенок будет счастливый, если взять в расчет минуту его рождения…»
Глава II, из которой можно вывесть заключение, как важно родиться в счастливую минуту, а равно и то, что благонравие, прилежание и другие похвальные качества никогда не остаются без награды.
Матвей Егорыч был истинно счастлив… Что ни говорите, а в 45 лет чин статского советника, и Владимир на шее, и почетное место с хорошим жалованьем, с квартирой, с освещением и отоплением, – да это блаженство! И ко всему этому сынок Володя – загляденье: такой полненький, такой румяненький, как яблочко, он так мило и звучно кричал, так царапал маменьку и папеньку, хватая их своей ручонкой за лицо… Родители уже видели в нем будущую подпору своей старости, замечали в нем каждый день какие-нибудь необыкновенные способности, всем знакомым своим прокричали про его понятливость и ум, хотя он не умел еще не только ходить, но и ползать. Много значит родиться в счастливую минуту: люди, рождающиеся в такие минуты, от колыбели до гроба обыкновенно катаются, как сыр в масле. Статская советница беспрестанно целовала своего сынка и звала его Вольдемарчиком; статский советник, каждый раз, возвращаясь из присутствия, хлопал его по щеке и говорил самым ласковым голосом: «смотри ты у меня, плут Володька, вот я тебя!» И каждый раз после этого у супруга с супругой происходила небольшая размолвка.
– В вас нет никакой нежности, – говаривала обыкновенно Настасья Львовна Матвею Егорычу, – так не обращаются с деликатным ребенком.
– Да почему же, Настенька? – возражал Матвей Егорыч, – ведь он у нас не хрустальный.
– Почему? почему?.. Ну, что если вы так станете ласкать его при ком-нибудь чужом и называть Володькой, – позвольте спросить, что станут об вас говорить в свете?
– А что же такое станут говорить?..
И правый глаз Матвея Егорыча обыкновенно начинал моргать, и он тотчас принимался ходить по комнате, заложив руки назад.
– Что же могут сказать дурного? Да и разве мне указ, как другие обращаются с детьми?.. Уж мне и сына родного приласкать нельзя, как я хочу? Да что же после этого…
– Полноте, полноте, Матвей Егорыч… Уж и разворчались.
Матвей Егорыч немного поморщивался, но уже ничего не возражал и после нескольких минут молчания обыкновенно обращался к своей супруге с следующим вопросом:
– А что, не пора ли водочки, душечка?
Неописанна была радость родителей, когда Володя стал ходить и издавать какие-то нестройные звуки… Какое прекрасное платьице купила ему Настасья Львовна! какого бесподобного солдата подарил ему Матвей Егорыч!
И что за умница был Володя! он не ломал и не рвал своих игрушек, как другие дети; он даже и мало обращал внимания на своего солдата, хотя у этого солдата был отличный красный мундир и бесподобные усы из настоящего волоса… Володя чувствовал более наклонность к съестным игрушкам, и преимущественно к сахарным и пряничным куклам: первые он обсасывал с необыкновенным искусством, вторые грыз (зубки у него вышли очень легко) с проворством и легкостью изумительными. Он не пренебрегал также и сдобными булками. Бывало, целый день, с утра до вечера, он или грызет, или жует, или сосет, а потому в доме было совсем его не слышно. Многие упрекали Матвея Егорыча и Настасью Львовну за то, что они баловали Володю; но ведь он у них был один, одно сокровище, одно утешение, одна надежда. Сын, родившийся у них в первый год брака, через два месяца умер, и после этого десять лет жили они бездетно и уже совершенно отчаялись иметь подпору под старость дней своих, как вдруг, неожиданно, через десять лет бог послал им такую радость, а ровно через два года после рождения Володи, еще неожиданнее, другую, – именно дочь, которую они нарекли Марией, в честь бабушки Настасьи Львовны.
– Поздравляю тебя, Матвей Егорыч! – говорил ему в департаменте один его сослуживец, также статский советник, но только с париком и крашеными бакенбардами, ударяя его дружески по плечу и улыбаясь, – поздравляю, братец, с дочкой; ты под старость-то видно не на шутку пошаливать начинаешь, а?.. Молодец! молодец! мы, братец, и помоложе тебя, кажется, да за тобой – куда! не угоняешься.
Но дочка Матвея Егорыча была прехилая и претщедушная, а потому ни он, ни Настасья Львовна не обращали на нее особенного внимания и почти вовсе не ласкали ее. Она даже и не показывалась в парадные комнаты, то есть в залу и гостиную, где почти безвыходно был Володя. Настасья Львовна всем гостям своим, целуя Володю, говорила:
– Это мой фаворит! это милый, ласковый ребенок! Время шло, и как-то очень незаметно: Володе уже было 10 лет, Маше 8… Володю по-прежнему наряжали, дарили, кормили; у него успели даже подгнить и попортиться зубки от сахара; он расхаживал, подняв вверх головку, и смотрел на всех смело. Маша была робка и застенчива: она все жалась в уголок; она была нехороша, но у нее были живые и умные глазки, хотя Настасья Львовна и сестра ее, девица Анна Львовна, жившая у нее в доме, называли ее глупенькою. Машу ничем не дарили; она ходила в заштопанных чулках и в старом платье. По крайней мере раз десять в день повторяли ей:
– Маша, посмотри на Вольдемарчика: как он держит себя, как он говорит, как он глядит, – а ты ведь ни на что не похожа.
Всего более доставалось Маше летом на даче. Сзади дома тянулась большая и густая роща. Маша очень любила эту рощу и все бегала туда и часто заманивала с собою Володю. Ей было там хорошо на свободе; она резвилась, бегала, рвала цветы; ей не хотелось идти домой, а Володя все звал ее в сад…
– Здесь гадко, сестрица, – говорил он, – лучше станем играть в садике против маменькиных окошек; там чистые дорожки, а здесь все сор.
Но Маша не соглашалась ни за что променять свою рощу на крошечный садик, где она не смела дотронуться до цветка, где она боялась измять траву. Володя жаловался за то на нее маменьке, и та больше драла ее за уши, а потом совсем запретила ей бегать в рощу; но Маша не слушалась маменьки и все-таки бегала туда потихоньку.
Не таков был Володя; он ничего не делал, не спросясь прежде у маменьки. Самое любимое препровождение времени была игра в чиновники: бывало, лишь только вскочит с постельки и умоется, сейчас посадит за стол мальчика, который был нарочно приставлен к нему для забавы, положит перед ним клочок бумаги, даст ему в руки перо и заставит его чертить на бумаге разные каракульки, а сам с важностью расхаживает по комнате, изредка подходя к столу с нахмуренным личиком и сердито повторяя:
– Ну, какой ты чиновник, коли порядочно строки написать не умеешь? Дрянь, а не чиновник!
Все это папенька Володи делал с господином, который часто по вечерам сидел у него в кабинете, а Володя все это и подсмотрел в щелку. Матвей Егорыч, увидев такие забавы своего сына, пришел в совершенный восторг, с чувством посмотрел на него и сказал Настасье Львовне:
– О-о-о! да этот мальчик пойдет далеко!
Успехи Володи в различных науках и преимущественно в каллиграфии превзошли и маменькины и папенькины ожидания. Заглавные буквы писал он с такими вычурами и завитками, что нельзя было достаточно насмотреться на его рукописи. Матвей Егорыч со слезами на глазах показывал эти рукописи своим знакомым, которые от удивления только пожимали плечами. Добрый и счастливый отец говорил, ходя по комнате и качая головою:
– Первый писец будет, первый в нашем департаменте! Уж на что Савельев, такого писца и в военном министерстве нет, а он перещеголяет со временем и его, непременно перещеголяет!
Настасья Львовна, поправляя свой новый чепец перед зеркалом, сказала с расстановкою:
– Очень рада способности Вольдемарчика к каллиграфии: он будет снимать сестрице Анне Львовне канвовые узоры!
По тринадцатому году Володю отдали в общественное заведение, где он вскоре и отличился благонравием и прилежанием. У него все тетрадки содержались в необыкновенной чистоте и переписаны были с величайшим тщанием: особенно красиво и вычурно были написаны им заглавные листы. В рекреационное время, когда другие резвились и бегали на дворе, Володя оставался в классе и приготовлялся к урокам: он все заучивал наизусть, не исключая даже арифметики, а впоследствии алгебры и геометрии; форменный сюртучок его был всегда застегнут на все пуговицы, а воротник на все крючки, отчего у него под подбородком сделался даже очень заметный рубец; учебные книги его в шкапу были расставлены в величайшем порядке, а у старых книг перемаранные их прежними владельцами листы, на обороте переплета, Володя заклеил новыми, чистыми бумажками; перочинный ножичек, грифель и карандаш носил он всегда в мешочке, который сшила ему Василиса по его просьбе. Ножичком он дорожил более всего, не давал его никому, а если и давал, что случалось очень редко, то, как Иван Федорович Шпонька, всегда просил, чтобы не скоблить пера острием. По воскресеньям из дома он привозил различные лакомства, как-то: изюм, миндаль, чернослив и сладкие пирожки, и кушал всегда потихоньку от всех своих товарищей; съедал же помаленьку, раскладывая аккуратно все привезенное ровно на неделю.
Статский советник давно замечал в сыне аккуратность, бережливость и другие похвальные качества; он, как добрый и нежный отец, не мог им не радоваться.
– А знаете ли что, душечка, – сказал он однажды своей супруге, – ведь Володя – то наше истинное утешение. Начальство о нем говорит, что он смирен, как красная девушка, с шалунами не связывается, сидит себе все да учится.
– Бесподобное дитя! – возразила статская советница. – Какая разница между ним и Машей! Куда ей до него! да он против нее барин, – и манеры и все этакое, а она ни на что не похожа и держать себя не умеет, вся выпятится вперед: безобразие просто!
– Впрочем, и Маша добрая девочка, душечка. Дай срок, и она выравняется.
– Я ничего особенно доброго в ней не вижу. У вас, Матвей Егорыч, все добрые.
– Но что мне особенно нравится в Володе, душенька, знаете ли, что?
– Как же я могу знать, что?
– Безответность, дружочек. Когда ему толкуешь что-нибудь, он не вертится на месте, как другие дети, а почтительно, чиннехонько слушает и никогда рта не разинет. Редкий, благонравный мальчик и трудолюбивый!
Володя точно был из первых по трудолюбию и благонравию; правда, многие имели способности гораздо лучше его, но те, видно, слишком надеялись на себя и многим занимались небрежно, посвящая себя только исключительно любимым своим предметам; Володя же занимался с одинаковым старанием вообще всем, потому что ни одному предмету не отдавал предпочтения перед другим. Хронологическую часть истории он знал чудесно и, нечего греха таить, любил при случае блеснуть своими знаниями перед товарищами. Кто-то заметил, будто он имеет небольшое пристрастие к математике; но вряд ли это замечание имело какое-нибудь основание, потому что он занимался всем в известные часы и словесным наукам уделял столько же времени, сколько и математическим. Переводы его с французского на русский язык были очень удачны: он прилагал все старание, чтоб обработать свой слог, и достиг этого. За полгода до выпуска он подал учителю словесности сочинение под заглавием «Поездка в Парголово», которым учитель был необыкновенно доволен и сказал ему:
– У вас, друг мой, есть вкус; со временем вы можете сделаться сочинителем; только обращайте более внимания на словосочетание и избегайте какофонии. Это главное.
Двадцати лет Володя окончил курс учения и вышел вторым по списку, а на публичном акте произнес речь: «О русской словесности вообще» (сочиненную, впрочем, не им, а учителем), в которой чрезвычайно убедительно доказывалось, что русская словесность началась с Игоря и Олега и потом быстрыми шагами все шла к совершенству и что мы имеем ныне писателей во всех родах, не уступающих иноземным писателям, а именно: по части сатирической – Кантемира, по драматической – Сумарокова, Княжнина и Озерова, по эпической – Державина. Речь эта произвела значительное впечатление на многих почтенных слушателей, которым особенно понравилось заключение, написанное точно трогательно и прочитанное с большим чувством.
Матвей Егорыч был, разумеется, в числе присутствовавших на акте. Когда сын его вышел на кафедру, у него очень заметно заморгали оба глаза и очень сильно забилось сердце. Он слушал его с напряжением, не проронил ни одного слова из Володенькиной речи, хотя и не совсем ясно понимал ее содержание. Когда же Володя кончил и когда отец увидел и услышал вокруг себя одобрительные знаки и слова, у него слезы покатились по лицу градом; он, всхлипывая, бросился навстречу к сыну, обнял его и повторял прерывающимся голосом: «я счастливый отец, счастливый! спасибо тебе, Володя!»
Через два месяца после акта Матвей Егорович определил Володю в тот департамент, где служил сам, на 800 рублей ассигнациями жалованья. Володя усердно принялся переписывать различные отношения, так бегло и вместе таким правильным почерком, что в самое короткое время снискал необыкновенное уважение всех канцелярских чиновников в департаменте.
– Мастак, брат, писать, – говорил один из таких своему товарищу, рассматривая бумагу, переписанную новым его сослуживцем, – право, мастак, нечего сказать! Закорючки-то он злодейски выделывает. Савельев не хуже его пишет, да нет, заглавные-то у него все не так выходят.
Почерк Володи бросился в глаза и самому директору департамента.
– Ба! да кто это так хорошо пишет! точно жемчугом написано: красиво и четко! кто это? – спросил директор у Матвея Егорыча.
Правый глаз у Матвея Егорыча подернулся.
– Сынишка мой, ваше превосходительство, которого вы изволили недавно определить, – отвечал он.
– Прекрасная рука! А где воспитывался?
– В гимназии, ваше превосходительство.
– Пусть он переписывает только министерские бумаги. Слышите, Матвей Егорыч?











![Книга [Нечаянно] автора Лев Толстой](/books_files/covers/thumbs_100/nechayanno-28965.jpg)





























