Читать книгу "Отцы и дети"
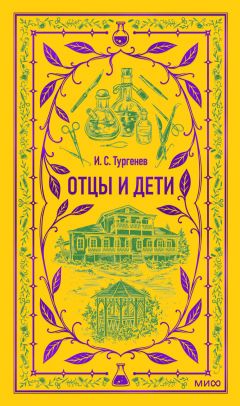
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
VIII
В ту зиму двор посетил Москву. Одни празднества сменялись другими; наступил черед и обычному большому балу в Дворянском собрании. Весть об этом бале, правда в виде объявления в «Полицейских ведомостях», дошла и до домика на Собачьей площадке. Князь всполошился первый; он тотчас решил, что надо непременно ехать и везти Ирину, что непростительно упускать случай видеть своих государей, что для столбовых дворян в этом заключается даже своего рода обязанность. Он настаивал на своем мнении с особенным, вовсе ему не свойственным жаром; княгиня до некоторой степени соглашалась с ним и только вздыхала об издержках; но решительное сопротивление оказала Ирина. «Не нужно, не поеду», – отвечала она на все родительские доводы. Ее упорство приняло такие размеры, что старый князь решился наконец попросить Литвинова постараться уговорить ее, представив ей, в числе других «резонов», что молодой девушке неприлично дичиться света, что следует «и это испытать», что уж и так ее никто нигде не видит. Литвинов взялся представить ей эти «резоны». Ирина пристально и внимательно посмотрела на него, так пристально и так внимательно, что он смутился, и, поиграв концами своего пояса, спокойно промолвила:
– Вы этого желаете? вы?
– Да… я полагаю, – отвечал с запинкой Литвинов. – Я согласен с вашим батюшкой… Да и почему вам не поехать… людей посмотреть и себя показать, – прибавил он с коротким смехом.
– Себя показать, – медленно повторила она. – Ну, хорошо, я поеду… Только помните, вы сами этого желали.
– То есть, я… – начал было Литвинов.
– Вы сами этого желали, – перебила она. – И вот еще одно условие: вы должны мне обещать, что вас на этом бале не будет.
– Но отчего же?
– Мне так хочется.
Литвинов расставил руки.
– Покоряюсь… но, признаюсь, мне было бы так весело видеть вас во всем великолепии, быть свидетелем того впечатления, которое вы непременно произведете… Как бы я гордился вами! – прибавил он со вздохом.
Ирина усмехнулась.
– Все это великолепие будет состоять в белом платье, а что до впечатления… Ну, словом, я так хочу.
– Ирина, ты как будто сердишься?
Ирина усмехнулась опять.
– О нет! Я не сержусь. Только ты… (Она вперила в него свои глаза, и ему показалось, что он еще иикогда не видал в них такого выражения.) Может быть, это нужно, – прибавила она вполголоса.
– Но, Ирина, ты меня любишь?
– Я люблю тебя, – ответила она с почти торжественною важностью и крепко, по-мужски, пожала ему руку.
Все следующие дни Ирина тщательно занималась своим туалетом, своею прической; накануне бала она чувствовала себя нездоровою, не могла усидеть на месте; всплакнула раза два в одиночку: при Литвинове она как-то однообразно улыбалась… впрочем, обходилась с ним по-прежнему нежно, но рассеянно и то и дело посматривала на себя в зеркало. В самый день бала она была очень молчалива и бледна, но спокойна. Часу в девятом вечера Литвинов пришел посмотреть на нее. Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье, с веткой небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, он так и ахнул: до того она ему показалась прекрасною и величественною, уж точно не по летам. «Да она выросла с утра, – подумал он, – и какая осанка! Что значит, однако, порода!» Ирина стояла перед ним с опущенными руками, не улыбаясь и не жеманясь, и глядела решительно, почти смело, не на него, а куда-то вдаль, прямо перед собою.
– Вы точно сказочная царевна, – промолвил наконец Литвинов, – или нет: вы, как полководец перед сражением, перед победой… Вы не позволили мне ехать на этот бал, – продолжал он, между тем как она по-прежнему не шевелилась и не то чтобы не слушала его, а следила за другою, внутреннею речью, – но вы не откажетесь принять от меня и взять с собою эти цветы?
Он подал ей букет из гелиотропов.
Она быстро взглянула на Литвинова, протянула руки и, внезапно схватив конец ветки, украшавшей ее голову, промолвила:
– Хочешь? Скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома.
У Литвинова сердце так и покатилось. Рука Ирины уже срывала ветку…
– Нет, нет, зачем же? – подхватил он торопливо, в порыве благодарных и великодушных чувств, – я не эгоист, зачем стеснять свободу… когда я знаю, что твое сердце…
– Ну, так не подходите, платье изомнете, – поспешно проговорила она. Литвинов смешался.
– А букет возьмете? – спросил он.
– Конечно: он очень мил, и я очень люблю этот запах. Mersi… Я его сохраню на память…
– Первого вашего выезда, – заметил Литвинов, – первого вашего торжества.
Ирина посмотрела на себя в зеркало через плечо, чуть согнувши стан.
– И будто я в самом деле так хороша? Вы не пристрастны?
Литвинов рассыпался в восторженных похвалах. Но Ирина уже не слушала его и, поднеся букет к лицу, опять глядела куда-то вдаль своими странными, словно потемневшими и расширенными глазами, а поколебленные легким движением воздуха концы тонких лент слегка приподнимались у ней за плечами, словно крылья. Появился князь, завитый, в белом галстуке, черном полинялом фраке и с владимирскою лентой дворянской медали в петлице; за ним вошла княгиня в шелковом платье шинé, старого покроя, и с тою суровою заботливостию, под которою матери стараются скрыть свое волнение, оправила сзади дочь, то есть безо всякой нужды встряхнула складками ее платья. Четвероместный ямской рыдван, запряженный двумя мохнатыми клячами, подполз к крыльцу, скрыпя колесами по сугробам неразметенного снега, и тщедушный лакей в неправдоподобной ливрее выскочил из передней и с некоторою отчаянностью доложил, что карета готова… Благословив на ночь оставшихся детей и облачившись в меховые одежды, князь и княгиня направились к крыльцу; Ирина в жиденьком коротеньком салопчике, – уж как же ненавидела она этот салопчик! – молча последовала за ними. Провожавший их Литвинов надеялся получить прощальный взгляд от Ирины, но она села в карету, не оборачивая головы.
Около полуночи он прошелся под окнами собрания. Бесчисленные огни громадных люстр сквозили светлыми точками из-за красных занавесей, и по всей площади, заставленной экипажами, нахальным, праздничным вызовом разносились звуки штраусовского вальса.
На другой день, часу в первом, Литвиное отправился к Осининым. Он застал дома одного князя, который тотчас же ему объявил, что у Ирины болит голова, что она лежит в постели и не встанет до вечера, что, впрочем, такое расстройство нимало не удивительно после первого бала.
– C’est très naturel, vous savez, dans les jeunes fille[122]122
Это, знаете ли, очень естественно в молодых девушках (франц.).
[Закрыть], – прибавил он по-французски, что несколько поразило Литвинова, который в то же мгновение заметил, что на князе был не шлафрок, как обыкновенно, а сюртук. – И притом, – продолжал Осинин, – как ей было не занемочь после вчерашних происшествий!
– Происшествий? – пробормотал Литвинов.
– Да, да, происшествий, происшествий, de vrais événements[123]123
Подлинных событий (франц.).
[Закрыть]. Вы не можете себе представить, Григорий Михайлович, quel succès elle a eu![124]124
Какой она имела успех! (франц.)
[Закрыть] Весь двор заметил ее! Князь Александр Федорович сказал, что ей место не здесь и что она напоминает ему графиню Девонширскую… ну, вы знаете, ту… известную… А старик граф Блазенкрампф объявил во всеуслышание, что Ирина – la reine du bal[125]125
Царица бала (франц.).
[Закрыть], и пожелал ей представиться; он и мне представился, то есть он мне сказал, что он меня помнит гусаром, и спрашивал, где я теперь служу. Презабавный этот граф, и такой adorateur du beau sexe![126]126
Обожатель прекрасного пола! (франц.)
[Закрыть] Да что я! княгиня моя… и той не давали покоя: Наталья Никитишна сама с ней заговаривала… чего больше? Ирина танцевала avec tous les meilleurs cavaliers[127]127
Со всеми самыми лучшими кавалерами (франц.).
[Закрыть]; уж подводили мне их, подводили… я и счет потерял. Поверите ли: так все и ходят толпами вокруг нас; в мазурке только ее и выбирали. Один иностранный дипломат, узнав, что она москвичка, сказал государю: «Sire, – сказал он, – décidément c’est Moscou qui est le centre de votre empire!»[128]128
Государь, несомненно Москва является центром вашей империи! (франц.)
[Закрыть] – а другой дипломат прибавил: «C’est une vraie révolution, sire», – révélation или révolution[129]129
«Это настоящая революция, государь», – откровение или революция… (франц.)
[Закрыть]… что-то в этом роде. Да… да… это… это… я вам скажу: это было что-то необыкновенное.
– Ну, а сама Ирина Павловна? – спросил Литвинов, у которого во время княжеской речи похолодели ноги и руки, – веселилась, казалась довольна?
– Конечно, веселилась; еще бы ей не быть довольной! А впрочем, вы знаете, ее сразу не разберешь. Все мне говорят вчера: как это удивительно! jamais on ne dirait que mademoiselle votre fi lle est à son premier bal[130]130
Никогда не скажешь, что ваша дочь на первом своем балу (франц.).
[Закрыть]. Граф Рейзенбах, между прочим… да вы его, наверное, знаете…
– Нет, я его вовсе не знаю и не знал никогда.
– Двоюродный брат моей жены…
– Не знаю я его.
– Богач, камергер, в Петербурге живет, в ходу человек, в Лифляндии всем вертит. До сих пор он нами пренебрегал… да ведь я за этим не гонюсь. J’ai l’humeur facile, comme vous savez[131]131
У меня покладистый характер, как вы знаете (франц.).
[Закрыть]. Ну, так вот он подсел к Ирине, побеседовал с ней четверть часа, не более, и говорит потом моей княгине: «Ма соusine, говорит, votre fi lle est une perle; c’est une perfection[132]132
Кузина, ваша дочь – жемчужина; это совершенство (франц.).
[Закрыть]; – все поздравляют меня с такой племянницей…» А потом я гляжу: подошел он к… важной особе и говорит, а сам все посматривает на Ирину… ну, и особа посматривает…
– И так-таки Ирина Павловна целый день не покажется? – опять спросил Литвинов.
– Да; у ней голова очень болит. Она велела вам кланяться и благодарить вас за ваш букет, qu’on a trouvé charmant[133]133
Который нашли очаровательным (франц.).
[Закрыть]. Ей нужно отдохнуть… Княгиня моя поехала с визитами… да и я сам вот…
Князь закашлялся и засеменил ногами, как бы затрудняясь, что еще прибавить. Литвинов взял шляпу, сказал, что не намерен мешать ему и зайдет позже осведомиться о здоровье, и удалился.
В нескольких шагах от осининского дома он увидел остановившуюся перед полицейскою будкой щегольскую двуместную карету. Ливрейный, тоже щегольской лакей, небрежно нагнувшись с козел, расспрашивал будочника из чухонцев, где здесь живет князь Павел Васильевич Осинин. Литвинов заглянул в карету: в ней сидел человек средних лет, геморроидальной комплексии, с сморщенным и надменным лицом, греческим носом и злыми губами, закутанный в соболью шубу, по всем признакам важный сановник.
IХ
Литвинов не сдержал своего обещания зайти попозже; он сообразил, что лучше отложить посещение до следующего дня. Войдя, часов около двенадцати, в слишком знакомую гостиную, он нашел там двух младших княжон, Викториньку и Клеопатриньку. Он поздоровался с ними, потом спросил, легче ли Ирине Павловне и можно ли ее видеть.
– Ириночка уехала с мамасей, – отвечала Викторинька; она хотя и сюсюкала, но была бойчее своей сестры.
– Как… уехала? – повторил Литвинов, и что-то тихо задрожало у него в самой глубине груди. – Разве… разве… разве она об эту пору не занимается с вами, не дает вам уроков?
– Ириночка теперь усь больсе нам уроков давать не будет, – отвечала Викторинька.
– Теперь уж не будет, – повторила за ней Клеопатринька.
– А папа ваш дома? – спросил Литвинов.
– И папаси нет дома, – продолжала Викторинька, – а Ириночка нездорова: она всю ночь плакала, плакала…
– Плакала?
– Да, плакала… Мне Егоровна сказала, и глаза у ней такие красные, так они и распухли…
Литвинов прошелся раза два по комнате, чуть-чуть вздрагивая, словно от холода, и возвратился к себе на квартиру. Он испытывал ощущение, подобное тому, которое овладевает человеком, когда он смотрит с высокой башни вниз: вся внутренность его замирала и голова кружилась тихо и приторно. Тупое недоумение и мышья беготня мыслей, неясный ужас и немота ожидания, и любопытство, странное, почти злорадное, в сдавленном горле горечь непролитых слез, на губах усилие пустой усмешки, и мольба, бессмысленная… ни к кому не обращенная… о, как это все было жестоко и унизительно безобразно! «Ирина не хочет меня видеть, – беспрестанно вертелось у него в голове, – это ясно; но почему же? Что такое могло произойти на этом злополучном бале? И как же возможна вдруг такая перемена? Так внезапно… (Люди беспрестанно видят, что смерть приходит внезапно, но привыкнуть к ее внезапности никак не могут и находят ее бессмысленною.) Ничего мне не велеть сказать, не хотеть объясниться со мною…»
– Григорий Михайлыч, – произнес чей-то напряженный голос над самым его ухом.
Литвинов встрепенулся и увидал перед собою своего человека с запиской в руках. Он узнал почерк Ирины… Еще не распечатав записки, он уже предчувствовал беду и склонил голову на грудь и поднял плечи, как бы хоронясь от удара.
Он собрался наконец с духом и разом разорвал куверт. На небольшом листке почтовой бумаги стояли следующие слова:
«Простите меня, Григорий Михайлыч. Все кончено между нами: я переезжаю в Петербург. Мне ужасно тяжело, но дело сделано. Видно, моя судьба… да нет, я не хочу оправдываться… Предчувствия мои сбылись. Простите меня, забудьте меня: я не стою вас.
Ирина»
«Будьте великодушны: не старайтесь меня увидеть».
Литвинов прочел эти пять строк и медленно опустился на диван, словно кто пихнул его в грудь. Он выронил записку, поднял ее, прочел снова, шепнул: «В Петербург», снова ее выронил, и только. На него нашла даже тишина; он даже своими закинутыми назад руками поправил подушку под головой. «Убитые насмерть не мечутся, – подумал он, – как налетело, так и улетело… Все это естественно; я всегда этого ожидал… (Он лгал перед самим собою: он никогда ничего подобного не ожидал.) Плакала?.. Она плакала?.. О чем же она плакала? Ведь она не любила меня! Впрочем, все это понятно и согласно с ее характером. Она, она меня не стоит… Вот как! (Он горько усмехнулся.) Она сама не знала, какая в ней таилась сила, ну, а убедившись в ее действии на бале, как же ей было остановиться на ничтожном студенте… Все это понятно».
Но тут он вспомнил ее нежные слова, ее улыбки и эти глаза, незабвенные глаза, которых он никогда не увидит, которые и светлели и таяли при одной встрече с его глазами; он вспомнил еще одно быстрое, робкое, жгучее лобзание – и он вдруг зарыдал, зарыдал судорожно, бешено, ядовито, перевернулся ниц и, захлебываясь и задыхаясь, с неистовым наслаждением, как бы жаждая растерзать и самого себя, и все вокруг себя, забил свое воспаленное лицо в подушку дивана, укусил ее.
Увы! тот господин, кого Литвинов видел накануне в карете, был именно двоюродный брат княгини Осининой, богач и камергер, граф Рейзенбах. Заметив впечатление, произведенное Ириной на высокопоставленные лица и мгновенно сообразив, какие «mit etwas Accuratessе»[134]134
При некоторой ловкости (нем.).
[Закрыть] из этого факта можно извлечь выгоды, граф, как человек энергический и умеющий прислушиваться, тотчас составил свой план. Он решился действовать быстро, по-наполеоновски. «Возьму эту оригинальную девушку к себе в дом, – так размышлял он, – в Петербург; сделаю ее своею, черт возьми, наследницей, ну хоть не всего имения; кстати ж, у меня нет детей, она же мне племянница, и графиня моя скучает одна… Все же приятней, когда в гостиной хорошенькое личико… Да, да; это так: es ist eine Idee, es its eine Idee»[135]135
Это мысль, это мысль (нем.).
[Закрыть]. Надобно было ослепить, отуманить, поразить родителей. «Им же есть нечего, – продолжал граф свои размышления, уже сидя в карете и направляясь к Собачьей площадке, – так небось упрямиться не станут. Не такие же уж они чувствительные. Можно и сумму денег дать. А она? И она согласится. Мед сладок… она его вчера лизнула. Это мой каприз, положим; пускай же они им воспользуются… дураки. Я им скажу: так и так; решайтесь. А не то я возьму другую; сироту – еще удобнее. Да или нет, двадцать четыре часа сроку, und damit Punctum»[136]136
И на этом точка (нем.).
[Закрыть].
С этими самыми словами на губах предстал граф перед князем, которого уже накануне, на бале, предварил о своем посещении. О последствиях же этого посещения, кажется, много распространяться не стоит. Граф не ошибся в своих расчетах: князь и княгиня действительно не упрямились и взяли сумму денег, и Ирина действительно согласилась, не дав истечь назначенному сроку. Нелегко ей было разорвать связь с Литвиновым; она его любила и, пославши ему записку, чуть не слегла в постель, беспрестанно плакала, похудела, пожелтела… Но со всем тем, месяц спустя, княгиня отвезла ее в Петербург и поселила у графа, поручив ее попечениям графини, женщины очень доброй, но с умом цыпленка и с наружностью цыпленка.
А Литвинов бросил тогда университет и уехал к отцу в деревню. Мало-помалу его рана зажила. Сперва он никаких сведений не имел об Ирине, да он и избегал разговоров о Петербурге и петербургском обществе. Потом понемногу начали бродить на ее счет слухи, не дурные, но странные; молва занялась ею. Имя княжны Осининой, окруженное блеском, отмеченное особенною печатью, стало чаще и чаще упоминаться даже в губернских кружках. Оно произносилось с любопытством, с уважением, с завистью, как произносилось некогда имя графини Воротынской. Наконец распространилась весть об ее замужестве. Но Литвинов едва обратил внимание на эту последнюю новинку: он был уже женихом Татьяны.
Теперь читателю, вероятно, понятно стало, что именно вспомнилось Литвинову, когда он воскликнул: «Неужели!» – а потому мы снова вернемся в Баден и снова примемся за нить прерванного нами рассказа.
Х
Литвинов заснул очень поздно и спал недолго: солнце только что встало, когда он поднялся с постели. Видные из его окон вершины темных гор влажно багровели на ясном небе. «Как там, должно быть, свежо под деревьями!» – подумалось ему, и он поспешно оделся, рассеянно глянул на букет, еще пышнее распустившийся за ночь, взял палку и отправился за «Старый замок», на известные «Скалы». Утро обхватило его своею сильною и тихою лаской. Бодро дышал он, бодро двигался; здоровье молодости играло в каждой его жилке; сама земля словно подбрасывала его легкие ноги. С каждым шагом ему становилось все привольней, все веселей: он шел в росистой тени, по крупному песку дорожек, вдоль елок, по всем концам ветвей окаймленных яркою зеленью весенних отпрысков. «Эко славно как!» – то и дело твердил он про себя. Вдруг послышались ему знакомые голоса: он глянул вперед и увидел Ворошилова и Бамбаева, шедших к нему навстречу. Его так и покоробило: как школьник от учителя, бросился он в сторону и спрятался за куст… «Создатель! – взмолился он, – пронеси соотчичей!» Кажется, никаких бы денег в это мгновенье не пожалел он, лишь бы они его не увидали… И они действительно не увидали его: создатель пронес соотчичей мимо. Ворошилов своим кадетски-довольным голосом толковал Бамбаеву о различных «фазисах» готической архитектуры, а Бамбаев только подмычивал одобрительно; заметно было, что Ворошилов уже давно пробирает его своими фазисами, и добродушный энтузиаст начинал скучать. Долго, закусив губу и вытянув шею, прислушивался Литвинов к удалявшимся шагам; долго звучали то гортанные, то носовые переливы наставительной речи; наконец все затихло. Литвинов вздохнул, вышел из своей засады и отправился далее.
Часа три пробродил он по горам. Он то покидал дорожку и перепрыгивал с камня на камень, изредка скользя по гладкому мху; то садился на обломок скалы под дубом или буком и думал приятные думы под немолчное шептание ручейков, заросших папоротником, под успокоительный шелест листьев, под звонкую песенку одинокого черного дрозда; легкая, тоже приятная дремота подкрадывалась к нему, словно обнимала его сзади, и он засыпал… Но вдруг улыбался и оглядывался: золото и зелень леса, лесного воздуха били мягко ему в глаза – и он снова улыбался и снова закрывал их. Ему захотелось позавтракать, и он направился к Старому замку, где за несколько крейцеров можно получить стакан хорошего молока с кофеем. Но не успел он поместиться за одним из белых крашеных столиков, находящихся на платформе перед замком, как послышался тяжелый храп лошадей и появились три коляски, из которых высыпало довольно многочисленное общество дам и кавалеров… Литвинов тотчас признал их за русских, хотя они все говорили по-французски… потому что они говорили по-французски. Туалеты дам отличались изысканным щегольством; на кавалерах были сюртуки с иголочки, но в обтяжку и с перехватом, что не совсем обыкновенно в наше время, панталоны серые с искоркой и городские, очень глянцевитые шляпы. Низенький черный галстук туго стягивал шею каждого из этих кавалеров, и во всей их осанке сквозило нечто воинственное. Действительно, они были военные люди; Литвинов попал на пикник молодых генералов, особ высшего общества и с значительным весом. Значительность их сказывалась во всем: в их сдержанной развязности, в миловидно-величавых улыбках, в напряженной рассеянности взгляда, в изнеженном подергивании плеч, покачивании стана и сгибании колен; она сказывалась в самом звуке голоса, как бы любезно и гадливо благодарящего подчиненную толпу. Все эти воины были превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь каким-то истинно дворянским и гвардейским запахом, смесью отличнейшего сигарного дыма и удивительнейшего пачули. И руки у всех были дворянские, белые, большие, с крепкими, как слоновая кость, ногтями; у всех усы так и лоснились, зубы сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцем на щеках, лазурью на подбородке. Иные из молодых генералов были игривы, другие задумчивы; но печать отменного приличия лежала на всех. Каждый, казалось, глубоко сознавал собственное достоинство, важностъ своей будущей роли в государстве и держал себя и строго и вольно, с легким оттенком той резвости, того «черт меня побери», которые так естественно появляются во время заграничных поездок. Рассевшись шумно и пышно, общество позвало засуетившихся кельнеров. Литвинов поторопился допить стакан молока, расплатился и, нахлобучив шляпу, уже проскользнул было мимо генеральского пикника.
– Григорий Михайлыч, – проговорил женский голос, – вы не узнаете меня?
Он невольно остановился. Этот голос… Этот голос слишком часто в былое время заставлял биться его сердце… Он обернулся и увидал Ирину.
Она сидела у стола и, скрестив руки на спинке отодвинутого стула, склонив голову набок и улыбаясь, приветливо, почти радостно глядела на него.
Литвинов тотчас ее узнал, хотя она успела измениться с тех пор, как он видел ее в последний раз, десять лет тому назад, хотя она из девушки превратилась в женщину.
Ее тонкий стан развился и расцвел, очертания некогда сжатых плеч напоминали теперь богинь, выступающих на потолках старинных итальянских дворцов. Но глаза остались те же, и Литвинову показалось, что они глядели на него так же, как и тогда, в том небольшом московском домике.
– Ирина Павловна… – проговорил он нерешительно.
– Вы узнали меня? Как я рада! как я… (Она остановилась, слегка покраснела и выпрямилась.) Это очень приятная встреча, – продолжала она уже по-французски. Позвольте познакомить вас с моим мужем. Vаlériеn, мсье Литвинов, un ami d’enfance[137]137
Друг детства (франц.).
[Закрыть]; Валериан Владимирович Ратмиров, мой муж.
Один из молодых генералов, едва ли не самый изящный изо всех, привстал со стула и чрезвычайно вежливо раскланялся с Литвиновым, между тем как остальные его товарищи чуть-чуть насупились или не столько насупились, сколько углубились на миг каждый в самого себя, как бы заранее протестуя против всякого сближения с посторонним штатским, а другие дамы, участвовавшие в пикнике, сочли за нужное и прищуриться немного, и усмехнуться, и даже изобразить недоумение на лицах.
– Вы… вы давно в Бадене? – спросил генерал Ратмиров, как-то не по-русски охорашиваясь и, очевидно, не зная, о чем беседовать с другом детства жены.
– Недавно, – отвечал Литвинов.
– И долго намерены остаться? – продолжал учтивый генерал.
– Я еще не решил.
– А! Это очень приятно… очень.
Генерал умолк. Литвинов тоже безмолвствовал. Оба держали шляпы в руках и, нагнув вперед туловище и осклабясь, глядели друг другу в брови.
– «Deux gendarmes un beau dimanche»[138]138
Два жандарма в воскресенье (франц.).
[Закрыть], – запел, разумеется, фальшиво, – не фальшиво поющий русский дворянин доселе нам не попадался, – подслеповатый и желтоватый генерал с выражением постоянного раздражения на лице, точно он сам себе не мог простить свою наружность. Среди всех своих товарищей он один не походил на розу.
– Да что же вы не сядете, Григорий Михайлыч, – промолвила наконец Ирина.
Литвинов повиновался, сел.
– I say, Valerien, give me some fire[139]139
Я говорю, Валерьян, дайте мне огня (англ.).
[Закрыть], – проговорил другой генерал, тоже молодой, но уже тучный, с неподвижными, словно в воздух уставленными глазами и густыми шелковистыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы. Ратмиров подал ему серебряную коробочку со спичками.
– Avez-vous des papiros?[140]140
Нет ли у вас папирос? (франц.)
[Закрыть] – спросила, картавя, одна из дам.
– De vrais papelitos, comtesse[141]141
Настоящие папироски, графиня (франц.).
[Закрыть].
– «Deux gendarmes un beau dimanche», – чуть не со скрипом зубов затянул опять подслеповатый генерал.
– Вы должны непременно посетить нас, – говорила между тем Литвинову Ирина. – Мы живем в Hôtel de l’Europe. От четырех до шести я всегда дома. Мы с вами так давно не видались.
Литвинов глянул на Ирину, она не опустила глаз.
– Да, Ирина Павловна, давно. С Москвы.
– С Москвы, с Москвы, – повторила она с расстановкой. – Приходите, мы потолкуем, старину вспомянем. А знаете ли, Григорий Михайлыч, вы не много переменились.
– В самом деле? А вы вот переменились, Ирина Павловна.
– Я постарела.
– Нет. Я не то хотел сказать…
– Irène? – вопросительно промолвила одна из дам с желтою шляпкой на желтых волосах, предварительно нашептавшись и похихикавши с сидевшим возле нее кавалером. Irène?
– Я постарела, – продолжала Ирина, не отвечая даме, – но я не переменилась. Нет, нет, я ни в чем не переменилась.
– «Deux gendarmes un beau dimanche!» – раздалось опять. Раздражительный генерал помнил только первый стих известной песенки.
– Все еще покалывает, ваше сиятельство, – громко и на о проговорил тучный генерал с бакенбардами, вероятно намекая на какую-нибудь забавную, всему бомонду известную историю, и, засмеявшись коротким деревянным смехом, опять уставился в воздух. Все остальное общество также засмеялось.
– What a sad dog you are, Boris![142]142
Какой вы шутник, Борис! (англ.)
[Закрыть] – заметил вполголоса Ратмиров. Он самое имя «Борис» произнес на английский лад.
– Irène? – в третий раз спросила дама в желтой шляпке. Ирина быстро обернулась к ней.
– Eh bien, quoi? Que me voulez-vous?[143]143
Ну что? Чего вы от меня хотите? (франц.)
[Закрыть]
– Je vous le dirai plus tard[144]144
Я скажу вам это позднее (франц.).
[Закрыть], – жеманно отвечала дама. При весьма непривлекательной наружности она постоянно жеманилась и кривлялась; какой-то остряк сказал про нее, что она «minaudait dans le vide» – «кривлялась в пустом пространстве».
Ирина нахмурилась и нетерпеливо пожала плечом.
– Mais que fait donc monsieur Verdier? Pourquoi ne vient-il pas?[145]145
Но что ж делает господин Вердье? Почему он не идет? (франц.)
[Закрыть] – воскликнула одна дама с теми для французского слуха нестерпимыми протяжными ударениями, которые составляют особенность великороссийского выговора.
– Ах, вуй, ах, вуй, мсье Вердие, мсье Вердие, – простонала другая, родом прямо уже из Арзамаса.
– Tranquillisez-vous, mesdames, – вмешался Ратмиров, – monsieur Verdier m’a promis de venir se mettre à vos pieds[146]146
Успокойтесь, сударыни, господин Вердье обещал мне быть у ваших ног (франц.).
[Закрыть].
– Хи, хи, хи! – Дамы заиграли веером.
Кельнер принес несколько стаканов пива.
– Байриш бир?[147]147
Баварское пиво? (нем.)
[Закрыть] – спросил генерал с бакенбардами, нарочно бася и притворяясь изумленным. – Гутен морген.
– А что? Граф Павел все еще там? – холодно и вяло спросил один молодой генерал другого.
– Там, – также холодно отвечал тот. – Mais c’est provisoire[148]148
Но это временно (франц.).
[Закрыть]. Serge, говорят, на его место.
– Эге! – процедил первый сквозь зубы.
– Н-да, – процедил и второй.
– Я не могу понять, – заговорил генерал, напевавший песенку, – я не могу понять, что за охота была Полю оправдываться, приводить разные там причины… Ну, он поприжал купца, il lui a fait rendre gorge… ну, и что ж такое? У него могли быть свои соображения.
– Он боялся… обличения в журналах, – пробурчал кто-то.
Раздражительный генерал вспыхнул.
– Ну, уж это последнее дело! Журналы! Обличение! Если б это от меня зависело, я бы в этих в ваших журналах только и позволил печатать, что таксы на мясо или на хлеб да объявления о продаже шуб да сапогов.
– Да дворянских имений с аукциона, – ввернул Ратмиров.
– Пожалуй, при теперешних обстоятельствах… Однако что за разговор в Бадене, au Vieux Château![149]149
В Старом замке!.. (франц.)
[Закрыть]…
– Mais pas du tout! pas du tout! – залепетала дама в желтой шляпе. – J’adore les questions politiques[150]150
Но совсем нет! совсем нет! <…> Я обожаю политические вопросы (франц.).
[Закрыть].
– Madame a raison[151]151
Сударыня права (франц.).
[Закрыть], – вмешался другой генерал, с чрезвычайно приятным и как бы девическим лицом. – Зачем нам избегать этих вопросов… даже в Бадене? – Он при этих словах учтиво взглянул на Литвинова и снисходительно улыбнулся. – Порядочный человек нигде и ни в каком случае не должен отступаться от своих убеждений. Не правда ли?
– Конечно, – отвечал раздражительный генерал, также взбрасывая глазами на Литвинова и как бы косвенно его распекая, – но я не вижу надобности…
– Нет, нет, – с прежнею мягкостью перебил снисходительный генерал. – Вот наш приятель, Валериан Владимирович, упомянул о продаже дворянских имений. Что ж? Разве это не факт?
– Да их и продать теперь невозможно; никому они не нужны! – воскликнул раздражительный генерал.
– Может быть… может быть. Потому-то и надо заявлять этот факт… этот грустный факт на каждом шагу. Мы разорены – прекрасно; мы унижены – об этом спорить нельзя; но мы, крупные владельцы, мы все-таки представляем начало… un principe[152]152
Принцип (франц.).
[Закрыть]. Поддерживать этот принцип – наш долг. Рardon, madame, вы, кажется, платок уронили. Когда некоторое, так сказать, омрачение овладевает даже высшими умами, мы должны указывать – с покорностью указывать (генерал протянул палец), – указывать перстом гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны предостерегать; мы должны говорить с почтительною твердостию: «Воротитесь, воротитесь назад…» Вот что мы должны говорить.
– Нельзя же, однако, совсем воротиться, – задумчиво заметил Ратмиров.
Снисходительный генерал только осклабился.
– Совсем; совсем назад, mon très cher[153]153
Дражайший (франц.).
[Закрыть]. Чем дальше назад, тем лучше. Генерал опять вежливо взглянул на Литвинова. Тот не вытерпел.
– Уж не до семибоярщины ли нам вернуться, ваше превосходительство?
– А хоть бы и так! Я выражаю свое мнение не обинуясь; надо переделать… да… переделать все сделанное.
– И девятнадцатое февраля?
– И девятнадцатое февраля – насколько это возможно. On est patriote ou on ne l’est pas[154]154
Быть или не быть патриотом (франц.).
[Закрыть]. А воля? – скажут мне. Вы думаете, сладка народу эта воля? Спросите-ка его…
– Попытайтесь, – подхватил Литвинов, – попытайтесь отнять у него эту волю…
– Comment nommez-vous ce monsieur?[155]155
Как вы именуете этого господина? (франц.)
[Закрыть] – шепнул генерал Ратмирову.
– Да о чем вы тут толкуете? – заговорил вдруг тучный генерал, очевидно разыгрывавший в этом обществе роль избалованного ребенка. О журналах все? О щелкоперах? Позвольте, я вам расскажу, какой у меня был анекдот с щелкопером – чудо! Говорят мне: написал на вас un folliculaire[156]156
Газетный писака (франц.).
[Закрыть] пашквиль. Ну я, разумеется, тотчас его под цугундер. Привели голубчика… «Как же это ты так, говорю, друг мой, folliculairе, пашквили пишешь? Аль патриотизм одолел?» – «Одолел», говорит. «Ну, а деньги, говорю, folliculaire, любишь»? – «Люблю», говорит. Тут я ему, милостивые государи мои, дал набалдашник моей палки понюхать. «А это ты любишь, ангел мой?» – «Нет, говорит, этого не люблю». – «Да ты, я говорю, понюхай как следует, руки-то у меня чистые». – «Не люблю», говорит, и полно. «А я, говорю, душа моя, очень это люблю, только не для себя. Понимаешь ты сию аллегорию, сокровище ты мое?» – «Понимаю», говорит. «Так смотри же, вперед будь паинька, а теперь вот тебе целковый-рупь, ступай и благословляй меня денно и нощно». И ушел folliculaire.









































