Текст книги "Буриданы. Сестра и братья"
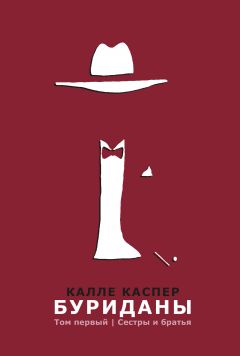
Автор книги: Калле Каспер
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Хофман репатриировался в тридцать девятом в Германию, – сказала Виктория.
– Не в тридцать девятом, а в сороковом. Он был уже стар, не хотел двигаться с места, долго сопротивлялся, но жена настояла, так что со второй волной он все-таки уехал, – уточнил Герман.
– Среди этих бриджистов был еще Сообик, – продолжила Виктория, в которой, кажется, тоже ожили воспоминания.
– Он уехал в сорок четвертом. Я видел его в порту, когда мы провожали Вареса. Что с ним стало потом, я не знаю.
– Сообик в Швеции, – сказал Арнольд. – Я недавно встретил его брата, актера. Его несколько лет не пускали на сцену из-за того, что у него родственник за границей, но теперь, к счастью, все уладилось.
На минуту за столом настала тишина – никто словно не хотел произнести последнее имя.
– Ну да, а что случилось с Шапиро и его семьей, об этом, как говорится, история умалчивает, – буркнул, наконец, сам Герман.
Шапиро не успели эвакуироваться, их бабушка болела, и ее не хотели оставить одну. Немцы отправили всю семью в концлагерь – никто из них не вернулся.
Пытались вспомнить еще друзей Эрвина, но больше ни у кого ни одной идеи не возникло.
– А девушки? – подал голос Эдуард. – Разве у Эрвина не было подружек?
– Эрвин был очень скрытным, – сказала Лидия. – Никогда не рассказывал о своих приключениях.
– Мне казалось, что он предпочитает замужних, – обронила Виктория.
– Скажи лучше – замужние женщины предпочитали его. Малыш был очень романтичным, это нравится дамам.
– Дамам нравился не романтизм его, а интеллект, – возразила Виктория.
– На поселении у него вроде была какая-то русская женщина, которая о нем заботилась, – вспомнил Арнольд.
София снова надела слуховой аппарат.
– Эта женщина была намного старше Эрвина, она относилась к нему по-матерински. Мне рассказывал сам Эрвин, он был очень благодарен ей, поскольку без нее не выжил бы. Я могу найти письма Эрвина и, на всякий случай, написать по этому адресу.
– Может, все-таки сообщить в милицию? – засомневалась Лидия.
Виктория решительно выпрямилась.
– Если мы сообщим в милицию, и они найдут Эрвина, то обязательно сунут в психушку. Вы понимаете, что это означает? Он снова попадет к сумасшедшим! Надеюсь, вы не будете отрицать, что даже в нездоровом виде он умнее большинства из тех людей, с которыми мы ежедневно общаемся?
Она огляделась, словно ожидая возражений, но их не последовало.
– Я предлагаю еще немного подождать. Я позвоню Тамаре, попрошу, чтобы она поискала записные книжки Эрвина, может, мы найдем там какой-нибудь адрес иди телефон, который наведет нас на след. И пусть София в самом деле напишет в Славгород, на всякий случай.
Пришла Надя и стала разливать горячий кофе, Герману, правда, показалось, что жена просто разогрела остывший. Снова заговорили на общие темы, Арнольд рассказал про какого-то американского сенатора, который на полном серьезе жаловался, что в Советском Союзе люди получают лучшее образование, чем у них в Штатах. Это услышали вернувшиеся за стол девушки, и Моника попросила Анну показать старшему поколению «Вольнодумца».
– Все вольнодумцы давно в Сибири, – проворчал Герман.
Но оказалось, что девушки имеют в виду английский журнал, в последнем номере которого хвалили Советский Союз за атеизм и материализм, объясняя ими успехи русских в космосе.
Скоро Эдуарду захотелось домой, София не стала уговаривать мужа посидеть еще, наверно, тоже устала. Все поднялись, оделись, Герман и Надя накинули пальто и вышли в сад провожать гостей. Арнольд настоял, чтобы Лидия поехала домой на машине Эдуарда, сам же с Моникой пошел на автобус. Хозяева вернулись в комнату, Надя с Анной стали убирать со стола, на Германа же нашел приступ сентиментальности, он сел за рояль, заиграл мотив арии Филиппа из «Дон Карлоса» и почувствовал, как внезапные слезы потекли по щекам.
Глава пятая
Лидия
Рига как будто пострадала от войны меньше, чем Таллин, Лидии не встретились бросавшиеся в глаза пустыри. Она вспомнила, как приехала в конце сентября сорок четвертого из Ленинграда в Таллин – и не узнала города, от центра в направлении Кадриорга лежали сплошные развалины, в дом, в котором жили Виктория и Арнольд, тоже угодила бомба, хорошо еще, что только одна, в левое крыло здания. Уцелели лишь окраины и более или менее Старый город – словно Сталин специально отдал приказ разбомбить самые фешенебельные кварталы. Конечно, русских можно было понять, на них напали, опустошили их страну, убили миллионы людей, англичанам досталось намного меньше, и все же их авиация разнесла в пух и прах несколько крупных немецких городов; но, и сознавая это, Лидия все равно смотрела на руины с ужасом. Да, современная война была куда более дикой, чем прежние, воевали уже не армия с армией, а народ с народом, к тому же эта война имела еще одно отличительное свойство, она позволяла убивать с большого расстояния, своей жизнью часто вовсе не рискуя. Разве Хиросима не была тому примером?
Сразу пойти искать Эрну было рано, а прогуляться по городу, чтобы скоротать время, у Лидии не хватило сил, обычно она хорошо спала в поезде, лучше, чем дома, да и государственной границы между Эстонией и Латвией уже не существовало, как, следовательно, и надоедливых пограничников, но в соседнем купе оказались пьяницы, которые ночь напролет играли в карты и шумели. Жаловаться проводнице Лидия не хотела, вот и лежала без сна и задремала только незадолго до рассвета.
Город она знала плохо, поскольку до того была в Риге только однажды, кстати, именно вместе с Эрвином, в июле сорокового – счастливый месяц, никогда раньше и никогда позже Лидия не дышала так свободно, как тогда, одна власть была свергнута, а другая еще не успела показать свое истинное лицо. Все три дня небо над городом было безоблачным, а сердце беззаботным, единственное, о чем она жалела, что Густав не смог поехать с ними, ведь на свадебное путешествие у них так и не нашлось времени, Густав весь этот год, как и следующий, был занят выше головы, они почти не видели друг друга, только по ночам, и так случилось, что их первая совместная поездка состоялась только в сорок первом, в эвакуации.
Где-то между вокзалом и центром должна была находиться та самая гостиница, в которой они останавливались с Эрвином, она поискала немного и нашла ее. Мест, конечно, не было, но она показала служебное удостоверение, объяснила, что уедет этим же вечером, и для нее нашли комнату на полдня. Она была просторная и с высоким потолком, Лидия открыла окно, и в номер сразу вторгся шум машин, она вспомнила, как тихо тут было двадцать лет назад – но тогда везде еще было тихо. Открыв сумочку, она достала открытку: «Дорогие тетя Марта и дядя Алекс! Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья и счастья! Эрна.» Пожелание счастливого Нового года! Теперь, задним числом, это было даже жутко читать, ведь год страшнее, чем сорок первый, было трудно вообразить, даже сорок девятый не мог с ним сравниться, хотя именно в том году она, по требованию Густава, сожгла свою записную книжку – да, если бы не эта открытка, сейчас пришлось бы идти в адресный стол, чтобы узнать, где Эрна живет.
Это София в машине на обратном пути от Германа начала вдруг вспоминать о рижских родственниках, кстати, весьма дальних, о дочерях племянника бабушки Каролины, Лидия их никогда не видела. Они тоже были оптантами, но если папа с мамой оптировались в Эстонию, то сын троюродной тетки Гуннар с дочерями – в Латвию. В Петербурге дядя Гуннар работал рисовальщиком на царском монетном дворе, а на новой родине, по утверждению Софии, стал известным художником. Дядя умер в середине тридцатых, одна из его дочерей незадолго до этого вышла замуж за еврея и эмигрировала в Америку, другая же, Эрна, осталась в Риге. Она тоже была художницей, и та самая открытка, которую Лидия держала в руках, и с которой на нее глядели два ангелочка, была ее работой.
Послушав немного Софию, Лидия сразу подумала, а вдруг Эрвин поехал к Эрне, в надежде, что родственница поможет ему «начать новую жизнь»? Правда, когда они вместе ездили в Ригу, Эрвин не предлагал найти Эрну, но разве молодежь умеет ценить кровные связи? Однако, отдыхая в Силла, он, по словам Софии, весьма интересовался родней и просил сестру досконально рассказать, кто есть кто.
Добравшись домой, Лидия немедленно принялась шарить в ящиках, смутно припоминая, что среди бумаг отца была и открытка от Эрны, наконец, она ее действительно нашла, в большом конверте, вместе с парой фотографий и маминым свидетельством о смерти. Сначала она решила, что пойдет завтра на работу и отпросится на вторник, чтобы съездить в Ригу, но потом передумала – к чему медлить? День рождения закончился рано, до ночного рижского поезда было достаточно времени, а начальнику можно было позвонить домой; так она и сделала.
Она посмотрела на часы – стрелки двигались со скоростью улитки. Можно было, конечно, побродить по магазинам, но у Лидии давно пропало на то желание, за все время, прошедшее после смерти Густава, она не купила себе ни одного нового платья. В какой-то степени она о своем внешнем виде, разумеется, заботилась, но обновить гардероб – для чего, для кого? В шкафу висело достаточно одежды, на ее век этого должно было хватить, а мода ее никогда не интересовала.
Она дотянулась до сумочки, достала сигареты и спички, села в кресло, скинула туфли и подобрала ноги под себя. Никакого удовольствия от курения она не получала и вообще не понимала, для чего ей это нужно, но без было еще хуже. Выдув первое большое серое облако дыма, она неожиданно увидела Густава. Муж вышел из ванной в майке, спортивных штанах и старых рваных тапочках, слегка сутулясь – Густав был высокого роста, а тюрьма – не место, где удается сохранять хорошую осанку.
Поспешно, словно пойманный за проказой мальчишка, Лидия погасила сигарету, но муж словно и не заметил ее неловкого движения, подошел ко второму креслу, опустился на него и только после этого вопросительно посмотрел на жену.
«Эрвин пропал!»
Она рассказала Густаву об исчезновении Эрвина, муж слушал внимательно, как ему было свойственно. Вникать в контекст не было нужды, они встречались регулярно, Лидия держала Густава в курсе относительно всех событий, семейных и прочих, не скрывала от него ничего, естественно, и того несчастья, которое произошло с братом.
Вдруг она заметила, что взгляд мужа скользнул по ее правой руке, и покраснела.
«Мне больше ничего не оставалось, последняя зарплата полностью ушла на выплату долгов. Ты же знаешь, это кольцо мне никогда особенно не нравилось.»
Кольцо с рубином Лидии насильно сунула в руку ее дантист, еврейка, которой она осенью сорок первого помогла эвакуироваться. Они встретились случайно в вокзальной суматохе, немцы приближались со страшной скоростью, никто им не препятствовал, уже слышна была канонада. Лидия металась от вагона к вагону, умоляла офицеров, ее не хотели слушать, поезд был набит, в первую очередь, от фашистов полагалось спасти коллектив советских мастеров искусства. В конце концов, некий лейтенант сжалился и пустил их обеих в вагон. По дороге их атаковали немецкие самолеты, поезд остановился, все вышли и спрятались в поле, среди ржи, треск бортовых пулеметов заставлял непроизвольно жаться к земле, в паре метров от нее лежал какой-то русский солдат и тихонько напевал: «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну…» – и вдруг умолк. За это кольцо Лидия в пятницу получила в комиссионке кое-какие деньги, хватило, чтобы отправить немного Паулю, купить торт и цветы для Германа и еще билет в Ригу. И все же она боялась, что Густав, хотя бы вскользь, уголком рта, выразит свое недовольство, как случалось иногда раньше, когда Лидия делала какую-то лишнюю, по мнению мужа, покупку – транжирой она не была, но могла вдруг бессмысленно, как выражался муж, «швырнуть деньги на ветер»; однако сегодня ничего такого не последовало, серые глаза Густава глядели на нее с пониманием, только немного печально. Раньше муж был требовательнее, разлука сделала его более покладистым.
Чтобы сменить тему, Лидия стала рассказывать о последних новостях на работе, в Управлении искусств, о том, как один коллега предложил не пользоваться выражением «свободный стих», а только «верлибр», дабы усыпить бдительность ретроградов. «Понимаешь, их больше всего пугает слово «свобода», они от него буквально шарахаются!» Густав слушал вроде бы столь же внимательно, но только Лидия могла разобрать, что на самом деле мужу нет дела до верлибра, его мучают проблемы посерьезнее: что стало с их народом, всем ли несправедливо депортированным удалось вернуться домой, куда движется государство, в чем сейчас состоит политика партии, готово ли новое руководство полностью смыть с себя пятна сталинизма? Лидия стала рассказывать о недавних событиях, о политике разрядки, которую грозил прервать инцидент с Пауэрсом, но особенно заинтересовать Густава не сумела, муж все это от нее уже слышал, и, к тому же, это были, так сказать, «газетные новости» – того, что на самом деле происходило за кремлевскими стенами, не знал никто. Оживился Густав только тогда, когда Лидия упомянула, что Хрущев в очередной раз отправился в Америку, на сессию ООН. «Наверно, собирается там поставить вопрос о признании Лумумбы», предположила она, и ей показалось, что муж с этим согласен, по крайней мере, его густые брови на секунду приподнялись.
Осталась последняя, самая трудная тема.
«Густав, скажи мне, пожалуйста, что мне делать с Паулем? Я надеялась, что в интернате он изменится к лучшему, но никаких признаков этого пока нет. Правда, ведет он себя с воспитателями нормально, не кичится, но учится через пень-колоду и с остальным тоже все по-прежнему. В пятницу я позвонила директору и спросила, есть ли у них с ним проблемы, и он признался, что Пауль уже попался на выпивке и курении.
Густав сразу помрачнел, его длинные костлявые пальцы вцепились в колени, сильный, волевой подбородок окостенел – почти как в тот раз, когда он узнал про арест Эрвина. Сын был слабостью мужа, он очень переживал, что Пауль «не пошел по его стопам» – хотя, что это должно было означать, Лидия не совсем понимала. Густав в молодости тоже пай-мальчиком не был, не зря он уже в пятнадцать лет оказался за решеткой – точно в возрасте Пауля. Правда, «грехи» мужа были другого рода, политические, но, может, это и неплохо, что Пауль свой тяжелый характер проявляет более ординарным способом?
«А вдруг дело в том, что он не находит такого занятия, которое его увлекло бы? Я подумала, может, подарить ему на день рождение фотоаппарат? Что ты об этом думаешь?»
Первая реакция мужа была как будто неодобрительной – опять ты балуешь парня, добром это не кончится, но потом он вроде смягчился. Понимает, как трудно Паулю без него, подумала Лидия.
На душе осталось последнее – она сама, как она справляется с тяготами жизни, или, вернее, как не справляется, но Лидия не хотела обременять этим мужа, у Буриданов не было привычки жаловаться, кроме Германа, который любил иногда поныть, все остальные стоически несли свой крест. Когда мы однажды опять будем вместе, тогда я выплачусь, подумала Лидия, положу голову тебе на колени и буду плакать, плакать, плакать… Только представила себе и сразу стало легче, и когда Густав встал и размеренным шагом, каким вышел из ванной, туда и вернулся, Лидия даже не вскрикнула.
Она снова взяла открытку, чтобы проверить адрес Эрны, и вдруг почувствовала, что краснеет. Последний взгляд, который Густав бросил на нее перед уходом, был таким, словно он пытался ей что-то сказать, и теперь Лидия поняла, что именно. Когда война закончилась, отец написал Эрне, чтобы сообщить о смерти мамы, но письмо вернулось с отметкой «адресат уехал», и тогда он попросил Густава выяснить, что с родственницей сталось, что муж и сделал: оказалось, что Эрна в сорок четвертом бежала на запад, наверно, к сестре.
Как это у меня вылетело из головы, подумала Лидия потрясенно. Не стоило валить все на то, что вскоре умер и отец, а еще через некоторое время и Густав – нормальные люди таких вещей не забывают. Что со мной происходит, задала она себе вопрос. Я что, сошла с ума?
Одно было понятно – в Риге ей делать нечего. Бросив взгляд на часы, Лидия встала и начала одеваться – можно было еще успеть на дневной таллинский автобус.
Часть вторая
Французская принцесса
начало двадцатого века
Глава первая
Суховей
Когда-то тут, наверно, тоже шумел лес, но сегодня, куда ни смотри, везде волновалась трава, только отдельные дубы, росшие в более высоких местах на курганах, напоминали об исчезнувшем богатстве. Вряд ли в этом опустошении была повинна гроза, скорее все-таки люди; в отместку их теперь уже ничто не защищало от ветра. Но, с другой стороны, – какой простор! Ничего, столь величавого, сколь степь, Алекс раньше не видел: когда взбираешься на вершину холма и оглядываешься, понимаешь, что земля действительно круглая…
– Его превосходительство велел просить!
Наконец-то! Алекс без сожаления отвел взгляд от окна, в которое он последние четверть часа смотрел, чтобы скоротать время, и последовал за слугой. Тому, кажется, спешить в этой жизни было некуда, наверно, он и на свет появился так же неторопливо и неохотно, как сейчас передвигал свое не молодое и не старое и уж подавно не поры зрелости, то бишь полное сил, а лишенное признаков возраста тело: низкорослый, но сутулый, упитанный, но как будто недокормленный, почти без зубов, светлые, усыпанные перхотью волосы пачкают воротник и без того грязной ливреи – подобные свидетельства упадка в этих краях можно было встретить часто, не к северу или востоку от города, где обитали казаки, крепкая порода, а здесь, на западе, где имения были слишком велики, а их владельцы слишком ленивы, теплый климат же благоприятствовал ничегонеделанию. Возможно, социалисты действительно были в чем-то правы, когда требовали более справедливого распределения земли – тут, к примеру, в пыльных и бесплодных деревнях прозябали трудолюбивые переселенцы из Крыма, только и мечтавшие о куске земли, которую можно возделывать…
Они переходили и переходили из комнаты в комнату, но каких-либо перемен вокруг не наблюдалось: всюду одинаково щербатый паркет, потрепанные обои, иногда притулившийся у стены единственный кривобокий стул – если этот дом когда-то видел лучшие времена, то, скорее всего, давным-давно; не разумнее ли было бы с самого начала быть поэкономнее, кому, например, понадобилась эта… как она называлась?.. правильно, анфилада, которой все равно не пользовались, и которая, он мог поспорить, закончится единственным более-менее нормально обставленным помещением, где за массивным письменным столом дымит сигарой хозяин всего этого величественного разложения.
Интуиция его не подвела, кабинет, надо думать, в который они в конце концов пришли, вполне соответствовал его представлениям, даже письменный стол был именно массивным и стоял там, куда он его мысленно поместил, посреди комнаты. Впрочем, мебели было даже меньше, чем Алекс предполагал, по обе стороны стола стояли два вычурных кресла с высокой спинкой – поставь их рядом, сойдут за два трона, а в угол был задвинут большой резной буфет, и это все, в остальном комната была пуста, даже стены голые, ни тебе фотографий предков, ни персидского ковра, все те же драные обои. Отсутствовал и хозяин, в качестве его заместителя в ближайшем кресле лежал жирный белый кот и нагло смотрел в сторону незваного гостя – правда, сигары у него в зубах не было.
– Располагайтесь поудобнее.
Произнеся вызубренную фразу, слуга ушел, больше ничего не объяснив – да и что он мог объяснить. Откуда ему, лакею, знать, когда «его превосходительство» изволит пожертвовать пару минут своего драгоценного времени незнакомому и наверняка неприятному гостю – ибо, начиная с минуты, когда подписан первый вексель без покрытия, все гости становятся неприятными. Что ожидание может продлиться долго, подтвердилось и рекомендацией расположиться поудобнее – но как ей последовать? Сесть в кресло хозяина было неприлично, кот же уступить Алексу свое не торопился, он вообще производил впечатление самой важной в доме персоны, а, возможно, и был таковой, кормили его уж точно лучше, чем слугу.
Сейчас мы укажем тебе твое место, подумал Алекс, подошел решительно к «трону», сказал «Брысь!» и, поймав надменный взгляд кота, замахнулся. Животина напряглась, зарычала, почти как тигр, и обнажила зубы, но бороться за свои права не стала, хватило ума оценить соотношение сил. Когда кот, обиженно свесив хвост, удалился, Алекс смахнул налипшую на облезлую обивку шерсть, сел на теплое еще место и сразу убедился, что «расположиться поудобнее» все равно не удастся, спинка кресла была слишком далеко, чтобы опереться на нее, пришлось бы подвинуться вглубь сиденья, но тогда от пола оторвались бы ноги – короче говоря, это было одно из тех произведений столярного искусства, которые предназначены не для пользования, а чтобы быть выставленными напоказ. Интересно, откуда эти кресла взялись, может, какой-то предок привез из военного похода в Европу, подумал он. Коли так, им должно быть уже весьма немало лет, поскольку в последний раз российская армия столь далеко – до самого Парижа, забиралась добрую сотню лет назад. В блеске той большой победы нежились до сих пор, более поздние войны, правда, немного расширили пределы империи, но настоящей добычи и славы не принесли. Вот если бы удалось завоевать Константинополь…
Раздумья Алекса прервал жалобный скрежет: открылась боковая дверь, и в комнату вошел человек в длинном, до щиколоток, бордовом халате. Первое, что бросалось в глаза, его прямая спина, тем более примечательная, что человек был высокий, намного выше Алекса, и изрядно старше, лет шестидесяти, последнее доказывали редкие седые волосы и такая же… нет, не борода, недельная щетина. Однако, как отметил Алекс озабоченно, гордая осанка плохо сочеталась с прочими деталями внешнего вида, халат был заношен до дыр, у воротника прореха, из-под полы торчали тапочки, выглядевшие так, словно их сунули в бочку с дегтем.
– Добрый день, ваше превосходительство!
«Превосходительство» не ответил, даже не посмотрел в сторону вскочившего Алекса, но не потому, что не считал гостя достойным ответа, казалось, хозяин просто находится не здесь, а где-то далеко, возможно, даже на другом континенте, а по разваливающейся мызе бродит только его тело. Пьян, подумал Алекс, но тотчас же в собственной мысли усомнился – человек не шатался, прошел к письменному столу шагами широкими и ровными. Медленно отодвинул «трон» от стола, сел, притом спина, несмотря на неудобство сиденья осталась прямой, сел и только теперь поднял взгляд. Из овального кажущегося гранитно-крепким черепа в сторону Алекса или, вернее, сквозь него, смотрели два словно с трудом вбитых в кость больших серых глаза. В похмелье, решил Алекс, приметив налившиеся кровью белки глаз, но опять-таки полностью уверен, что угадал, он не был, во взгляде отсутствовала свойственная подобному состоянию злоба. Вернее было сказать, в нем вообще отсутствовало всякое чувство, создавалось впечатление, будто этому человеку совершенно безразлично, что случится сегодня, завтра или послезавтра с ним или с целым миром.
– Располагайтесь поудобнее.
Знакомые уже слова чуть не вызвали у Алекса усмешку, но сказаны они были совсем иначе, не по-лакейски, а по-королевски; еще более сильное впечатление, чем слова, произвел глубокий низкий голос, шедший словно не из горла и даже не из груди, а из живота. Подобный Алекс слышал, когда из любопытства пошел на православное богослужение, только интонации попа были другие, певучие, а из уст этого человека слоги падали, может, и не как рубленые, но все равно четко отделенные друг от друга, словно цокот лошадиных копыт. «Господи, помилуй!» так не поют, но и «Артиллерия, огонь!» тоже не командуют, подумал Алекс, снова осторожно присев на край своего «трона». Скорее, так говорят: «Играю ва-банк!» или «Соперники, к барьеру!».
– Я вас слушаю.
Как всегда в ответственное мгновение, Алекс мобилизовал все свое знание русского языка.
– Ваше превосходительство, меня зовут Буридан, Александр Буридан, я представляю собственную фирму, которая выращивает, покупает и продает семенное зерно. Ранней весной меня навестил некий господин, который представился как Ерин Борис Николаевич. Он утверждал, что работает управляющим имением, и что хозяин велел ему раздобыть семена летней пшеницы. Когда я спросил, как он намерен заплатить, наличными или чеком, он ответил, что в данный момент у хозяина есть некоторые затруднения со свободными финансами, но что он – хозяин, конечно, – предлагает в уплату краткосрочный вексель, который готов погасить, как только урожай будет убран, или наличными, или натурой, то есть семенами, по моему желанию. Должен признаться, что я поступил неосторожно, доверившись этому человеку, в лице которого, как я теперь стал догадываться, имел дело с проходимцем.
Резкое движение руки прервало его речь.
– Позвольте, я посмотрю!
Вексель был наготове во внутреннем кармане пиджака, человек взял бумагу, бросил на нее беглый взгляд и сразу же вернул Алексу.
– Все верно. Это моя подпись. Ерин действительно работал здесь несколько месяцев. Больше не работает. Вырастить зерно не удалось.
Предложения слетали с губ хозяина безлично, словно не ему, а китайскому императору «не удалось вырастить» зерно.
– Почему, ваше превосходительство, если можно спросить?
Только сейчас человек впервые посмотрел на Алекса так, что можно было быть более-менее уверенным, он действительно видит гостя или, по крайней мере, догадывается о его существовании.
– Суховей.
Алекс облегченно вздохнул про себя: ему приходилось иметь дело и с такими негодяями, которые объясняли скверный урожай плохими семенами и отказывались признавать долг. Единственным лекарством от этого был отказ от продажи в кредит, но тогда многие договоры так и остались бы незаключенными…
– Ваше превосходительство, надо было посеять вторично, – сказал он почтительно.
– Надо было, но не посеяли.
Эти слова сопровождались стуком стула – хозяин резко встал, словно ему осточертели как семенное зерно и суховей, так и Алекс, прошел к буфету и открыл резную дверцу.
– Что будете пить, белую водку или коричневую?
– Премного благодарен, ни ту, ни другую.
Это было правило: с партнерами по делу хоть литр, а с должниками ни капельки.
Хозяин больше предлагать не стал, поколебался немножко и захлопнул дверцу, не налив и себе. Нет, он не глуп, просто ему все обрыдло, подумал Алекс, глядя, как помещик медленно возвращается к столу, снова садится на «трон» и закрывает глаза, словно размышляя над тем, что делать дальше. Интересно, спросил он себя, сколько он согласен заплатить, четверть или половину? По правде говоря, он всю сумму долга уже списал, однако это не означало, что он не готов торговаться из-за каждого рубля.
– А можно спросить, откуда такая фамилия – Буридан?
Привычный вопрос, только на сей раз он прозвучал с опозданием, не при знакомстве, а чуть позже. Если должник ищет дорогу к сердцу кредитора, то она проходит не здесь.
– Я родом из Лифляндской губернии, мой прадед был мельником. Когда в наших краях после Манифеста свободы стали давать фамилии, помещик якобы спросил, какую мой прадед предпочитает, Мельдер или Вески. (Ему пришлось перевести оба слова на русский язык; хозяин кивнул, понял, мол[5]5
Мельдер по-эстонски мельник, Вески – мельница.
[Закрыть]). Прадед надолго задумался, помещику надоело ждать, он рассердился и сказал, что тот колеблется, как буриданов осел, так пусть его фамилия и будет Буридан.
Обычно этот рассказ вызывал смех, иногда и удивление, спрашивали, кто такой Буридан и что случилось с его ослом, но сегодняшний собеседник только кивнул опять и снова задумался.
– Ну что ж, господин Буридан, буду с вами откровенен, – сказал он наконец. – Свободных финансов, как вы выразились, у меня в промежутке не образовалось. Вы, конечно, можете объявить себя реквирентом, но, честно признаюсь, ваши шансы вернуть свои деньги минимальны. Поместье в ипотеке, а требования уже сейчас превышают ожидаемую аукционную прибыль. Все, что я могу вам предложить, это именно то, что упомянул и Ерин – плата натурой. Пойдите во двор, оглядитесь, может, что-нибудь понравится.
Алекс кивнул, он не стал объяснять, что, въезжая в мызу, именно так уже и поступил.
– Я видел во дворе двух верховых лошадей…
Он запнулся, поскольку хозяин буквально подскочил.
– Извините, но лошадей я вам отдать не могу. Они принадлежат моей сестре.
Словно рассердившись, что ему приходится отказываться от собственного слова, он встал и опять пошел в угол.
Вот такие они есть, подумал Алекс, глядя, как хозяин вытаскивает из буфета бутылку, жить в долг могут, а платить по долгам – ну что вы! Второе унизительно, первое – нет. Пока его должник наливал себе, он имел время подумать. Проезжая, он слышал слабое кудахтанье из курятника, в загоне рыла землю пара худых свиней… Что ему с этой живностью делать, везти на ростовский базар на продажу? Он поднял взгляд, увидел, что хозяин следит за ним с пустой рюмкой в руке и еле заметной усмешкой на губах и почувствовал, что начинает злиться.
– Возможно, еще что-то в вашем имении принадлежит кому-нибудь другому? – спросил он вежливо.
– Все прочее в вашем распоряжении.
Алекс встал.
– В таком случае, если позволите, я заберу мебель из вашего кабинета.
И скучно, и грустно… Скорее, все-таки грустно, чем скучно – поскольку всегда можно открыть книгу. Хотя кто знает, может, как раз наоборот, скорее скучно, чем грустно – почему иначе рука постоянно тянется к книге? Грустить можно и ничего не делая, вернее, только ничего не делая и можно грустить, ибо наполовину грустить невозможно, грусть должна овладеть тобой целиком, заполнить все жилы, иначе она никакая не грусть, не сладко-больная грусть. Все ведь на самом деле в порядке, родители живы и здоровы, братья тоже, но, несмотря на это, грустно: как будто хочется чего-то, а чего, не поймешь… Хотелось бы желать. Хотелось бы, но смелости не хватает. Желания никуда не ведут, они неисполнимы. Хотя, с другой стороны, разве желание само по себе не важнее всего? Хочешь, значит, живешь – сердце сразу начинает стучать сильнее, кровь поднимается в голову… Сердце и должно громко стучать, громко и неровно, только сердце негодяя никогда не пропускает ударов. А как долго можно жить одними желаниями? До бесконечности? Нет, это немыслимо. И годы проходят – да что там проходят, бегут, скачут, мчатся, летят – пустые бессмысленные годы. Двадцать четыре изнурительно жарких лета и двадцать четыре убийственно ветреных зимы… Все то же солнце, все та же полынь. Только раз в году, весной, зацветут крокусы, тюльпаны и маленькие синие гиацинты, зацветут на пару дней и увянут, никогда не увидишь, чтобы они цвели дольше, неделю, две недели, месяц, год.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































