Текст книги "Буриданы. Сестра и братья"
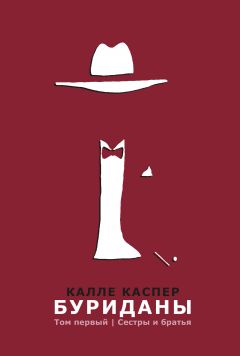
Автор книги: Калле Каспер
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Часть четвертая
Эрвин
год 1960
Глава первая
Майор
Свобода! Никогда раньше Эрвин не ощущал такой головокружительной легкости, как сейчас, когда проснулся от проникшего в купе утреннего света, вслушивался какое-то время в стук вагонных колес, потом поднялся и бросил взгляд в окно, на еще совсем зеленый лиственный лес. Больше полувека его жизнь протекала так, будто не он был хозяином своей судьбы, всегда кто-то другой направлял его шаги и решения. Только кто? Школу для него выбрала мать – а университет? Не поступать в него было никак нельзя, все дороги вели туда, словно в Рим, вымощенные многими прекрасными камнями, такими, как родительские любовь и надежды или его собственные чувства благодарности и долга, только вот в то же время эти камни висели у него на шее, удерживали, препятствовали совершить что-то безумное, ринуться в неизведанное. С наибольшим удовольствием он поехал бы в настоящий Рим, без какой-либо определенной цели, просто, чтобы смотреть, слушать, вкушать и понять. Этого кошелек родителей, увы, не позволял. То есть, может, и позволил бы, отец продал бы еще какой-то участок леса, мать – еще одну драгоценность, Германа ведь отправили в Германию учиться, но Эрвин не осмелился высказать подобное желание, совесть не позволила. Родители были уже немолоды, да и времена другие, надо было экономить, довериться разуму, а не вожделениям. На последнем курсе университета он учился параллельно службе в армии, окончил – и сразу на работу, блуждать в лабиринте Дома суда, не находя из него выхода. Сколь мало оказалось в работе адвоката, как он ранее воображал, благородства, и сколь много – лицемерия, называемого профессиональным долгом. Каждый обвиняемый имеет право на защиту… Неужели каждый? Эрвину приходилось защищать и такого сорта людей, для которых найденные им оправдательные слова служили трамплином к новому преступлению. Строптивость, которую он выказывал по отношению к закоренелым мошенникам, не однажды приводила к брошенному на прощание в его сторону ненавидящему взгляду или даже угрозам. Может, правильнее было постулировать, что каждый человек имеет право на защиту, и лишить этого права тех, которые еще или уже не люди? Но кто должен отличить зерна от плевел? Какой еще критерий, кроме внутреннего чувства, мог подсказать, есть ли у того или другого обвиняемого душа?
Наверно, не стоило считать подлинным ощущением свободы и ту кратковременную эйфорию, которая возникла после крушения государства, как сковывавшей конструкции, в 1940-м году. Полтора месяца более-менее беззаботной жизни, после чего один каркас был заменен на другой, и вся разница, как вскоре стало понятно, заключалась в том, что они попали из маленькой тюрьмы на большую скотобойню. Мясник, как называл хозяина этого заведения Майор, пытался скрыть жесткие черты лица густыми усами; говорили, что лет за десять до того он застрелил собственную жену. Так это было или нет, никто, в том числе и видевший несколько раз Мясника воочью Майор, точно не знал, но, как полагал Эрвин с его интуицией юриста, исключать подобное не стоило – ибо рецидивы были налицо: количество тех, кого Мясник за годы своего пребывания у власти приказал казнить, подсчету не поддавалось. Кроме врагов, то есть людей, методы, которыми осуществлялись коллективизация и индустриализация, действительно в той или иной степени не одобрявших, Мясник уничтожил, или, по крайней мере, отправил в бдительно охраняемые места и многих своих единомышленников. Разделавшись практически с каждым, кто осмелился с ним о чем-то поспорить, скверно отозвался или просто не приветствовал самым почтительным образом, в собственном государстве, он стал посматривать в сторону других стран и народов. Среди прочих ему приглянулась и родина Эрвина – тем более, что когда-то не очень давно эта маленькая страна принадлежала его предшественнику на троне империи, и смене династии не следовало, по его разумению, отрицательно отразиться на территории государства. Вот и выпало на долю Эрвина волнующее приключение – путешествие на поезде в том же направлении, что сейчас, только по куда более длинному маршруту. Сколько захватывающей неизвестности будоражило тогда его и еще тысячу мужчин: куда нас повезут, на север, на восток или на юг – а, может, попросту в ближайший песчаный карьер? У многих в том же поезде, только в другом вагоне, ехали жена и дети, у некоторых даже тещи – но не у Эрвина, и в первый раз в жизни он поблагодарил судьбу за невезение в любовных делах. Большинство его спутников не увидело своих близких больше никогда, или, вернее, их не увидели близкие, поскольку среди них было мало людей, хорошо игравших в шахматы, да и начальники лагерей, шахматы фанатично любившие, тоже попадались отнюдь не на каждом шагу. Добавим еще – справедливости ради – что и такого зятя, как Густав, кроме как у него, ни у кого не было. Однако в поезде они были еще все вместе, государственные чиновники и негоцианты, кайтселийтовцы и вапсы, и один он среди них, как белая ворона, «попутчик», прихвостень новых властей, место которому, по мнению многих, было, скорее, среди конвоиров, а не арестантов. Как он в тот поезд угодил? Это так и осталось невыясненным. Говорили, что Мясник любил комментировать свои небольшие промахи так: «Лес рубят, щепки летят» – наверно, это относилось и к Эрвину, эдакая стройная, спортивного вида щепка. Но тогда, в запертом товарном вагоне, без привычных удобств, он несмотря на негигиеничность обстановки, ощущал и некое странное облегчение: колеса стучали почти так же, как сейчас, пейзаж за зарешеченным окошком все время менялся, одна климатическая полоса переходила в другую, та в третью – разве даже это вынужденное путешествие не было лучше, чем рутинная кабинетная жизнь? По крайней мере, простора вокруг хватало – а разве свобода это не почти то же самое, что простор? Ибо, когда это затянувшее на пять долгих лет путешествие в конце концов завершилось, Эрвин обнаружил себя опять в Доме суда, альтернативой которому служил только его подвал из слоновой кости. И вот теперь ему было за пятьдесят, и он как будто еще вообще не жил!
С полотенцем, перекинутым через плечо, вернулся сосед по купе, очередной майор – очередной, поскольку количество майоров, с которыми судьба сводила Эрвина, все росло и росло: один конвоировал его на вокзал тогда, в 1940-м, другой, с большой буквы, был не только соседом по нарам, но и лучшим другом, третий, обладавший наибольшей в тех условиях властью, перевел подыхающего партнера по шахматам из шахты в библиотеку. Еще один майор устраивал ежемесячные обыски, когда он уже был на поселении, а другой, в Таллине, жонглировал добрых три часа пистолетом в надежде, что Эрвин сломается и выдаст всех известных ему буржуазных националистов. Казалось, что эта страна только из майоров и состоит. Сегодняшний, или, вернее, вчерашний, если считать от начала знакомства, был веселым и разговорчивым, так сказать, майором нового типа, что отличало его от коллег эпохи Мясника, которые (кроме Майора) сперва думали, потом еще раз думали, и только потом говорили, к тому же совсем не то, что сперва сказать собирались. Понюхав войну только в последний момент и то издалека, в противовоздушной обороне, когда кроме как от облаков обороняться было уже не от чего, он живо, можно сказать, почти с каннибалистическим интересом выспрашивал у Эрвина, на каком фронте тот потерял ногу. Ответу «на любовном» майор так и не поверил, посмеялся, погрозил пальцем и сказал, что хорошо знает эстонцев, наверняка Эрвин скрывает от него свою былую службу в рядах немецкой армии. Но время было другое, и вместо того, чтобы помчаться телеграфировать куда надо о подозрительном спутнике, майор вытащил из портфеля бутылку коньяка, и они весь вечер обсуждали международное положение. Невзирая на оптимистический характер или, наоборот, благодаря этому, майор стоял на той точке зрения, что Третью мировую войну осталось ждать недолго, он даже выдал прогноз, когда, с кем и почему она начнется – со США, годика через два, за Берлин. «А как же разрядка?» – спросил Эрвин, ему ответили, что «разрядка заменена зарядкой», и доверили под большим секретом, что Пауэрс был отнюдь не первым нарушителем воздушного пространства СССР, американцы уже давно летают над Каракумами и Сибирью. «А почему их раньше не сбивали?» – спросил Эрвин недоверчиво. «По гуманным соображениям. Американские летчики ведь, в основном, наши союзники. Пролетариат, который империалисты эксплуатируют. Они вынуждены делать эту грязную работу, чтобы кормить семью. Мы бы и Пауэрса пощадили, но ему удалось снять важный полигон». После последнего признания майор, как будто поняв, что сболтнул лишнего, стал вдруг неразговорчив и скоро лег спать, проснулся в дурном настроении и смягчился только тогда, когда Эрвин, надев протез, вытащил из рюкзака бритвенные принадлежности. Схватив со стола жестяную кружку, майор, не обращая внимания на протесты Эрвина, принес ему горячую воду. «Вам же трудно», – оправдывался он, в очередной раз демонстрируя широту души русского народа, способного прощать даже пособников Гитлера. Солнце светило, поездное радио играло, Георг Отс и Виктор Гурьев пели дуэтом, Москва все приближалась, на перронах станций дачных поселков стояли бесформенные бабы в платках, толстых кофтах и резиновых сапогах, держа наготове ведра с яблоками и корзины с грибами, а тут и проводница стала собирать белье и возвращать билеты.
Другого, настоящего, Майора с большой буквы, Эрвин заметил еще до того, как поезд остановился – Майор, как такса, семенил по перрону вдоль вагона, переходя от одного окна к другому. Когда его узкое, с острыми чертами лицо появилось за тем закоптелым стеклом, у которого сидел Эрвин, тот подал другу знак, постучав в окно. Майор остановился, поднял к кепке руку в качестве дополнительного козырька и попытался заглянуть внутрь. Было трудно определить, увидел он Эрвина или нет, и, чтобы не осталось никаких сомнений, Эрвин призвал на помощь лагерный алфавит. «Здорово!» – отстучал он, и Майор, сразу прервав напряженные поиски, засунул руки в карманы светлого плаща и стал спокойно ждать его выхода. Эрвина охватило нетерпение, он встал и встретился взглядом с другим майором, тот, с чемоданом в руке, стоял в дверях купе.
– Вам помочь? – спросил он, внимательно разглядывая Эрвина, словно старался запомнить его приметы: примерно пятидесяти лет, высокого роста, темные с проседью и слегка волнистые волосы, одет в черное драповое палько, белый шелковый шарф и шляпу, в круглых очках, с рюкзаком, левая нога ампутирована выше колена, передвигается на костылях.
– Спасибо, меня встречают!
– В таком случае прощайте, Эрвин Александрович, удачной вам командировки!
– Прощайте!
Неужели и вправду «прощайте»? Не ляжет ли уже через час на стол дежурного в ближайшем отделе КГБ донесение – подозрительный спутник, возможно, бывший немецкий офицер, владеет языком перестука, распространенным среди заключенных?
Майор – настоящий Майор – увидев Эрвина, попытался скрыть потрясение, но, конечно, не сумел. Надо было его предупредить, подумал Эрвин, но как ты напишешь в телеграмме: «Не пугайся, я перешел в разряд одноногих».
– Эрвин, дорогой мой, что с тобой случилось? – Голос Майора был мягкий, певучий, объятие крепкое, и если б он был немного выше ростом, то Эрвин, возможно, на миг прижался бы от умиления щекой к плечу друга – но сейчас все выглядело, скорее, так, словно он утешает Майора.
– Не обращай внимания, я уже привык. И носки теперь легче стирать…
Майор даже не улыбнулся, только вздохнул, и, поняв, что перрон не лучшее место для сбора анамнеза, прервал расспросы. В нем вдруг проснулся военный человек, его голос стал категоричным, он велел Эрвину уступить ему свой «багаж», водрузил рюкзак себе на спину и начал, маневрируя между носильщиками и одновременно защищая Эрвина от них грудью, продвигаться в сторону вокзала.
– Эрвин Александрович, ты вызвал у нас дома изрядную панику, – рассказывал он по дороге, чтобы преодолеть смущение. – Сидели мы вдвоем на кухне и пили чай, Светлана была в театре, Марсельеза Ивановна на собрании профсоюза, как вдруг – звонок в дверь. Длинный и требовательный, весьма похожий на тот, который из меня в тридцать седьмом человека сделал. У Варвары затряслись колени, не могла даже подняться с табуретки, я собрал все свое мужество, пошел в прихожую. Спрашиваю: «Кто там?» Тоненький девичий голосок пищит: «Тут живет Варфоломеев, Анатолий Андреевич?» – «А что?» – «Ему телеграмма.» Представь себе, Эрвин Александрович, точно, как в тот раз! Я же знаю, что сейчас другая эпоха, что мороз, как они говорят, прошел, и с крыш капает, но все равно под сердцем похолодело – ведь и во время оттепели может человеку сосулька на голову свалиться… В конце концов… – он замедлил шаг, приподнялся на цыпочки и продолжил шепотом: – Когда Мясник завладел амбаром, разве мы могли подумать, что вскоре будет опасно говорить про мышей? Конечно, Хряк предпочитает лезгинке гопак, но долго ли хохол может править святой Русью? – После этого пассажа он почувствовал себя увереннее и вернулся к обычному тону. – Спрашиваю дальше, от кого, мол, телеграмма-то? «От Отелло», – пищит девица. «От кого?» – не верю я своим ушам. «От Отелло!» – визжит она уже с полным нетерпением. И вдруг я чувствую, как Варвара хватает меня за локоть – тоже в прихожую заявилась. А глаза у нее горят, как у безумной. «Не открывай, Толик», – умоляет, – «ради бога, не открывай, вот увидишь, это они!» Но я, к счастью, уже все понял, слишком хорошо помнил твой дикий взгляд, когда ты меня душил…
В самом деле, надо было изрядно вжиться в роль, чтобы воспринять в качестве Дездемоны Майора – но откуда, черт побери, в лагере взять женщин, там была одна-единственная, которая могла б подойти для сцены.
– А ты Татарку помнишь? – Майор словно угадал его мысль.
– Любовницу Копии?
Копией они называли политрука лагеря, тот вырастил себе усы а ля Мясник, держал во время поверки правую руку за бортом френча и, наверно, ужасно жалел, что мама не позволила ему в детстве расцарапать гнойнички от ветрянки.
– Недавно мне рассказали жуткую историю, – продолжил Майор. – В том лагере, куда Копию после войны перевели, в пятьдесят третьем произошел мятеж. Четыре дня зоной владели зеки, с Копией ничего не случилось, его удерживали политические, а вот Татарка попала в барак урков…
На привокзальной площади Майор остановился и кивнул в сторону длинной очереди, змеившейся вдоль стоянки такси.
– Думаю, мы можем воспользоваться твоим законным правом…
– Поедем лучше на метро.
– Почему? Чего ты стесняешься? В метро может быть давка.
– А в такси можно случайно разбить костылем стекло.
Если сосед по купе успел организовать за Эрвином слежку, в толпе было больше шансов от нее избавиться. Кстати, давка оказалась не такой и большой, Эрвин немного боялся эскалатора, но Майор подстраховал его спереди, и все прошло успешно, вагон, и тот был не очень полон, им даже удалось сесть рядом, и они впервые с момента встречи посмотрели друг на друга спокойно и с любопытством.
– И сколько же лет мы с тобой, Эрвин Александрович, не виделись?
– Пять.
После освобождения Майор написал Эрвину, как они в лагере договорились, в Таллин, на адрес: «Главпочтамт, до востребования». Радость, что оба живы, была велика, но встретиться удалось только через два года, когда Майор поехал в Ленинград навестить брата, он сообщил об этом Эрвину, и Эрвин, пользуясь тем, что Тамара была с Тимо в деревне у своей матери, тоже отправился в Питер; узнав позднее об этой поездке, Тамара устроила сцену ревности, она предположила, что в Ленинграде у Эрвина есть некая «бывшая невеста».
– Мог бы написать заранее, предупредить. А если я не получил бы телеграмму?
– Ну а если бы письмо было перлюстрировано? Такой опытный зек, и не знаешь, что такое конспирация.
В троллейбусе одна женщина хотела уступить Эрвину место.
– Спасибо, мы на следующей выходим.
Правда, теперь ему приходилось то и дело наклоняться, дабы не пропустить то, что он хотел увидеть. Майор заметил его нетерпение и усмехнулся:
– Не бойся, все на месте.
Мир мал – то ли на втором, то ли на третьем месяце совместной лагерной жизни они обнаружили, что в каком-то смысле соседи. «Где ты в Москве живешь?» – «На Каляевской.» – «Это где?» – «У Садового кольца.» – «Надо же, мы до революции обитали в том же районе.» – «На какой улице?» – «На Долгоруковской.» – «Это и есть нынешняя Каляевская.» – «Вместо князей теперь в почете убийцы.» – «У каждой эпохи свои герои.» Когда Эрвин по поручительству Густава в конце войны смог однажды съездить с поселения в Москву и пошел навещать жену Майора, он разыскал и свой прежний дом и был потрясен, увидев, насколько он похож на те здания, которые Герман проектировал в Таллине. Неужели на нас так сильно влияет детство, подумал он и сейчас, провожая взглядом массивное, напоминающее цитадель шестиэтажное здание до тех пор, пока оно не пропало из виду.
– Пора! – подтолкнул его слегка Майор.
Эрвин выпрямился, поправил костыли и покрепче схватился за поручень.
– Спать будешь в комнате Светланы.
– А сама Светлана?
– Да она все равно больше у бабушки, оттуда ей ближе на работу.
Это, скорее всего, было неправдой, но Эрвин сопротивляться не стал, он устал быть великодушным. Всю жизнь он кому-то что-то уступал, то выгодную работу, то последний билет в кино. Может, и ему немного покататься на спине других, особенно, учитывая, что Светлана еще молода и полна энергии? И, кто знает, возможно, ей даже хочется избавиться на какое-то время от родительского надзора.
Комната была узкая и чистая, обставленная, как положено, для современной девушки, с книжной полкой, кушеткой, письменным столом и граммофоном. Окно заменяла двустворчатая дверь на балкон, перед ней висели длинные тюлевые занавески. Над крышей в солнечном осеннем небе плыли отдельные облака, внизу простирался обширный внутренний двор с каштанами и песочницей.
– Под душ хочешь?
Душ! Это удовольствие Эрвину перепадало нечасто, в подвале из слоновой кости ванной не было. Конечно, он ходил каждую неделю в баню, но каменный пол там был скользкий, и он боялся передвигаться по нему на костылях, садился на скамейку, мылся, потом просил кого-либо потереть ему спину, обливал себя водой из шайки, и все.
– А тебе на работу не надо? – спросил Эрвин, расстегивая пуговицы на рубашке.
Майор махнул рукой.
– А куда мне торопиться, максимум, что может случиться, пропущу начало ядерной войны, вот в таком случае меня действительно могут уволить и даже отдать под трибунал, только мне кажется, что тогда им будет трудно собрать судейскую коллегию.
Он деликатно вышел в коридор, пока Эрвин снимал протез.
– Костыли оставь здесь. Обопрись на мое плечо.
В ванной он свободной рукой отдернул занавеску.
– Берись обеими руками за мою шею. Поехали!
Он подхватил Эрвина, поднял его и аккуратно усадил на доску, перекинутую через ванну.
– Порядок. Заноз тут быть не должно. Это от светланиных саней, чтобы Варваре было удобнее стирать.
Потом, когда Эрвин «откайфовал» свое, Майор помог ему выбраться из ванны.
– Домашняя одежда у тебя с собой?
– Не поместилась, – признался Эрвин смущенно.
Майор принес ему синий хлопчатобумажный халат с подкладкой из ватина.
– Купил в Самарканде. Теперь ты прямо как Ходжа Насреддин.
Они пошли на кухню, чтобы перекусить и выпить чаю.
– Днем, когда Марсельеза Ивановна на работе, можешь тут вольничать, сколько хочешь.
Марсельезе Ивановне было восемнадцать, когда она из провинции перебралась в Москву и, как дочь погибшего красноармейца, была признана достойной получить жилплощадь в столице. По времени это событие совпало с арестом Майора, что и переплело судьбы этих двух людей – юной рыжей комсомольской работнице выделили помещение в трехкомнатной квартире шпиона республики Бургундия. «Раз в жизни мне пришла в голову спасительная идея», – рассказывал Майор в лагере Эрвину. – «То ли после третьего, то ли четвертого допроса я понял, что мне в этой игре оставлено лишь одно право – выбрать страну, в пользу которой я шпионил. Из любви к Дюма я назвал Бургундию. Меня били жутким образом, но я от своих слов так и не отрекся, сказал, что являюсь прямым потомком герцога Артуа, и перечислил им всю свою генеалогию. Они влепили мне пятнадцать лет, но с правом переписки.» Свои познания во французской истории Майор почерпнул не в советской школе, за них он был в долгу перед неким схожим с отцом Эрвина буржуем, чью пустовавшую квартиру родители Майора после революции заняли. Буржуй, убегая, набил карманы бриллиантами, но библиотеку оставил, что особенно ярко демонстрировало его буржуйскую сущность, Майор же к тому времени как раз оказался в лучшем для чтении возрасте. Кстати, его любовь к Дюма отнюдь не была столь естественной, сколь Эрвин подумал сначала, поскольку, как Майор ему рассказал, большевикам этот писатель был не по вкусу, и они вычеркнули его романы из списка чтения, достойного советской молодежи, таким образом, в необычных пристрастиях проявился и протестный дух Майора, который, в итоге, и привел его туда, где они встретились; впрочем, будет ради справедливости сказано, что там оказались и многие верноподданные граждане. В Москве у Майора остались, кроме родителей, молодая жена и малолетняяя дочь, отца и мать он больше не увидел, зато обнаружил по возвращении в своей квартире нового жильца. Марсельеза Ивановна к тому времени успела выйти замуж, развестись и окончательно остервенеть и скорбила по недавно сдохшему Сталину столь же сильно, сколь Майор его ненавидел. Что поделаешь, всех обитателей Советского Союза можно было, по большому счету, поделить на две группы – одни обожали товарища Джугашвили, а другие много бы дали, если бы могли облить его труп бензином и сжечь. Первые благодаря своему кумиру достигли на службе и в быту таких высот, которые в нормальных условиях были бы для них недосягаемы, вторые взирали с разрывавшей сердце болью на разбитые жизни, свою и близких. Идея поместить тех и других под одной крышей и даже в пределах одной квартиры, была дьявольской – но разве Сталин не был Дьяволом?
После перекуса Майор сказал, что «прогуляется на работу», он руководил расположенным в соседнем здании штабом гражданской обороны, Эрвин же прилег на кушетку в комнате Светланы, чтобы передохнуть. От душа он разомлел и некоторое время просто лежал, слушая шум машин, доносящийся с Каляевской-Долгоруковской, потом ему стало скучно, и он вытащил из рюкзака блокнот. Открыв его, он с удовольствием подумал, что мысль пользоваться при записях только согласными – как в иврите, оказалась удачной, теперь даже ему самому было сложно задним числом расшифровывать написанное, каково тогда придется КГБ, если блокнот попадет туда.
«Н пклн бл свдтлм нмсштбнш прмн в стр члвчств.»
«Наше поколение было свидетелем наимасштабнейшей перемены в истории человечества.»
«Н ншх глзх в дн тдлн взт стрн б лквдрвн чстн сбствннст кк тктв.»
«На наших глазах в одной отдельно взятой стране была ликвидирована частная собственность как таковая.»
Он включил бра, устроил голову на подушке поудобнее и стал читать дальше.
«Тсч лт т нрм гржднскг прв рглрвл мщствнн тншн лд. Глвнм дстнствм мжн счтт ввдн нкх тврд првл, кк в брдж. Зн т првл, кжд члвк бл мнн ьщ грт мг дбн стртс в тм мр. Стствнн, тб грзл рзн пстнст, крт мгл н дт, пртнр мг кзтс слбм гркм – тд, н сл т грл ккртн, т з вчр чт з жзн вс рвн вгрвл блш, чм тт кт првл н зн л м прнбргл.»
«Больше двух тысяч лет эта норма регулировала имущественные отношения граждан. Главным ее достоинством можно считать введение неких твердых правил, как в игре в бридж. Зная эти правила, каждый человек, более или менее умеющий играть, мог удобно устроиться в этом мире. Естественно, тебе грозили разные опасности, карта могла не идти, партнер мог оказаться слабым и т. д., но если ты играл аккуратно, то за вечер, читай, за жизнь, все равно выигрывал больше, чем тот, кто правил не знал или ими пренебрегал.»
Он перевернул страницу.
«С другой стороны, частная собственность имела немало минусов, и эксплуатация человека человеком, подчеркнутая Марксом, была среди них еще не самым большим.»
«Намного важнее было то, что «игра» эта не имела альтернативы. Все вынуждены были разыгрывать одну и ту же партию, без малейшего права на выбор – партию, в которой все подчинялось идее экономического успеха. Тебя вовлекали в огромное беличье колесо, выбраться из которого было невозможно, поскольку вне его ты был бы деклассирован, либо просто погиб. Этим бесконечным бегом в колесе заполняли твою единственную жизнь, отнимали твое время, и лишали тебя возможности даже задуматься над своим жалким существованием. Да, частная собственность гарантировала более-менее нормальную экономическую деятельность, но она не удовлетворяла символические потребности человека.»
Последняя мысль была еще сыровата, следовало обязательно уточнить, что он подразумевает под «символическими потребностями». Увы, в блокноте уже почти не оставалось места. Есть ли поблизости магазин канцтоваров? Он вспомнил, что до революции был один по другую сторону Садового кольца, на Малой Дмитровке, рядом с хлебным магазином «лже-Филиппова», Филипповых было два, один «настоящий», а другой – «лже», они отличались только инициалами, какими именно, Эрвин сказать уже не сумел бы, но главное – что хлеб надо покупать обязательно у «настоящего» Филиппова, он не забыл. Интересно, сохранились ли эти магазины?
Он услышал, как открывается дверь, и в прихожую входит Майор, и моментально спрятал блокнот под подушкой.
– Как ты быстро!
– Москва к ядерной атаке американцев готова. Знаешь, китайцы хотели, чтобы мы им тоже дали атомную бомбу, но Хряк показал им кукиш. Он терпеть не может Мао, поскольку тот считает себя единственным подлинным коммунистом, Хряка же после двадцатого сьезда называет ренегатом.
– Что у вас тут вообще происходит? Мавзолей еще на месте?
– На месте. Правда, говорят, что Хряк собирается захоронить Мясника у Кремлевской стены.
– Это было бы большое дело.
– Да, было бы. Так скомпрометировать идею, как это сделал Мясник …
Был один пункт, в котором они с Майором никогда не могли прийти к согласию. Майор ругал самыми страшными словами Сталина, но сразу взъерошивался, когда кто-то осмеливался сказать что-либо плохое о Ленине. Это можно было понять: будучи сыном столяра, он сознавал, что за все, начиная с библиотеки буржуя до Военной академии, в которую успел поступить, он в долгу перед революцией. Правда, на академии его военная карьера и завершилась, даже мечту всех офицеров, войну, он провел в лагере, в прямом смысле слова борясь со вшами – попал в санэпидотряд, что, кстати, скорее всего, спасло ему жизнь – и все равно он был уверен, что, не умри Ленин так рано, все в его жизни, да и в жизни страны, пошло бы по-другому.
Они еще немного поговорили о московских новостях, о рейде Пауэрса, полете в космос Белки и Стрелки и начинающейся ассамблее ООН, а потом Майор спросил:
– А домой ты позвонить не хочешь? Или отправить телеграмму? Тамара, наверно, беспокоится, как ты доехал.
– Мы разошлись, – соврал Эрвин хладнокровно.
– Что ты говоришь?!
– Понятно, с инвалидом нелегко…
Майор сходил в другую комнату и вернулся с бутылкой коньяка и двумя рюмками. Эрвин сразу угадал, что друг собирается приступить к самым болезненным вопросам, и так оно и пошло, после того, как они выпили «за свиданьице», Майор ткнул пальцем в его культю.
– Как это случилось?
– Гангрена.
– Просто так, ни с того, ни с сего?
Эрвин почувствовал искушение рассказать Майору, что его, скорее всего, отравили, но сумел удержаться.
– Сестра говорит, что виноват туберкулез.
Майор вздохнул и снова наполнил рюмки.
– И где ты живешь?
– Пока там же. Мы пробовали разменять квартиру, но не получилось, никто не хочет в подвал.
– На работу ходишь?
– Сейчас не хожу, я передал свое место Тамаре, а сам еще не нашел нового.
– И как ты сводишь концы с концами?
– Получаю пенсию, у меня вторая группа инвалидности.
– Но это же мизер!
– Ну, у меня есть и кое-какие сбережения. Хуже в духовном смысле – сына жалко.
Майор снова вздохнул и поднял рюмку.
– За твое здоровье!
Они выпили, и Майор загорелся.
– Послушай, а в Москву ты перебраться не хочешь? Найдем тебе работу, ты же образованный человек, знаешь римское право, языки…
– Я поработал бы и волейбольным тренером, – подхватил Эрвин. – Сам я уже на площадку выйти, конечно, не могу, но разработал оригинальную тактическую схему…
– Ты все шутишь, а я говорю серьезно. Найдем тебе жену, будет за тобой ухаживать. Знаешь, сколько у нас тут вдов?
– В моем возрасте предпочитают молоденьких.
Майор фыркнул, Эрвин так и не понял, почему, то ли смешно стало, то ли возмутился, что его идеи недооцениваются.
– В любом случае, знай, у нас ты можешь оставаться, сколько захочешь, хоть всю зиму. Идет?
– Спасибо.
Эрвин был от души растроган.
Снова хлопнула дверь – вернулась жена Майора. Эрвин сразу понял, что Майор успел позвонить ей на работу, Варвара старалась не обращать внимания на протез, была чрезвычайно приветлива и сердечна – как, впрочем, всегда. Пообедали, потом пришла с работы Марсельеза Ивановна, и они освободили для нее кухню. Эрвин отправился в комнату Светланы, где Варвара ему уже постелила, лег и читал при свете бра Мопассана, пока не уснул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































