Текст книги "Буриданы. Сестра и братья"
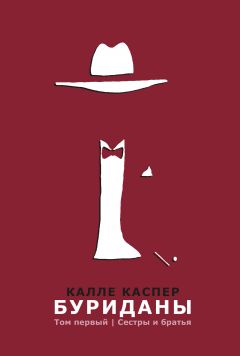
Автор книги: Калле Каспер
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Глава третья
Опасные встречи
Эрвину всегда нравилось просыпаться, ему казалось, что каждое новое утро – это одновременно и новая жизнь, возможность начать все сначала. Все ли? Всего, конечно, уже не начнешь, новой ноги ему никто не приделает, и все-таки, даже такому, искалеченному, утро обещало ему больше, чем вечер, голова была яснее, мысли парили свободно, без преград, искали новые связи и находили их – в то время, как по вечерам на душу ложился груз прошлого, и под его тяжестью слабела воля.
Стук не нес с собой угрозы, он был осторожным и, как будто, даже уважительным. Ручка повернулась, дверь приоткрылась, и появилась лысина Майора.
– Я тебя не разбудил?
– После лагеря я регулярно просыпаюсь в шесть часов, боюсь опоздать на поверку.
И все же Майор сегодня казался серьезнее, чем вчера, был словно чем-то озабочен.
– Нам с Варварой надо на дачу, за огурцами, не то пропустим время засолки и останемся зимой без закуски. Я собирался взять тебя с собой, но это далеко – на автобусе до вокзала, потом на электричке, дальше еще долго пешком, боюсь, для тебя это будет утомительно.
И для вас тоже, если придется через каждые десять метров останавливаться и поджидать инвалида, подумал Эрвин с горечью.
– В самом деле, я лучше останусь дома, – сказал он вслух.
Майор как будто почувствовал облегчение.
– Отдохни, посмотри телевизор. Завтрак на кухонном столе, Марсельеза чуть свет помчалась к своему хахалю, до темноты не вернется, а может, и на ночь останется. Знаешь, кто ее любовник? Директор высоковольтных сетей. Роман продолжается уже несколько лет, и напряжение все растет.
– Лишь бы не ударило, куда не надо.
Майор заблеял от смеха и хотел закрыть дверь, но вдруг вспомнил что-то еще.
– Да, не пугайся, если неожиданно заявится девица в берете – Света сказала, что зайдет переодеться.
Эрвин еще какое-то время полежал, подложив руки под голову, подождал, пока дверь за хозяевами не захлопнулась, потом потянулся за книгой, прочел весьма жуткую новеллу Мопассана и почувствовал голод.
Позавтракав, он решил пройтись к отцовскому дому. Погода была теплее, чем в предыдущие дни, и по дороге ему стало жарко, но затраченные усилия были вознаграждены с лихвой – едва он прошел сквозь арку в длинный, со сложными изгибами двор, как на него нахлынули воспоминания. Вот тут находилась квартира дворника, дальше, в подвале, клуб дома, еще дальше, в последнем корпусе – их квартира. Здание состояло из семи корпусов, итого больше ста квартир, в клубе регулярно проводились лекции и концерты, одного лектора он помнил до сих пор, это был их сосед из третьего подъезда, профессор Московского университета, который очень интересно рассказывал про древний Рим, про императоров и консулов, патрициев и трибунов и, естественно, про римское право – кто знает, может на этих лекциях и возник его интерес к юриспруденции. В детских концертах Эрвину выступать не пришлось, однако, он помнил, как София играла на фортепиано, а Виктория прочла стихотворение: «Мишка, мишка, что за мода, вылезай из-под комода, весь измазался, в пыли….». Герману это, очевидно, тоже врезалось в память, почему иначе, проектируя их таллинский дом, он предусмотрел помещение для клуба…
– Вы кого-то ищете?
Длинная тощая старушенция, несшая авоську с бутылкой молока, остановилась посреди двора и посмотрела на Эрвина.
– Да нет, просто оглядываюсь. Я когда-то жил в этом доме.
– Не припоминаю вас.
– Это было давно.
– Во времена кооператива, что ли?
– Именно.
– Значит, вы из бывших?
Старушенция попала в точку – Эрвин и сам чувствовал, что он «из бывших» и никак не подходит к окружающему его миру.
– Можно и так сказать.
– То-то я смотрю, что вы странно одеты – и пальто, и шляпа, и даже шелковый шарф. Нынче такое не носят. Да и акцент легкий у вас – может, вы иностранец?
Это стало уже напоминать допрос.
– Нет, что вы, я нормальный советский гражданин, только из Эстонии.
– Что вы говорите! А знаете, я была в ваших краях, отдыхала в Пярну. Только это тоже было давно, еще в николаевское время. До сих пор помню, как утром приходил молочник и оставлял бутылки в подъезде рядом с дверью. И, представьте, ни одна не пропала!
А что если Эрвин знал эту женщину? Кто она, актриса Богданова из четвертого корпуса, или красавица Дарья Павлова из шестого, которую по воскресеньям катал на машине некий князь?
– А вы давно здесь живете? Буриданов не помните из последнего подъезда?
– Да нет, я совсем недавно переехала в этот дом…
Старушенция вдруг заспешила, не простившись, повернулась к Эрвину спиной и засеменила к углу следующего корпуса.
Почему она испугалась, неужели у нее есть, что скрывать, подумал Эрвин, но тут же понял – пошла сообщать о нем! Вот дурак, даже выдал ей свою фамилию – однако, старушенция действовала ловко, усыпила его бдительность рассказами о Пярну и о молоке. Чего ради ей отдыхать в каком-то Пярну, богатые москвичи проводили лето в Ницце, или, в худшем случае, в Крыму.
Он повернулся и, резко отталкиваясь костылями, заспешил обратно. К счастью, было воскресенье, так что раньше завтрашнего утра донесение на стол ее начальника ляжет вряд ли – и где они его тогда найдут? Но сюда, к родительскому дому, больше приходить нельзя, могут выставить наблюдение.
– Дядя Эрвин!
Возглас отвлек его от невеселых мыслей недалеко от дома Майора. Двое юношей, оживленно болтая, шли ему навстречу, один вдруг остановился и обратился к нему по-эстонски – здесь, в Москве! Голос был знакомый, и, когда Эрвин вернулся к реальности, он узнал юношу. Стрижка ежиком стояла дыбом на плоской, напоминавшей брюкву голове, большой нос, как у бабушки, то бишь, у матери Эрвина, два серьезных и честных, возможно, даже слишком честных, почти простодушных глаза и довольно, правда, массивный, но мягких очертаний, безвольный подбородок дополняли портрет; пока у молодого человека все получалось практически без усилий, школа, университет, аспирантура – а вот когда диссертация будет защищена, и начнется самостоятельная жизнь, когда на работе его вплетут в интриги начальников и подчиненных, а если и жена попадется такая, которая крепко надавит каблучком – что тогда с Вальдеком станется?
– Здравствуй, племянник! Я думал, ты в колхозе, убираешь картошку.
– Аспирантов в колхоз не посылают.
– Почему тогда ты не встретил меня на вокзале?
На суде Эрвин такой тактикой, в отличие от многих коллег, не пользовался, даже, когда следователь и прокурор в чем-то ошибались, упускали нечто, имеющее значение, он не нападал на них, солиднее было обратить внимание на оплошность вежливо, это производило лучшее впечатление. Но нападение это лучшая оборона, а сейчас он был вынужден обороняться – если Вальдек догадается, что он в Москве инкогнито, и сообщит Виктории…
– Разве я должен был тебя встретить?
– А что, мама тебе не звонила?
– Нет. Может, не дозвонилась, телефон общежития вечно занят.
Вальдек ничего не знал о его путешествии, но все-таки стал оправдываться, приобрел чуть ли не жалкий вид. Эрвина в его возрасте тоже трудно было назвать эталоном мужественности – может, это природная слабость Буриданов?
– Ладно, не переживай, все в порядке, меня встретил старый лагерный друг. А куда вы идете, в библиотеку?
Это он спросил зря, Вальдек сразу почувствовал себя увереннее.
– Дядя Эрвин, сегодня же воскресенье! Мы идем к Саше слушать джаз.
Эрвин посмотрел на приятеля Вальдека – типичное еврейское лицо, полные губы, кривоватый нос, внимательный ироничный взгляд маленьких карих глаз. Да, это вам не наивная доверчивость Буриданов, а надменная бдительность древнего народа.
– Мы с Сашей вместе учимся в аспирантуре, работаем оба над проблемами кредита.
– А какие тут могут быть проблемы? Кредит, он кредит и есть, главная проблема, от него неотрывная, это как его вернуть, – пошутил Эрвин, перейдя на русский язык.
– Советская экономика ориентирована на экономию, то есть, экономность, что-то начинают производить только тогда, когда наберется достаточно ресурсов. Мы стараемся доказать, что это не целесообразно, психология человека такова, что он работает усердно лишь тогда, когда он в долгах и под угрозой банкротства. Надо изменить кредитную политику в сторону большей либерализации, тогда и экономика оживится, – объяснил Саша.
– А кто кому будет платить проценты?
– Должник банку, естественно.
– Но банк же государственный?
– Ну да.
– Тогда получится, что государство эксплуатирует своих граждан, ведя себя с ними подобно ростовщику?
– Вот в этом и состоит для нас проблема кредита – как найти для него идеологическое обоснование.
– А вы не боитесь, что если вы найдете слишком хорошее обоснование, вас выкинут из комсомола?
– Не боимся, время уже не сталинское.
– У дяди Эрвина печальный опыт, он – адвокат, и когда Эстония вступила в Советский Союз, его арестовали как буржуазный элемент, и он несколько лет просидел в тюрьме, – вмешался Вальдек.
– Сочувствую. Нет ничего глупее, чем преследовать образованных людей, – сказал Саша.
– А в вашей семье никого не репрессировали? – поинтересовался Эрвин.
– Репрессировали, но немного иначе. Мои родители родом из Киева, до войны там жило немало наших родственников, но немцы всех убили.
– Я тоже наполовину немец, – заметил Эрвин. – А Вальдек – на четверть.
Саша покраснел.
– Извините, я хотел сказать – фашисты. Кстати, и среди украинцев хватало негодяев, которые помогали ловить евреев.
– И эстонцы не без вины. У нас тоже были люди, которые работали в концлагерях, кто охранником, а кто и начальником. Возили молодых евреек к общей могиле, приказывали раздеться и стреляли в затылок.
– Может, ты хочешь пойти с нами? – опять вмешался Вальдек. – Мне удалось сегодня купить у одного чеха пластинку Дюка Эллингтона.
Аспирантам разговор явно надоел – именно то, чего добивался Эрвин.
– Спасибо, я предпочитаю оперу.
Только свернув под арку дома Майора, Эрвин осмелился оглянуться – Вальдек и его приятель удалялись быстрым шагом, общаясь так же оживленно, как до встречи с ним, но содержание их болтовни, как показалось Эрвину, изменилось.
Войдя во двор, он уже принял решение. Нельзя терять ни минуты, надо бежать. Саша не понравился Эрвину, он вполне мог по совместительству работать на КГБ, иначе как он осмелился выбрать для диссертации столь рискованную тему. Как глупо было говорить при нем о встрече лагерных друзей!
Лифт, с грохотом поднявшийся вверх, напоминал Эрвину тот, который в лагере спускал их в шахту. Ему долго толкать вагонетку не пришлось, всего несколько месяцев, но и этого было достаточно, чтобы превратить тридцатилетнего спортивного молодого человека в нечто, похожее на скелет. Если бы он не умел играть в шахматы, его биография осталась бы весьма краткой. Ладно, он-то спасся – а сколько талантливых, умных или просто добрых, порядочных людей погибло? Сколько их вообще было убито во всех прошлых войнах, начиная с первобытных времен, скольких сожгла инквизиция или расстреляли по решению революционного трибунала, сколько умерло в тюрьмах от голода и болезней? Почему человечество не изобрело железную дорогу, электричество и самолет раньше? Какие-то темные силы, всемирная зависть, глупость и жадность уничтожали все, что стремилось к свету, к знаниям. Это была жестокая, дикая борьба, намного более страшная, чем христианская борьба между добром и злом – ибо в борьбе добра и зла в итоге должно было победить добро, а вот в этой всегда побеждала тупая сила.
Лифт остановился с таким же грохотом, с каким начал свой подъем, Эрвин выбрался из кабины, вынул из кармана ключ, который ему дал Майор, вставил в скважину, повернул, толкнул дверь – она не открылась. Неужели ловушка, подумал он с отчаяньем, снова и снова поворачивая ключ и наваливаясь на дверь плечом, наконец послышались торопливые шаги, щелкнул засов, дверь как бы сама собой распахнулась, и Эрвин чуть не упал на стройную блондинку в свитере и юбке, с жизнерадостным лицом.
Такая молодая, и уже работает в КГБ, подумал Эрвин.
Но тут девушка виновато защебетала.
– Эрвин Александрович, простите, я машинально закрыла дверь на засов, отец велит, чтобы я так делала, когда я дома одна, знаете, он до сих пор боится, что опять за кем-то придут. Да проходите же, не стесняйтесь. Вы меня не узнаете? А я вас хорошо помню, вы в конце войны заходили к нам, передавали привет от отца.
– Светлана?
– Ну а кто же еще!
Помогая Эрвину снимать пальто, Светлана ни на секунду не умолкала.
– Вы были такой веселый и храбрый, смеялись над Сталиным, сказали, что он маленький противный таракан с усами, и однажды он будет раздавлен, если не буквально, то символически точно, судом истории. Мама потом несколько месяцев тряслась, а вдруг Марсельеза Ивановна слышала. Но на меня это тогда произвело громадное впечатление – что кто-то может безбоязненно такое говорить. Так что когда отец после двадцатого съезда где-то раздобыл речь Хрущева и принес нам читать, я сказала ему и маме – вот видите, Эрвин Александрович был прав!
– Ну, не так уж и прав, ведь таракан до сих пор в мавзолее, а люди тысячами ходят на него любоваться.
– Это уже ненадолго! Вы не представляете, сейчас совсем другое время! Начиная с всемирного фестиваля молодежи столькое изменилось – вечера поэзии, театральные спектакли, все стали совсем другими, свободными, гордыми, непринужденными. То, что было, уже не может повториться, наше поколение не даст такому случиться, мы скорее умрем, чем позволим таракану опять взять над нами власть.
Светлана пригласила Эрвина на кухню, согрела грибной суп и поджарила баклажаны. Эрвин усилием воли подавил нетерпение и стал разыгрывать вежливого собеседника, интересовался, довольна ли Светлана работой, делал комплименты ее кулинарным талантам. Потом Светлана заварила чай, разрезала вафельный торт и неожиданно вернулась к первоначальной теме.
– Я часто размышляла над тем, как вы посмели говорить такое, о чем все прочие, кого я знала, даже думать боялись, и пришла к выводу, что это, наверно, связано с разницей в условиях, в которых росли мы и вы. Мы же все так или иначе советские люди, а вы родом из буржуазной республики. Меня интересует, что было в вашем обществе иначе, чем у нас? У вас была полная свобода слова?
– Ни одна свобода не бывает полной.
– Хорошо, я спрошу тогда так – а своего президента вы ругать могли?
– Теоретически да.
– А практически?
– Ну, конечно, за это не расстреливали.
– Но сажали?
– Обычно нет. Однако существуют намного более тонкие способы ограничить свободу слова. Например, в капиталистическом мире всегда безработица. Понимаете, что это означает? Если человек знает, что работу он найдет только в том случае, если не будет критиковать существующие порядки, он десять раз подумает перед тем, как открыто выразить свое мнение. К тому же, когда он видит, что от его критики никакой пользы, что все остается так, как было, то в один момент он просто перестает бороться, приспосабливается.
– Но это все-таки не так страшно, как террор и репрессии?
– В каком-то смысле, конечно, нет, хотя духовная смерть почти так же страшна, как физическая, иногда даже страшнее. Кстати, нельзя сказать, что у нас вообще никого не репрессировали, например, у нас была запрещена коммунистическая партия, ее членов преследовали. Мой зять просидел тринадцать лет в тюрьме. Но наше государство было маленьким, народ наш невелик, соответственно, и масштабы репрессий были поменьше.
– А за кого вы голосовали на выборах, за левых или за правых?
– За левых. У нас дома по этому поводу вечно были разногласия, мой отец, в вашем понимании, был типичным буржуем, в царское время крупным, а после революции, когда мы перебрались в Эстонию, мелким. Он голосовал за консерваторов, а мы, дети, за социалистов. Нам казалось, что буржуи слишком жадные, что они бессмысленно транжирят деньги в то время, как рабочие и интеллигенция голодают. Конечно, отца мы любили, несмотря на его политические взгляды, мы же видели, что на самом деле он тоже работает, как проклятый, чтобы нас накормить. Нас было пятеро детей, и все, что отец зарабатывал, уходило на то, чтобы мы могли учиться, ведь образование тогда было платным.
– Еще один вопрос, если можно. А вы были за вступление в СССР или против?
– За.
– Но потом разочаровались?
– Да. Быстро.
– Когда вас арестовали?
– Раньше. Я юрист и хочу, чтобы все было по закону, а приспешники Сталина на законы плевали. Люди стали пропадать сразу после смены власти.
– А если бы сейчас вам дали возможность выбирать, жить дальше в Советском Союзе или вернуться в буржуазную республику, что бы вы выбрали?
– Остался бы в Советском Союзе.
Светлана была искренне удивлена.
– Почему?
– Потому что общественный строй с экзистенциальной точки зрения вопрос второстепенной важности. У человека одна жизнь. Всю свою юность он тратит на то, чтобы научиться какой-то профессии. Он хочет работать, приносить пользу другим, хочет, чтобы жизнь не прошла бессмысленно. Каждая смена власти сужает возможности, выбивает из привычного ритма, часто даже отнимает профессию. Я пять лет учился в университете, но потом пришла советская власть, законы изменились, и немалая доля моих знаний оказалась лишней. Мне пришлось спешно выучить новые законы. К счастью, я был молод и справился с этим, но многие мои коллеги постарше буквально деквалифицировались. К чему такая трата человеческих ресурсов? У старых римлян был афоризм: natura non facit saltus. Природа не делает скачков. Чем стабильнее общество, тем больше люди за свою жизнь успевают совершить. Про войну вообще нечего говорить, после войны возникает чувство, что весь мир надо сотворить заново.
– Эрвин Александрович, в душе вы все-таки коммунист! Вы мечтаете о времени, когда все будут заняты творческой работой. Как сказал Ленин, от каждого по способностям, каждому по потребностям.
– Да, но я не верю, что этого можно достичь путем диктатуры пролетариата.
Светлана засмеялась.
– Была бы здесь мама, она опять заволновалась бы, что мы такое говорим. Хотите еще чаю?
Эрвин согласился, хотя он и надеялся, что разговор Светлане надоел.
– Я хотела бы посоветоваться с вами по еще одному вопросу, – сказала Светлана, снова усевшись напротив Эрвина. – Личному. – Она неожиданно покраснела. – Отец не говорил вам, что Марсельеза Ивановна собирается замуж?
– Нет, он только сказал, что у нее есть приятель, некая весьма важная персона.
– Так вот, этот самый приятель только что развелся, и теперь они с Марсельезой, наверно, поженятся, и она переедет к нему.
– Прекрасно, значит, вы, наконец, получите обратно свою комнату.
– Есть опасность, что не получим, потому что у нас образуется излишек жилплощади, и вместо Марсельезы Ивановны сюда могут вселить кого-то другого. Вот если бы я срочно вышла замуж и прописала своего суженого здесь, тогда другое дело.
– Но вы еще не нашли того единственного, так?
Светлана еще больше покраснела и опустила взгляд.
– Нет. У меня есть несколько поклонников, полагаю, кто-то из них даже хочет на мне жениться, но я ничего не могу с собой поделать – я сравниваю их всех с вами, Эрвин Александрович, и это сравнение оказывается не в их пользу. Никто из тех, кто за мной ухаживает, не такой веселый и смелый, как вы.
Ведь она сейчас объясняется мне в любви, подумал Эрвин потрясенно. Где я читал о такой привязанности, у Бунина, что ли? Нет, там было все по другому. И что мне теперь делать? Сообщить, что я тоже очарован ею, дочерью своего друга, и предложить руку и сердце?
– Никогда не выходите замуж без любви! – сказал он вдохновенно.
На секунду на кухне воцарилась тишина, Светлана подняла взгляд, долго смотрела на Эрвина, потом вскочила, обошла стол, наклонилась и поцеловала его в лоб.
– Спасибо! Я была уверена, что вы дадите мне правильный совет.
Она бросила взгляд на стенные часы над головой Эрвина и охнула.
– О боже, я опаздываю в кино!
– Бога нет, – пробормотал Эрвин, чтобы скрыть разочарование.
– Тем лучше, значит, его имя можно поминать всуе, – провозгласила Светлана весело и поспешно вышла из кухни. Через несколько минут она снова появилась в дверях, в легком пальто и берете.
– До свидания, Эрвин Александрович! Когда родители придут, скажите им, что у меня все в порядке. Мы обязательно еще увидимся, не так ли? Вы ведь не уедете завтра?
Эрвин не успел даже ответить, поскольку девушка тотчас повернулась и пропала из виду. Хлопнула одна дверь, потом другая, загудел лифт, а затем все стихло. Эрвин еще какое-то время сидел за кухонным столом, вдруг словно увидев себя в зеркале – старый, никому не нужный урод. Странно, подумал он, почему никто не пытался доказать существования души, опираясь на ее независимость от возраста? Внутренне он до сих пор чувствовал себя молодым, умным и здоровым, хотя с телом произошли необратимые изменения. Я даже такой же наивный, как двадцать лет назад, подумал он, горько усмехнувшись. Конечно, Светлана не питала к нему никаких чувств, она просто была влюблена в кого-то, кто напоминал ей Эрвина, а тот товарищ не обращал на нее внимания.
Наконец он вспомнил, что встретил Вальдека и должен, как можно скорее, вновь пуститься в путь, пока КГБ его не поймал. Но имело ли это вообще смысл? Природа в лице очаровательной девушки показала ему, где его место – или в доме для инвалидов, или, в лучшем случае, под надзором Тамары. Зачем бороться с судьбой? Юности не вернешь, бежи хоть на край света. Снова резать вены он, конечно, не будет, просто сдастся, вернется домой к своим маленьким удовольствиям – «поэтическому утреннему кофепитию» в компании Верди или Россини. Кстати, Майор посоветовал, чтобы не скучать, посмотреть телевизор – почему бы и нет, у них с Тамарой этого чудо-агрегата еще не было.
Он встал, перешел в комнату Майора и включил телевизор – сперва заработал звук, некая женщина с трагическим пафосом читала чей-то некролог. Потом маленький экран, перед которым была установлена большая стеклянная линза, голубовато засветился, и Эрвин увидел дикторшу с гладко зачесанными волосами. Немного послушав ее, он понял, что умер президент ГДР. Тут он вспомнил о своих берлинских родственниках и подумал – интересно, что с ними стало, жив ли еще кто-нибудь? Сам Эрвин никого из них не встречал, но хорошо представлял их себе по рассказам мамы. Для мамы поездка в Берлин была одним из наиярчайших моментов в жизни, в ушах Эрвина до сих пор звучал ее восторженный голос, описывавший детали этого путешествия: «Вообрази, они послали за нами на вокзал автомобиль – в тысяча девятьсот третьем году, когда даже царь еще ездил на коне!»
Покончив с некрологом, дикторша сообщила, что сегодня – день танкиста. Ее голос стал веселым и торжественным, и она зачитала благодарность всем, кто спас родину от фашистов. Потом она исчезла, появились танки величиной в спичечный коробок и поползли из одного конца экрана в другой; вздрогнули пушки, раздались выстрелы, поле заполнилось дымом, когда он рассеялся, показались лежавшие на траве убитые солдаты в касках. «Вперед!» крикнул командир, размахивая револьвером, красноармейцы стали выпрыгивать из окопов и бежать с криком «ура!» вперед. Эрвин присоединился к ним, помчался, спотыкаясь, через грязное поле, услышав очередь пулемета, бросился ничком в лужу, снова поднялся, добежал до вражеского окопа и увидел изголодавшегося, с покрытым сажей лицом фашиста в очках. Тот очень напоминал дядю Эберхарда с группового снимка берлинской родни, был испуган, бросил автомат на землю и завопил: «Гитлер капут!» Эрвин остановился, показал жестом, чтобы дядя поднял руки вверх, в тот же момент невдалеке взорвался снаряд, осколки пролетели мимо Эрвина, но попали в Эберхарда и оторвали у него сначала обе руки, потом ноги, и наконец, словно гильотиной, отрезали и голову.
Эрвин проснулся от того, что его голова упала на грудь. На экране политический комментатор рассказывал о наиболее значительных международных событиях недели. Секу Туре уехал из Москвы, Хрущев сел в Калининграде на пароход, чтобы поехать в Америку, Вальтер Ульбрихт одобрил предложения Советского Союза относительно разоружения, а Патрис Лумумба послал в совет безопасности ООН меморандум с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела Конго. Он выключил телевизор. Как это я заснул, подумал он, и вдруг понял – наверняка Светлана дала ему снотворное! Надо больше доверять первому впечатлению – вначале ведь он как раз счел девушку агентом КГБ. Больше нельзя было терять ни минуты, они его выследили. Как же я глуп, подумал он, чуть ли не решил вернуться в «подвал из слоновой кости»! Там они меня быстро убьют, опять вколют что-нибудь, чтобы и в другой ноге возникла гангрена. Ринувшись в светланину комнату, он, заставив себя быть спокойным, быстро собрал вещи. Застегнув ремешки рюкзака, он на мгновение задумался, вырвал из блокнота чистый лист и написал с довольной усмешкой на губах прощальную записку:
– Дорогой друг! Извини, что я удалился по-английски. Мне сделали предложение поехать в Китай тренировать тамошнюю волейбольную команду. Пекинский поезд отходит через час, не успеваю тебя дождаться. Привет Профессору! Эрвин.
Он перебрался в прихожую и стал одеваться, но вдруг услышал, как лифт останавливается на их этаже, а затем – как в скважине поворачивается ключ. Он немедленно повесил пальто обратно на вешалку и кинул рюкзак с порога в глубь комнаты. Едва он с этим справился, как дверь открылась, и Эрвин увидел Марсельезу Ивановну.
– Добрый день!
– Здравствуйте.
Холодные зеленые глаза уставились на Эрвина. Две холеные руки поднялись к груди, собираясь расстегнуть пальто.
– Позвольте!
Иначе Эрвин себя вести не умел, это было у него в крови.
– Благодарю.
Нет такой женщины, которая отказалась бы от предложения помочь ей снять пальто, вот и Марсельеза Ивановна повернулась к Эрвину спиной и доверчиво опустила руки. Как просто было теперь схватить ее за белую шею и сжимать, сжимать! Но Эрвин не смог бы это проделать даже если бы перед ним стояла женщина-убийца, что-то вроде Лукреции Борджии. Правда, Майор утверждал, что совесть Марсельезы отнюдь не чиста, и по ее доносам в подвалах Лубянки сгинуло немало троцкистов и меньшевиков – однако, несмотря на это, она была женщиной.
– Вы родом из Эстонии?
– Нет.
Безмолвный вопрос – Марсельеза Ивановна умела разговаривать без слов.
– Я родился в Ростове-на-Дону.
– Но сейчас живете в Эстонии?
– Сейчас да.
– Это интересно. Пойдемте, выпьем чаю, я хочу вас кое о чем спросить.
– С удовольствием.
Желание дамы было для Эрвина законом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































