Текст книги "Буриданы. Сестра и братья"
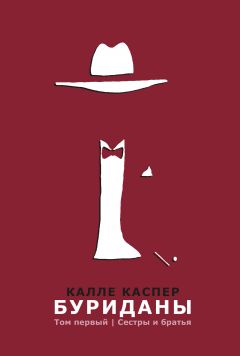
Автор книги: Калле Каспер
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Александр Мартынович, я вышла погулять, случайно вас увидела и догнала. У меня осталась одна ваша книга, может, помните, «Анна Каренина»? Давно хотела принести, но все время что-то мешало.
Девушка лгала неумело, взгляд блуждал, голос звучал фальшиво. Сколько времени надо, чтобы занести книгу, уж столько-то всегда бы нашлось, наверно, просто сторонилась, бывают деликатные люди, которые не хотят идти в дом, где горе, боятся, что не смогут правильно себя повести.
– Ничего, успеется.
– Я тоже надеюсь, но мало ли что может случиться. Я собираюсь уезжать, так сказать сижу на чемоданах, может, зайдете ко мне, я живу тут рядом?
– Сейчас?
Татьяна не ответила, словно слова приклеились к ее языку, она лишь кивнула.
– Ладно, пошли.
Девушка облегченно зашагала по тротуару, и Алекс последовал за ней.
– Куда ты едешь?
– В Петербург.
– Поздравляю. Петербург – чудесный город. Там такие дворцы, что и во сне не увидишь.
– Я знаю, я смотрела картинки.
– Еще там есть каналы, переброшенные через них мосты и туман над водой. Когда ты едешь?
– Скоро.
– Сейчас самая красивая пора. Всю ночь светло, хоть до утра гуляй по городу. Только будь осторожна, перейдешь на другую сторону Невы, вернуться уже не сможешь, мосты на ночь разводят.
– Я запомню.
– А к кому ты едешь?
– К одному другу.
– К другу? Я думал, у тебя там родственники.
– У меня нет никого, кроме мамы и тети.
Алекс вспомнил, что Татьяна – сирота, ее отец, артиллерийский офицер, погиб на японской войне.
– А этот твой друг, он тебе кто, жених?
– Нет, соратник.
У Алекса, наверно, был очень глупый вид, поскольку девушка неожиданно рассмеялась, не весело, а нервно, осмотрелась, словно проверяя, не подслушивает ли их кто-нибудь, и добавила шепотом:
– Я теперь эсерка.
Алекс вздрогнул: неужели весь мир сошел с ума? Хуго опять потонул в неизвестности, он недавно бежал из ссылки, они с Мартой узнали об этом только тогда, когда полицейские неожиданно вторглись к ним в дом и учинили самый настоящий обыск – даже под кроватями смотрели! Но Хуго хоть был мужчиной.
– И чем ты там у них занимаешься? Клеишь листовки на стены? – спросил он с надеждой в голосе.
Татьяна опять рассмеялась, на сей раз более весело, можно сказать, с превосходством.
– Мы листовок не клеим, это никуда не ведет. Мы за террор. Меня недавно приняли в члены революционного боевого отряда. – Она еще раз огляделась и шепнула: – Мы хотим убить царя.
У Алекса от потрясения перехватило дыхание – ах вот до чего опять дошло. Он хотел было пожурить девушку, объяснить, что насилием мир лучше не сделаешь, сослаться хотя бы на авторитет Толстого, которого Татьяна читала и уважала, но передумал. В конце концов, что хорошего сделал ему этот Ники, как с некоторых пор пренебрежительно называла царя теща? Живет вместе с женой и детьми сразу в нескольких дворцах, тысячи людей их обслуживают, а они только едят и спят. На юг ездят спецпоездом, говорят, там есть отдельный вагон, где царица причесывается. В дороге взбредет дочкам в голову собирать ландыши, останавливают поезд посреди леса, и все движение стоит, пока девчонки забавляются. Поди оправдай этот идиотизм! Кстати, и на Толстого ссылаться было сложно, православная церковь предала писателя анафеме, а церковь без разрешения царя пальцем бы не шевельнула. Так что «Ники» Алекс не сочувствовал, ему было только жаль Татьяну, сейчас ведь не времена Александра-освободителя. Террористов нынче не оправдывали, их даже не судили – галстук Столыпина на шею и в яму. Жалуйся, кому хочешь!
Татьяне его молчание только добавило смелости.
– Я жду, когда меня вызовут. Мы уже выработали план, я переоденусь крестьянкой и поеду в Царское Село якобы для того, чтобы подать прошение. Револьвер спрячу под юбкой, я девушка, меня обыскивать не станут. Сейчас я учусь стрелять, хожу на левый берег, упражняюсь в меткости, поэтому у меня и не было времени зайти к вам.
Это уже очень походило на фантазию – мало ли что придет в голову романтичной девчонке. Эсеры точили зубы на царя много лет, будь его убийство таким простым делом, давно переселился бы на тот свет.
– А ты не боишься, что я тебя выдам?
– Вы?! Это невозможно.
В очередной раз тревожно оглядевшись, Татьяна открыла ворота, и они вошли во двор, в котором стоял весьма приличный двухэтажный каменный дом. Рядом с дверью цвела акация. К парадному, однако, Татьяна идти не стала, они свернули за угол, откуда вела лестница вниз, в подвальный этаж. Когда девушка отпирала дверь, Алекс заметил, что ее руки дрожат. Тоже мне цареубийца, усмехнулся он, с трех футов промажет.
Через темную сырую переднюю они прошли в крошечную кухню и через нее в комнату немногим большую, которую еще более сужала отгораживавшая один из углов ширма. Мебели было мало, только низкий комод, стол и пара стульев, и все равно тесно.
– Присаживайтесь, Александр Мартынович! Я поставлю чайник.
– Не надо, Татьяна, я спешу.
Это была неправда, но Алекс чувствовал себя здесь неуютно, На столе стояло блюдо с дешевыми медовыми пряниками, в вазе краснели маки – казалось, Татьяна кого-то ждет.
– Хорошо, я сейчас принесу книгу.
Татьяна исчезла за ширмой, где наверно, была ее постель. Без особого любопытства Алекс огляделся: на стене висела фотография, в центре мужчина в офицерском мундире, по одну сторону от него женщина лет тридцати пяти с суровым лицом, по другую Татьяна. Снимку было несколько лет, и Алекс подумал, что тут глаза девушки еще такие, какими он привык их видеть: искренние, наивные, невинные.
– А где твоя мама?
– Она не нашла здесь работы и переехала в Таганрог к тете. У тетиного мужа там маленький магазин, мама им помогает. На отцовскую пенсию не проживешь.
Девушка вышла из-за ширмы с книгой в руках, и Алексу показалось, что она успела за эти пару минут причесаться и даже надушиться. На ней была та самая нарядная белая блузка, что на фото, и Алекс не смог вспомнить, была ли она и на улице в ней же или сейчас поспешно переоделась – собственно, какое это имело значение?
– Пожалуйста!
Портфеля у Алекса с собой не было, он попытался впихнуть книгу в карман, но та была довольно велика и не влезала в него.
– Может, найдешь, старую газету, чтобы ее завернуть?
Ответа он не получил, девушка словно оцепенела. Алекс стал уже терять терпение, но вдруг заметил, что Таня дрожит всем телом. Что случилось, хотел он спросить, но не успел, девушка, словно подкошенная, рухнула на колени, обхватила руками ноги Алекса и душераздирающе зарыдала.
– Александр Мартынович, простите меня! Умоляю вас, простите! Это моя вина! Все случилось из-за меня! Если вы меня не простите, я не знаю, что я с собой сделаю!
Алексу не понравилась эта сцена, в ней было что-то животное.
– В чем твоя вина? – спросил он холодно.
– В смерти Рудольфа. Госпожа Марта забыла заплатить мне за уроки, и я нарочно долго копалась в прихожей, чтобы дать ей время вспомнить. Не знаю, что на меня нашло, было совсем не так важно, чтобы она мне заплатила именно в этот день, у меня были деньги. Если бы я сразу ушла, ничего бы не случилось. Но я столько возилась, что это показалось ей странным, и, когда я ушла, она догадалась, в чем дело, и побежала за мной…
Рыдания стали громче, еще некоторое время продолжались, потом стали затихать. Не зная, что делать, Алекс свободной рукой погладил густые каштановые волосы девушки. Татьяна еще крепче прижалась к его коленям и снова задрожала. Только теперь Алекс понял. Он наклонился так низко, как мог, положил книгу на край стола, взял Татьяну за подбородок и запрокинул ее голову чуть назад, чтобы увидеть глаза. Они были влажные и молящие, но то, о чем они молили, было не прощение.
Когда сгустились сумерки, и Алекс стал собираться домой, Татьяна поспешно вскочила, прикрыла пышное тело большой шалью, задернула занавески на окне и зажгла керосиновую лампу.
– Петербург выкинь из головы! – сказал Алекс повелительно. – Если друг пошлет телеграмму или напишет, не отвечай. Если приедет за тобой сам, немедленно найди меня.
Татьяна послушно кивала головой.
– Работа у тебя есть?
Молчаливое отрицание.
– Я найду тебе место. К нам тебе лучше не ходить.
Пиджак был уже надет, Алекс вытащил из внутреннего кармана бумажник, извлек несколько купюр и положил на стол.
– До первой зарплаты, – сказал он, заметив отторгающее движение девушки.
Татьяна покраснела, Алекс поцеловал ее в щеку и взял со стола «Анну Каренину»
– Сейчас я найду газету.
– Не надо.
На улице было темно, жара спала, собаки и те очнулись от дневной истомы и лаяли, еще довольно лениво, но Алекс знал, что через пару часов их концерт охватит весь околоток, доносясь даже до бульваров. Провинция, подумал он, медленно идя в сторону дома. Днем гуси, ночью псы.
Неожиданно его охватил столь сильный порыв отчаянья, что он сначала остановился, а затем даже присел на корточки. Он пытался заплакать, но слез не было, только какие-то странные звуки вырывались из горла. По противоположной стороне улицы прошли мимо две женщины, посмотрели на него удивленно, и Алекс слышал, как одна сказала другой:
– Пьяный!
Слова второй он не расслышал, но первая в ответ громко рассмеялась.
Он заставил себя подняться, нашел в кармане платок, высморкался и вдруг почувствовал, что ненавидит этот город. Все тут было ему противно – и казаки, и немцы, и мутный Дон. И противней всего был он сам – повесивший голову, болтающийся по притонам отец семейства.
Может переехать куда-нибудь? – подумал он, собравшись с мыслями. Но куда? Вернуться в Лифляндию? Что ему там делать? В Киев, к Менгу и Верцу? Там жил другой народ, начинай привыкать заново…
Вдруг он вспомнил, как прошлой осенью после похода в театр Марта всю дорогу домой подражала актерам, то напевая «цып-цып-цып», то вздыхая «в Москву, в Москву!» Он еще спросил тогда, всерьез ли она мечтает о Москве или просто шутит, первое жена отрицала, но кто знает, может, она просто стеснялась говорить о том, что он мог посчитать капризом?
И я, старый болван, ничего не понял, упрекнул он себя. Идея отнюдь не была неприемлемой, как-то они с Конрадом ее обсуждали. Тогда он не осмелился принять столь важное решение сразу – а если бы рискнул, может быть, с Рудольфом ничего не случилось бы?
Рудольф! – мысли снова вернулись туда, куда они неизбежно сходились уже три месяца. Куда ни поверни, отовсюду на него смотрели умные не по возрасту глаза мальчика, словно маленький призрак ходил за ним по пятам. Герман был более плаксивым, София – девочкой, Эрвин совсем крошкой, о нем и мнения какого-то у Алекса еще не сложилось. Рудольфа он почему-то любил больше всех, даже учил уже малыша буквам – в три года!
На него чуть снова не нахлынуло отчаянье, но он отбил его натиск. Если уж он такой убитый, что же должна чувствовать Марта?
И он прибавил шагу – домой, к жене, которую бессовестно обманывал, но все равно любил больше, чем кого-либо другого.
Часть третья
Пээтер
год 1980
Глава первая
Жизнь писателя
– На ковер приглашаются Леонид Брежнев и Пээтер Буридан!
Сопровождаемый аплодисментами публики, Пээтер ступил в свет прожекторов и поклонился, краем глаза посматривая на соперника. Трико болталось на старческом теле Брежнева, он с трудом двигал конечностями.
Ну, этого я положу на лопатки за полминуты, подумал Пээтер.
Аплодисменты все продолжались, и он кланялся и кланялся, уже уставая от этого. Наконец, прозвучал гонг, настала тишина, и вдруг Пээтер почувствовал, что кто-то хватает его из-за спины, словно клещами, за шею и начинает душить – наверняка Брежнев прокрался туда.
– Это нечестно! – хотел Пээтер вскричать, но голосовые связки не послушались его, он проснулся и увидел Ингрид, которая следила за ним, опираясь щекой на руку и сощурив ядовито-зеленые глаза.
– Неверного мужа мучает совесть?
Пээтер не смог ответить сразу, встревоженный мозг не подчинялся его воле. Не будь тут Ингрид, он дал бы себе медленно перейти от сна к бодрствованию, протянул руку, достал из ящика тумбочки блокнот и шариковую ручку и записал все, что приснилось, но в данных условиях это было невозможно.
– Вообще-то говоря, я не просил себя будить, – буркнул он в конце концов угрюмо.
– Может, ты не просил меня и прийти к тебе?
Стремительно, словно ею выстрелили из катапульты, Ингрид вскочила и, виляя задницей, напоминающей небольшой арбуз, подошла к стулу, на котором была очень аккуратно развешана ее одежда. Она вообще была существом дисциплинированным, не пользовавшимся даже неотъемлемым женским правом опаздывать на свидания, но с очень высоким самомнением, надменная и гордая, потому, наверно, что у нее никогда не было недостатка в поклонниках.
Пээтер не стал ни развивать ссору, ни искать примирения, только пожалел, что отменяется утренний постельный сеанс. Ингрид одевалась, не затягивая эту процедуру, но и не слишком торопясь, экономными движениями, уверенно, как она проделывала все кроме секса. Последний неизменно сопровождался нервным напряжением, в школьные годы ее как-то изнасиловали, обстоятельство, которое стимулировало воображение Пээтера, но парализовало интимную жизнь Ингрид.
– Мне не нравятся мужчины, которые полагают, что умеют выразительно молчать.
Не дожидаясь ответа. Ингрид сунула ноги в сабо, вытащила из висевшей на спинке стула сумочки косметичку, прошла в коридор и оттуда, судя по шагам, в ванную. Пээтер закрыл глаза. Некоторый иммунитет к задевающим, кусающим и провоцирующим замечаниям своих дам он с годами приобрел, но до настоящего превосходства над женским полом не дорос. Как же я попал на олимпийские игры, попытался он припомнить детали сна, но те уже улетучились. Жаль, поскольку Пээтер был убежден в приоритете подсознания, по крайней мере, что касалось творчества. Каждая потеря в этой области была невосполнима.
Вдруг он вспомнил. Конечно же, они ездили вместе с Саддамом Хуссейном на остров Рухну собирать ежевику! Сон был абсолютно абсурдным, ибо на данном географическом объекте росло много чего, например, брусника, черника и рыжики, но только не ежевика. Когда лукошки наполнились, Хуссеин предложил ему представлять его государство на олимпийских играх в греко-римской борьбе, а в качестве вознаграждения обещал перевести на арабский собрание сочинений Пээтера…
Что этот сон может означать, подумал Пээтер, неужели между Ираком и Ираном начнется война? Он встревожился – в подобном случае в опасности могла оказаться Марианна, его первая любовь времен Тартуского университета, вышедшая позднее замуж за иракца, что не мешало Пээтеру до сих пор сохранять к ней нежные чувства, как, впрочем, ко всем женщинам, побывавшим в его постели; правда, их было не так уж и много.
Сколько же? Ему стало любопытно, и он принялся мысленно пересчитывать своих любовниц, но это приятное занятие было быстро прервано стуком сабо, сообщавшим, что он вот-вот опять будет стоять, или вернее лежать с глазу на глаз с действительностью, наверняка умывшейся и накрасившейся. Что и произошло. На него был брошен всего лишь один молниеносный взгляд, после чего Ингрид вынула из сумочки щетку, подошла к висевшему на стене зеркалу и стала яростными движениями причесывать свои махагонового цвета волосы до плеч.
– Я думаю, на этом месте в рукописи следует поставить точку.
Голос любовницы звучал иронично. Ингрид вела разговор только в двух тонах, таком, как сейчас, и лироэпическом – последним она пересказывала свою биографию.
– Длинным наш роман не назовешь, но что поделать, сейчас в моде и короткие, романчики, так сказать. Если я правильно помню, это твой любимый жанр.
Очень вовремя в голову пришла строфа из эстонской классики.
– «Во сне на мне топталась беззубая старая дева, курить я, что ли, стал много, иль в брюхе ползают черви?»[7]7
Здесь и далее Пээтер цитирует эстонского поэта Хейти Тальвика (1904-1947). Стихи приведены в подстрочном переводе.
[Закрыть] – продекламировал Пээтер выразительно и с наслаждением.
Он помнил и следующие строки, но те меньше подходили к ситуации, и он умолк. Не надо было быть писателем, чтобы понять – цитата попала в точку.
– Это я, что ли, беззубая старая дева?
Щетка чуть не полетела в сторону Пээтера, он даже поднял машинально руку, чтобы прикрыть лицо, но Ингрид, довольная его реакцией, сунула щетку в сумочку и взяла с книжной полки алое пластмассовое ожерелье. Чтобы застегнуть замочек, нужны были ловкие руки, и к чести Ингрид следовало сказать, что она справилась с этим сложным делом без посторонней помощи. Надев на палец серебряное кольцо выпускницы – Ингрид закончила элитную школу и весьма этим гордилась, она подхватила сумочку и перекинула длинный ремешок, на котором та висела, через плечо.
– Будь счастлив со своей толстухой-женой!
Эта сладострастная шпилька сопровождалась звонким смехом – Ингрид умела смеяться заразительно, но вот улыбки Пээтер на ее лице не видел никогда. Еще несколько мгновений любовница стояла на свету, как будто специально, чтобы Пээтер мог оценить стройность ее ног, узкую талию и округлые бедра, и вышла из комнаты.
– Рукописи не горят! – гаркнул Пээтер, но ответа на эту аллюзию уже не услышал. Еще некоторое время стучали сабо, потом заскрежетал замок и захлопнулась дверь.
Не любовница, а наказание, подумал Пээтер, устроился поудобнее в постели и закрыл глаза, не для того, чтобы снова заснуть, а чтобы сполна насладиться утренними звуками и запахами. Правда, поскольку он находился в центре города, то ничего кроме вони бензина и нервных шагов немногочисленных спешивших спозаранку на работу особей до него не доносилось. Потом стали бить часы на ратуше. Два удара. Три. Четыре. До скольких дойдет, до семи или восьми? Пока до семи. На Пирита еще только просыпались яхтсмены, зато ориент не спал уже давно, там звучали выстрелы, гудели телефонные линии, Бабрак Кармаль вел первый за этот день разговор с Кремлем, Саддам Хуссеин – с полуночным Вашингтоном. «Мистер Картер, как вы полагаете, стоит ли немного подстричь крылышки аятоллы Хомейни? В какой мере мы можем надеяться на вашу помощь в этом благородном начинании?»
Нет, нельзя было валяться в постели, когда полмира действовало! Пээтер открыл глаза, встал, надел трусы, взял лежавшее на сундуке старое шерстяное одеяло, расстелил его на пыльном половике, сел и стал сгибать ноги. На мгновение щиколотки свело от боли, но постепенно тело стало слушаться, он пристроил левую стопу на правом бедре и, теперь уже вытянув руки, соединил пальцы и снова закрыл глаза для медитации.
– Я умный и талантливый! – стал он внушать себе приятные мысли. – Я добьюсь всего, чего захочу. У меня верная, самоотверженная жена, две очаровательные дочки от предыдущего брака, сын от нынешнего и обаятельная любовница. Я уже сейчас известный человек, я опубликовал три книги, вот-вот ожидается четвертая, однажды я буду знаменит на весь мир, мне дадут нобелевскую премию, но я еще подумаю, принять ее или нет. Ладно, если очень попросят, приму, но отдам ее на благотворительность, часть подарю далай-ламе на освобождение Тибета, а часть…
«Пошлю бывшей жене в счет невыплаченных алиментов», – вставил скрипучий, поселившийся в дальнем уголке мозга критический голос.
Медитация нарушилась, перед глазами возникло круглое, курносое, с веснушками лицо Майре, в ушах зазвучал ее истеричный смех, а безымянный палец правой руки прострелила знакомая боль. Как из пулемета, посыпались обвинения: «Ты забыл, как клялся мне в вечной любви? Какая у тебя короткая память! А совесть тебя не мучает, что бросил жену и детей на волю судьбы?»
– Ну почему не мучает, мучает! – сказал Пээтер громко, словно Майре на самом деле сидела в кресле напротив и нервно курила, с шумом выдыхая дым изо рта. – Но что мне оставалось, я не мог с тобой жить! Писателю нужны тишина и покой, а ты истеричка. Нас свела вместе юношеская глупость, неужели мы были должны страдать до самой смерти?
Он вспомнил озера Паганамаа и молодую смешливую учительницу физкультуры, которая одолжила матрац только что закончившему университет по специальности эстонская филология коллеге и угостила его кислыми щами; но никакого умиления и даже особой благодарности он не почувствовал.
– Нет, это не была любовь, – сказал он жестоко, хотя Майре продолжала таращиться на него, попахивая сигаретой, – это было даже не половое влечение, а просто неумение варить суп.
Майре коротко и нервно засмеялась и выдула такое большое кольцо дыма, что Пээтер мог бы прыгнуть сквозь него.
– Я и так вел себя как герой, продержавшись в браке с тобой целых семь лет. Вернее, тебе следовало бы поблагодарить за это моих родителей. Они давили на меня, а то я бы давно удрал. Что поделаешь, старомодные люди. Но ты некрасиво воспользовалась их добротой. Ты вообще назойливая личность, вот и сейчас – сидишь в углу, дымишь сигаретой и не даешь мне сосредоточиться. Как тебе не стыдно?
Вряд ли Майре стало стыдно, скорее всего, ей просто надоело, но что она исчезла, это факт, и только вмятина на кресле напоминала о состоявшемся ментальном визите.
Хоть какой-то толк от медитации, подумал Пээтер довольно, высвободил волосатые ноги из положения лотос, поднялся и пошел мыться. По дну ванны бегал паук, но его жизни ничего не угрожало, поскольку сливная труба уже две недели была засорена, обстоятельство, весьма не понравившееся вчера Ингрид, обещавшее вызвать немалое раздражение у Маргот, когда она вернется из отпуска, но оставлявшее равнодушным Пээтера, предпочитавшего баню: для утренней же гигиены ему было достаточно и раковины. «Словно выброшенный на мель корабль, дом мой полон отчаяния и нужды. В нем обитает мышей драчливая стая, и дождь просачивается в разбитое окно», – продекламировал он, обливая холодной водой лицо, шею и плечи и оставляя за собой лужи на полу, затем вытерся большим шершавым и не совсем чистым полотенцем – где-то в шкафу наверняка были и совсем чистые, но где именно, знала только Маргот. Прошлепав теперь уже на кухню, он обнаружил там симпатичный беспорядок. Заполнив испещренный коричневыми пятнами чайник слегка отдающей водорослями водой цвета плохого самогона, он поставил его на в не меньшей степени запятнанную газовую плиту, зажег с третьей или четвертой спички конфорку и вернулся в спальню. Там висела странная картина: словно художник собирался изобразить цветок орхидеи, но подсознание сбило его с пути, и результат напоминал, скорее, если вспомнить выражение Бокаччо, «ожидающую пестика ступку». Каждый раз, когда взгляд Пээтера останавливался на этом произведении, он почувствовал возбуждение. Так и сейчас. Восхищаясь игрой мысли, по сравнению с которой реальное половое сношение казалось весьма примитивным – только вчера Пээтер безрезультатно пытался научить Ингрид кое-каким трюкам из камасутры – он надел клетчатую летнюю рубашку, шорты и заменяющие тапочки старые сандалии и вернулся на кухню, где его ожидал обильный завтрак – целая тарелка проросших семян пшеницы.
Поев, Пээтер налил себе большую кружку кипятка, добавил две столовые ложки брусничного варенья и направился в кабинет. Ему нравилось работать рано утром, когда сонное человечество еще только раздраженно нажимало на кнопку будильника. Музы, эти эфирные существа, любящие рассветную свежесть, влетали в форточку, поливали извилины Пээтерова мозга капельками росы и шептали в ухо такие сладкие комплименты, подобных которым не могла придумать даже Маргот. Особенно Пээтер нуждался во вдохновении при заказной работе, как сейчас, когда на столе его дожидался сценарий о главном эстонском большевике первой четверти века Викторе Кингисеппе, чье имя носили целых два города в радиусе двухсот пятидесяти километров – честь, которой даже Ленину не оказывали или, по крайней мере, оказывали нечасто.
Вчера Пээтер остановился на том, что Кингисепп вылезает из котла с остывшим борщом, где, в обществе кусочков капусты и свеклы, он прятался от облавы тайной полиции, сегодня надо было написать продолжение этой удавшейся сцены. Его герой устал и должен найти ночлег, чтобы передохнуть и подготовиться к очередному съезду подпольной партии.
«Послушай, это же бред», – запротестовал внутренний голос, но Пээтер, пребывавший после медитации в хорошем настроении, быстро заставил неудобного собеседника замолчать. Конечно, в каком-то смысле сценарий действительно был бредом – но в каком-то смысле таковым было вообще все, что писалось. Когда Достоевский изобразил ленивый и отсталый русский народ в качестве мессианского, разве это не было «бредом»? Важно не то, о чем ты пишешь, а то, как ты это делаешь, был убежден Пээтер. Кстати, в отличие от главного православного писателя, он не считал реализм продуктивным творческим методом. Мир был абсурден, и, следовательно, правильнее всего было над ним посмеиваться. Вот и сейчас, если бы Достоевскому пришла в голову идея подобного романа, он Кингисеппа, скорее всего, демонизировал бы, как молодого Верховенского, и каков был бы результат? Только тот, что читатель стал бы принимать его всерьез – но разве Кингисепп был достоин подобной чести? По мнению Пээтера, этот сааремааский мальчик, ставший революционером и мучеником, был скорее комическим, чем трагическим персонажем. Интересно, не было ли у него какого-нибудь характерного дефекта, подумал он, вроде родинки под ребром, может, он шепелявил или питал слабость к кривоногим женщинам? Уже который раз он пожалел, что муж тети Лидии Густав Кордес, который хорошо знал Кингисеппа и даже дискутировал с ним на том партийном съезде, о котором Пээтеру еще предстояло написать, умер прежде, чем Пээтер стал писателем – вот кто мог бы рассказать о ярких деталях биографии его героя. Героя сценария то есть, ибо идея Пээтера состояла в том, чтобы дегероизировать Кингисеппа, написать его как бы портрет-диптих, где одна его, мужественная, сторона была бы обращена к народным массам, а другая, детская, проявилась бы лишь в нескольких очень интимных ситуациях. Но в каких конкретно? А что если устроить так, что Кингисепп, убегая от полиции, попадет в публичный дом, мелькнула у Пээтера гениальная идея, у которой, увы, был один недостаток: он не знал, как такой дом выглядит, советская власть давным-давно искоренила проституцию. Правда, рассказывали, что в гостинице «Виру» и сейчас можно встретить легкомысленных девиц, готовых за пару колготок лечь в постель с финским туристом, но, чтобы в этом удостовериться, надо было сначала раздобыть те самые колготки, то есть, съездить в Финляндию, а чтобы это сделать, нужны были деньги на путевку, для обзаведениями коими и писался сценарий – словом, порочный круг. Но для чего существует фантазия, если не для того, чтобы создать из ничего что-то? Женщина есть женщина, работает она водителем трамвая или стоит на панели. Даже очень на первый взгляд порядочные девушки могли иногда продавать себя и отнюдь не с целью спасти семью от голодной смерти, как Сонечка Мармеладова, а, например, для того, чтобы в журнале напечатали их стихи – конечно, все это происходило весьма деликатно, и было даже трудно определить, разделась ли девушка Икс или девушка Игрек потому, что ты ей понравился, или по меркантильным соображениям – но что они раздевались, это факт. У Пээтера снова возникла идея. А что, если выбрать прототипом проститутки ту самую… ну, как ее звали? У него была вообще-то говоря хорошая память, но сейчас, в творческом опьянении, вспомнить имя прыщавой поэтессы он никак не мог. Аннели, что ли? Ладно, какое это имело значение, Аннели, так Аннели, хотя в паспорте могло значиться и Герли – мания выскочек придумывать самые заковыристые имена ужасала Пээтера. Эта Аннели была довольно страстной, или, по крайней мере, хотела произвести впечатление таковой. «Твое вожделение иссушает и опустошает, как самум, сквозь шум которого доносится колокол смерти», – продекламировал Пээтер, подстегивая вдохновение, и схватился за шариковую ручку. Бордель нам не нужен, мы имеем дело с частным предпринимателем. «Ходишь, посвистывая, по светлым улицам, по пути треплешь по щекам голодных шлюх», вспомнилось еще одно стихотворение, и сразу перед глазами встала окраина, деревянные дома, холодный ветер, змеящийся между ними, и девица в легоньком пальто, дойдя до которой, Кингисепп замедляет шаг. «Сколько?» С ответной репликой возникли трудности, Пээтер не знал точной ценности купюр буржуазного времени, так сказать, конъюнктуру марки, но он вышел из проблемы элегантно. «А сколько дашь?» Кингисепп сует руку в карман, достает деньги и вкладывает в ладонь девушки. «Достаточно?» «Пошли.» Они входят в калитку, идут через двор к задней двери, поднимаются по скрипучей лестнице на второй этаж – обо всем этом было очень легко писать, поскольку таких домов сохранилось много, никто на них не покушался. Небольшая холодная комната, она же и кухня, Кингисепп смущенно устраивается на стуле, шлюха зажигает керосиновую лампу, вряд ли у нее было электричество… Кингисепп не знает, как себя вести, он не осмеливается сделать первый шаг, хотя и полгода не имел женщины, боится выглядеть смешным. «Это просто», – говорит шлюха, поднимает подол платья и начинает снимать колготки. «Стоп, Пээтер, колготок в двадцатые годы не было!» – снова вмешался внутренний голос. На этот раз Пээтер был с его критикой согласен, в пылу творчества он потерял контроль над бытовыми деталями. Сменив – по крайней мере, на бумаге – колготки на чулки, он, то есть, она начала с начала, расстегнула одну подвязку, потом вторую, затем посмотрела на Кингисеппа, мягко улыбнулась – ну, чего ты ждешь? – и стала стаскивать платье через голову. Кингисеппу ничего не оставалось, как последовать ее примеру, напомним, зима, комната не топлена, оба дрожат, и, когда забираются в постель, лежат некоторое время просто так, рядом, чтобы согреться. Кингисеппу девица, на самом деле, не нравится, у нее сухая прыщавая кожа, больше из добросовестности, чем вожделения, он, наконец, лезет на нее, просыпаются гормоны, и под жуткие звуки железной кровати глаза Кингисеппа выкатываются от катарсиса.
Пээтер впал в такой раж, что не слышал, как хлопнула дверь. Даже тогда, когда из прихожей послышался сильный, звонкий, напоминающий тромбон в верхней октаве голос Маргот: «Пээтер, это я!», он еще не понял, что случилось. Бросив последний взгляд на бумагу, исчерченную каракулями (как-то одна машинистка, посмотрев на него, потом на рукопись, потом снова на него, спросила удивленно: «Кто это написал, ваш сын, что ли?»), он недовольно встал, – эпизод-то еще не закончился – сделал с шариковой ручкой в руке пару шагов в сторону двери и только тогда почувствовал, как на лбу появляется самое что ни есть настоящее литературное клише – холодный пот. Откуда жена взялась, она же в Пярну, у своих родителей? Почему она, как обычно, не позвонила, что приедет? Задав себе этот вопрос, Пээтер вспомнил, что вчера вечером после прихода Ингрид сам, чтобы звонки не мешали, снял с телефона трубку, а потом забыл положить ее обратно. Что было бы, если бы Ингрид не ушла так рано, и Маргот обнаружила б ее в объятиях мужа? Эта ужасающая возможность вызвала у Пээтера самые разные чувства в диапазоне страх-облегченье. Кстати, опасность отнюдь не миновала, Маргот могла учуять в квартире запах другой женщины.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































