Текст книги "Прошедшие войны. II том"
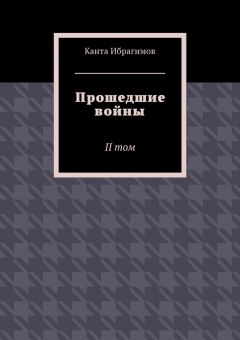
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Деньги будут после обеда, – глухо сказал он, – но больше я ничего не знаю. И мое имя нигде не фигурирует. Договорились?
– Да. Спасибо.
Вечером Цанка ехал в поезде. На нем был выдраенный до блеска воинский мундир и полная грудь орденов и медалей, четыре нашивки ранений. А на плечах по-прежнему красовались погоны капитана Советской Армии, правда, документального подтверждения этому не было. Более двух суток, с пересадками он добирался до пункта назначения. Ни разу не спросили у него документы, а военный патруль наоборот отдавал ему честь: не узнать бывалого фронтовика было невозможно.
На рассвете 28 февраля 1945 года Арачаев сошел на станции Чиили. Через минуту, дав протяжный унылый гудок, поезд ушел. Цанка остался один на пустынном, грязном перроне. Было холодно, ветрено. Тревожно билось сердце, во рту стояла горечь едкого самосада, от голода урчал пустой желудок. Ёжась от порывов ветра, он быстро вошел в убогое здание вокзала, ему показалось, что в помещении холоднее, чем на улице. Кругом был мусор, грязь, воняло мышиным пометом и канцелярской пылью. В дальнем углу висела вывеска «Буфет», за побитой, окрашенной в зеленый цвет стойкой дремала полная женщина в грязном измятом халате.
Цанка подошел к стойке, слегка побарабанил пальцами. Продавщица лениво открыла глаза.
– Чай есть? – спросил виновато Арачаев.
– Есть, – тяжело, недовольно встала женщина. – Что еще?
– Нет, только чай без сахара.
Цанка медленно выпил безвкусный чай, на последние гроши смог купить спички, вышел из здания вокзала, скрутил самокрутку, закурил. Не знал, к кому обратиться. Людей вокруг не было. Неожиданно в ранних сумерках вдалеке появились два силуэта, это были две молодые женщины. Они шли молча, быстро, держали под руки друг друга. На них была до того изношенная, дряхлая одежда, что даже Цанке стало их жалко. Когда они приблизились, по лицу он определил, что это землячки.
– Подождите, – сказал он на чеченском языке.
– Ой, ты чеченец?
– Да, здравствуйте.
– Здравствуй, – хором ответили девушки, улыбнулись.
– А вы откуда родом?
– Из Шали.
– А из Дуц-Хоте проживают здесь? – спросил он в тревоге.
– Да, но они живут в колхозе. Это километров десять отсюда. А кто тебе нужен?
– Арачаевы.
– Таких не знаем… Но там в основном живут все из Дуц-Хоте… А ты что – фронтовик?
– Да.
– А какого звания?
– Капитан.
– А медали, ордена есть?
– Есть, а что?
– Слушай, земляк, не окажешь ты нам любезность? Всего десять минут.
– Окажу, а что надо?
– У нас бригадир здесь – дрянь, он все время попрекает нас, что чеченцы не воевали. Будь другом, пойдем с нами – покажись ему.
– Ну, пошли, – взбодрился Арачаев.
По дороге разговорились.
– Как вам живется здесь?
– Какая жизнь, – отвечали девушки, – голодаем, нищенствуем. На работу не берут – говорят, все бандиты и воры. Многие болеют. Хоронить людей не успеваем, а сколько погибло в пути. Ужас, что с нами сделали эти твари… Да и здесь на каждом шагу глаза колют – издеваются. Вот, еле на работу устроились, а бригадир так и зовет – изменники, предатели, даже в табеле рабочего времени против наших фамилий написал – дезертиры.
Вскоре вошли в мрачное, большое помещение вроде ремонтной мастерской. Внутри гулял сквозняк, под крышей чирикали воробьи, воняло соляркой и удобрениями. Пройдя мимо груды угля и сломанной техники, вошли в освещенную, теплую комнатушку. За большим, заваленным бланками, пепельницей и пустыми стаканами столом сидел грузный мужчина – на вид ровесник Арачаева, еще несколько человек, женщин и мужчин, сидели сбоку на лавке.
– Опять опоздали, сучки, – гавкнул тот, что сидел за столом, потом, увидев за спинами девушек высокого военного, вжался в стул, смотрел выжидающе, исподлобья.
– Мы не сучки, бригадир, сам ты сука, – на ломаном русском языке ответила одна чеченка. – А это наш земляк – фронтовик, герой… Покажи ему свои награды, – обернулась она к Цанке.
Офицер замялся, не знал, как вести себя. За одно слово «сучки» хотел избить негодяя. А демонстрировать грудь в наградах ему расхотелось.
– Ну, расстегни шинель, покажи награды, – просили девушки.
Цанка повел плечами, был в досадном смущении, жалел, что попал в такую ситуацию.
– Да откуда у него награды? – осмелел бригадир. – У чеченцев никто не воевал, все вы изменники Родины, предатели.
– Что ты сказал? – надвинулся на него Арачаев, кровь хлынула ему в лицо, задрожали руки. – На, смотри, смотри. – И он стал лихорадочно расстегивать пуговицы, раскинул полы шинели, выставил грудь перед носом бригадира. Тот встал со стула, грязными пальцами дотронулся до ордена Славы, дыхнул в лицо военного самогонным перегаром.
– А справки есть у тебя на эти вещицы? – ехидно спросил бригадир.
– Ты что мне тыкаешь? – возмутился Арачаев, уже хотел схватить грубияна за грудки, но в это время его обхватили обе девушки-землячки, оттеснили назад.
– Не связывайся с ним. Это свинья, грязи не оберешься. Уходи, – кричали они ему на чеченском языке. – Хватит. Спасибо тебе. Уходи.
Минут через двадцать Цанка шел по пустынной, ухабистой, промерзшей дороге в колхоз. Дурацкий инцидент остался позади, он думал только о семье, о предстоящей радостной встрече, об улыбках детей. В его кармане лежали четыре дешевые конфеты, купленные на вокзале в Алма-Ате для детей, он еще раз ощупал их, сам себе улыбнулся, шире сделал шаг. Вскоре увидел идущего навстречу человека.
– Цанка! – вдруг вскрикнул мужчина, вскинул в восторге руки. – Цанка, ты ли это?
Только по голосу узнал Арачаев односельчанина Шовхала Ясуева, так похудел, осунулся, постарел его земляк, стал маленьким, сморщенным. Долго обнимались, радовались встрече. Вдруг лицо Шовхала стало суровым.
– Цанка, ты извини, сам знаешь, возможности не было. Ты ведь был на фронте. Прими мои соболезнования.
Арачаев тоже погрустнел.
– Да, потерял я брата. Прямо на глазах погиб Басил.
– Да, много горя у вас в семье.
Цанка оторопел, даже отстранился от односельчанина.
– Ты о чем? – встревожился он.
– А ты ничего не знаешь? – растерянно прошептал Шовхал, опуская глаза.
– Нет… Говори, – дернулся в нервном шоке Цанка, у него раскрылся в ужасе рот, скула поползла в сторону. – Го-во-ри, – схватил он большими, холодными руками плечи земляка, затряс его в ярости.
– Мужайся, Цанка… У всех у нас горе.
– Говори быстрее, не томи душу мою.
Шовхал коротко рассказал обо всех погибших. От его слов Арачаев едва не лишился чувств, ноги его подкосились, и он упал, головой уткнувшись в песчаную ледяную землю, раздирая ее ногтями.
– За что? Почему? За что мне такие страдания? – стонал он.
Шовхал склонился над ним:
– Цанка, возьми себя в руки. У всех горя хватает. Тебя мать ждет! Вставай! Она очень слаба… Тебя Бог на прощание к ней привел… Пошли быстрее.
Спустя полчаса два спецпереселенца подошли к небольшому поселению. Шовхал шел впереди, Цанка чуть сзади еле волочил ноги. Смерть близких ранила его в самое сердце, он чувствовал, как учащенно бьется в висках кровь, как огненный каменный шар сдавил его гортань, отдавался жестким прессом в правое плечо, грудь. Он уже не плакал, холодный ветер осушил его лицо, трещинами покрыл губы, воспалил налитые кровью веки. Он ничего не чувствовал, не ощущал, не видел, он просто шел за ведомым, ни о чем не думая, ничего не сознавая, ему хотелось просто лечь на холодную землю и так лежать, чего-то ждать: блаженного, вечного, спокойного. Он давно понял, что жизнь – это череда потерь и нескончаемых страданий. Ему вспомнился бой под Москвой, когда смерть была рядом, практически неминуема, он вспомнил колымский поток, и в ушах у него сразу с все возрастающей силой начался дикий вой. Этот рев все усиливался, нарастал: да это несется армада немецких танков, а за ними огромной волной накатывается ледяная волна Оймякона. Но что это такое? Он не испытывает прежнего страха, не бьется сердце его неистово, не мечется он в тревоге, борясь за жизнь и свое существование. Наоборот, он чувствует радость конца, прекращения всяких мук и переживаний. Какое это счастье – быть в мгновение раздавленным этой невероятной силой и знать, что от тебя ничего не останется. Ничего… Вообще ничего… Тебя просто не было в природе… Оказывается, ты никто, ты хлюпик, ты ничтожество, ты даже не муравей, раздавленный солдатским сапогом, ты слабое, хилое, абсолютно не защищенное, преходящее существо… А сила – это Время и подчиненная ей Природа, с ее стихиями, буйствами, бесконечностью и обманчивой, а скорее заманчивой красотой…
– Иа! Иа! Иа! – закричал рядом осел.
От этого визга Цанка очнулся, огляделся вокруг.
– Здесь вы живете? – поразился он.
– Да, существуем, пытаемся выжить, – невесело усмехнулся Шовхал, – а вон дом Табарк.
Арачаев минуту стоял как вкопанный, потом не выдержал.
– Так ведь это курятник.
– Другого не дано.
Они подошли к маленькому, перекошенному, глинобитному, наполовину занесенному снегом убогому строению. Вход заслоняла металлическая разбитая дверь грузовика. На нее с внутренней стороны была накинута необработанная шкура коровы. Сбоку чернело маленькое оконце, затянутое какой-то промасленной тряпкой. Над плоской крышей торчала прогнившая труба глушителя трактора.
Цанка неумело отодвинул дверной заслон, наполовину согнулся, влез вовнутрь, от сумрака ничего не мог различить. Только в нос ударил запах навоза, гари, глины.
– Кто это? – услышал он хриплый голос матери.
– Нана, – вскричал он и бросился к темнеющему в углу силуэту.
– Цанка! Цанка! – зарыдала мать, сжимая в объятиях сына. – Это ты? Это ты? … Цанка! Ты пришел, тебя Бог прислал проститься со мной… – Она зарыдала, еще сильнее прижимала к себе его голову. – Цанка, прости меня, прости, проклятую, не уберегла я твоих детей, не уберегла, не сохранила род Арачаевых. Не смогла… Прости меня… Несчастная… Что мы будем делать? Цанка, это был ужас. Такого издевательства люди еще не видели. Это был кошмар… За что мне такие муки – меня Бог не забрал, а молодых на глазах растворил… Цанка, я так рада, что под конец увидела тебя… Открой окно, дай я на тебя посмотрю… Дай поцелую.
– Нана… Нана… – рыдал Цанка.
…Увидеть фронтовика-односельчанина пришла целая толпа.
– Что говорит Арачаев?
– Нас не отправят назад?
– Говорят, что весной будем на Кавказе.
– А Цанка – офицер! Молодец!
– Может, теперь работу дадут?
– Есть ли у него табак?
Вечером, когда остались одни, Цанка развел костер из веток кустарника джингила и саксаула. В комнатенке стало светлее, теплее, уютнее. При свете огня он осмотрелся. Оказывается, внутри было чисто, аккуратно, стены побелены, полы ровно смазаны глиняным раствором. Крыша была камышовой, от толстого слоя навалившего за зиму снега она в середине прогнулась и грозила в любую минуту обвалиться. В углу была пристроена, на чеченский манер, дровяная печь, а прямо посередине комнатушки в аршин высотой была выложена стена из глиняных кирпичей, пространство между этой стенкой и стеной хибары наполнили соломой. Это были нары. На них лежала Табарк, рядом сидел ее угрюмый сын.
– Ой, Цанка, – говорила беззубым ртом мать, – ты не знаешь, что здесь было. Нам еще повезло. Люди до сих пор живут в землянках. А здесь был сарай для ишаков. Мы как могли все почистили. На большее уж сил не было. А сами местные живут ужасно. После сумерек ни один из них из дому не высунется, хоть и будут все со двора их уносить. А утром бегут в милицию и там, где одна корова пропала, говорят три… А наши и днем и ночью рыскают кругом, как волки, хотят выжить, с голоду не помереть. И попадает им от власти часто ни за что… А наш Дакани пострадал совсем из-за пустяка… Где же он сейчас, родименький?!
Цанка смотрел на мать, не мог прийти в себя. Постарела Табарк до неузнаваемости. Щеки впали, скулы и челюсть выдвинулись вверх, глаза глубоко ввалились, выцвели, потускнели. Губы стали серыми, покрылись синюшными волдырями, кожа сморщилась, пожелтела. А самое страшное – руки: они стали большими, костлявыми, грубыми, с толстыми, вздутыми венами. Холодными.
Ночью спали вместе, в обнимку. Цанка лежал с открытыми глазами, ни о чем не думал, не было сил. Табарк чавкала беззубым ртом, сосала третью подряд сладкую конфету – подарок сына. Глубокой ночью снова долго разговаривали. Говорили обо всем. На рассвете усталая Табарк, засыпая, сказала сыну:
– Цанка, я хочу сделать тебе завещание. Первое: не отчаивайся и борись за жизнь. Ты последняя надежда рода Арачаевых. Не дай ему засохнуть. Найди Дакани и Гелани. Я чувствую, что они живы… Ты молодой – народи еще детей. Обязательно. Второе: не забывай родину и всеми силами постарайся вернуться в родное Дуц-Хоте. Береги язык, наши обычаи и честь нашей фамилии… И третье, личное: у меня тоже могилы не будет. Если вернешься домой, поставь нам памятники на кладбище Газавата: мне, Дихант, Кутани и Дени, и отдельно нашему многострадальному народу… И еще, твой дядя Баки-Хаджи был хранителем древнего кладбища. Вернешься домой, возьми на себя эту нелегкую ношу. И помни, если туалет – культура семьи, то кладбище – культура народа. Сравнение на первый взгляд грубое, но по сути верное… Такова жизнь.
…А наутро в хибару ворвалась милиция. Выхватили они из объятий матери заспанного сына, надели наручники и, не обращая внимания на слезы, мольбы и проклятия Табарк, увезли его на станцию Чиили, в отделение милиции. Двое суток держали в карцере до выяснения личности. Отпуская, оскорбляли, называли самозванцем и дезертиром, дали какую-то справку, заставили где-то расписаться, обязали являться в милицию каждые пять дней, как когда-то после Колымы. А самое оскорбительное, какой-то плюгавенький сержант сорвал с него погоны капитана и все награды. С трудом сдержал себя Цанка, думал только об одном: поскорее увидеть мать.
Всю дорогу до колхоза бежал, задыхался, падал, вставал и снова бежал, будто чувствовал неладное… Не ошиблось ноющее сердце… Полностью осиротел.
Три дня лежал в хибаре безвылазно, горевал. Три дня приходили к нему земляки, разжигали печь, делились скудной едой. На четвертый не пришли. А на пятый день он пошел на станцию, чтобы стать на учет, и вообще, чтобы пройтись, посмотреть, что делать дальше.
У здания участкового милиционера толпились люди – все русские: двое мужчин и четыре женщины. Мужчины дымили самокрутками. Едкий запах самосада щекотал ноздри Цанка, он уже много дней не курил. С трудом преодолев стеснение, он попросил закурить. В это время подошел казах-милиционер, толстый, пухлощекий старшина. Открывая висячий замок, он искоса осмотрел всех и, остановив взгляд на Цанке, спросил:
– А ты кто такой?
– Капитан Арачаев.
– Хм, – усмехнулся старшина, – «капитан»… У нас вот и полковники есть, правда бывшие.
Милиционер вошел в кабинет, включил свет. Сквозь окно было видно, как он не спеша разделся, тщательно, любуясь в зеркало, укладывал прическу, потом, подойдя вплотную к своему отражению, ковырялся с прыщами, дергал из носа волосы.
– Так, дамочки, – наконец крикнул он, – быстренько поставьте самовар и как следует уберите комнату. – С этими словами он вышел на улицу. – Я скоро приду. Ждите.
Через полчаса неприятная процедура регистрации закончилась. Цанка освободился первым, не зная, что делать, стоял посередине улицы. Голод и боли в желудке и во всем теле не давали покоя. Он огляделся. Кругом были грязь, убогость, нищета. Холодный ветер порывами стегал по лицу острыми песчинками. Вяло простонал паровоз. Два чумазых подростка, сутулясь, пряча руки в карманах штанов, пересекли улицу, исчезли за поворотом. Мимо со скрипом проковыляла старая полуторка. В это время от участкового вышел еще один мужчина.
– Ну что, фронтовик, закурим, – обратился он к Арачаеву.
– Если угостите.
– Где воевал?
– Везде, – невесело ответил Цанка.
– Как, вы сказали, вас зовут, капитан?
– Арачаев Цанка.
– Очень приятно, – мужчина протянул руку. – А я Волошин, Петр Иванович.
Покуривая, пошли вдоль улицы.
– Родственники здесь? – спросил Волошин.
– Теперь одинок, – грустно усмехнулся Цанка.
– А жилье есть?
– Можно сказать, что нет.
– А работа?
– Нет.
– Тогда пошли со мной. Помогу устроиться у себя. Работа неважная, даже вредная, но других для нашего брата нет. А жить пока будешь у меня. Жилье, правда, тоже неважное, но лучше тюрьмы. Ты когда-нибудь бывал в неволе?
– Гм, – махнул головой Арачаев, – после двадцати пяти лет вся жизнь в неволе.
Работали Арачаев и Волошин на окраине поселка в кожевенном цехе. Трудились по двенадцать часов в сутки, с одним выходным в воскресенье. Весь день возились в серной кислоте, в животном жиру, в соли. От вредного воздуха напомнили о себе слабые легкие и бронхи. Цанка натужно кашлял, его рвало, тошнило. Слабость и безразличие ко всему владели им.
Через две недели получили приличный аванс. Вечером в субботу гуляли: пили водку, закусывали консервами из сплошного комбижира, черным хлебом. Цанка расщедрился, купил не дешевый самосад, а вонючую махорку. После первой бутылки Волошин рассказал Цанке о своей жизни.
– Я сам создавал эту власть, за нее боролся. С семнадцати лет на гражданской войне. Потом пятнадцать лет воевал в Средней Азии с басмачами, дослужился до полковника, а в 1938 году посадили как иностранного шпиона, до прошлого года был в Ухте, железную дорогу строил, а теперь вот облегчили мою участь – перевели сюда, в теплые края, на вольное поселение. Тут что летом жара, что зимой пурга – вот и все облегчение… Семья: жена, сын – в Алма-Ате. – Тут Волошин прослезился. – Меня не пускают к ним, их не пускают сюда. Вот так и живем.
– Еще долго срок? – перебил его Арачаев.
– Всего двадцать лет дали – так вот считай.
– А эти русские женщины, что они здесь делают?
– То же, что и я.
– Они тоже осуждены?
– Да.
– А кем они работали?
– Две учительницы, одна врач, а жена Ильи – того, что с нами на учет ходит, так она крупный партийный работник в прошлом.
– Это которая?
– Самая пожилая.
После ста грамм Цанка слегка охмелел, стал веселым.
– Ну что, Петро, – кричал он, – давай-ка пойдем к нашим женщинам. Участь у нас одна, пусть и общество будет общим.
– Нет, Цанка, – грустно ответил Петр Иванович, – там поочередно милиция и военные гостят, принуждают баб, издеваются, что хотят, то и делают с ними… Жалко их, как они плачут, иногда прибегают ко мне, здесь прячутся… А какой я защитник? Сам на птичьих правах… В последний раз, когда их здесь увидели, сказали, что и со мной то же сделают, если еще к ним близко подойду.
– Неужели и русским так тяжело в этой стране жить? – удивился Цанка.
– У русских самая тяжелая участь. Вы-то скажете, что издеваются инородцы или неверные, – и есть хоть моральное облегчение. А нас унижают свои, бьют беспощадно, держат за рабов.
Потом до утра говорили о войне, славили нашу армию, гордились ею, потихоньку критиковали Сталина, еще раз бегали за водкой.
А в конце марта прямо в кожевенный цех прибежал запыхавшийся участковый.
– Товарищ Арачаев, товарищ капитан, – говорил он вежливо, держа руку под козырек, – вас срочно вызывает военный комендант майор Евдокимов.
В комендатуре комендант лично встретил Арачаева. По-мужски пожал руку.
– Извините, товарищ капитан, кто знал, что вы заслуженный фронтовик? Только сегодня получили ваше личное дело. Вами Родина должна гордиться. Мы ведь боевые друзья. Я только месяц назад из госпиталя. А до этого, как и ты, с сорок первого в окопах, в пехоте.
Разговаривая, майор полез в металлический шкаф, достал оттуда конверт.
– Вот ваши погоны и награды. Надевать пока не советую. Через пару дней я вам достану новую парадку, вот тогда и пришьем и обмоем. А сейчас по сто грамм фронтовых, прямо стоя.
Начался разговор о войне. Незаметно сели, выпили еще, закурили, беседа завязалась самая живая. Оказывается, шли они по войне бок о бок. А под Кучиновкой вместе попали в окружение. Сразу перешли на «ты», оказывается, столько было общих тем и воспоминаний, что хозяин забыл обо всем на свете: заново все переживали, переоценивали, много пили, едва закусывали.
– Старшина, – кричал майор участковому. – Бегом в магазин… Когда плов будет готов, вашу мать? Понимаете, я случайно встретил боевого друга, а они… Ух, суки, тыловые крысы!
Через минуту, уже на ухо, шептал пьяным голосом Арачаеву:
– Ты знаешь – здесь все по-байски, если начальник – то всё, ты Бог и властелин, если подчиненный – то ты мразь и холуй. – А чуть погодя уже обычным голосом сказал: – А вообще-то, если честно, то у нас в России то же самое, просто все более-менее завуалировано.
В этот день Арачаев впервые за последний год досыта поел. На столе был полный казан с жирным пловом, большими кусками баранины. Цанка сразу вспомнил мать, как умерла она от голода, как сосала перед смертью слюнявым, беззубым ртом жалкие конфеты. Рассказал майору о пропавших сыновьях. Евдокимов со слезами на глазах обещал боевому товарищу помочь в их поиске. Еще пили, смеялись, целовались, братались, хотели вновь вернуться на фронт – бить фашиста, захватить живьем Гитлера. В полночь вдребезги пьяный Цанка шел домой, в руках нес газетный кулек с пловом для Волошина, а в боковом кармане торчали початая бутылка водки и полупустая пачка папирос – подарок боевого товарища после роскошного ужина. Дома разбудил Петра Ивановича, догуливали до утра, еще раз бегали за спиртным. На следующий день оба не вышли на работу, не могли. А еще через день Цанка был вновь в комендатуре.
– А, Арачаев, заходи, – восторженно кричал майор. – Ты где вчера был? Мы ведь договаривались о встрече. Давай данные детей, пошлем письма в Москву, в Алма-Ату, в Грозный. Не волнуйся, я сделаю все официально, через комендатуру.
Евдокимов снова достал стаканы, разлил по сто граммов.
– Здесь не пить нельзя. Давай, за Победу!
После этого был и второй стакан, и третий. Тогда Цанка осмелел:
– Товарищ майор, нельзя мне вернуться в Алма-Ату?
– А что там, друзья?
– Да нет, просто здесь очень тяжело мне. Работа не по силам.
– Ну, если честно, то по положению отпускать тебя не могу. А по дружбе сообразить можно. Но что ты там будешь делать? А насчет работы не волнуйся. Таких, как ты, образованных, в округе раз-два и обчелся. А ты знаешь, что пока военное положение – я здесь хозяин. А работать некому, даже поговорить не с кем, а выпить, так это вообще жуть. Короче говоря, наливай… Ух, хороша, родимая… Огурчик, огурчик дай… Так вот слушай, назначу тебя заместителем водхоза. Знаешь, что это такое? Это здесь всё. Вода здесь – и хлеб, и рис, и мясо, и бахча, и рыба, и просто жизнь. Водхоз – единственно богатая организация. Ну, разумеется, после военных. Так вот, устрою тебя замом. Там начальник, или, как его, управляющий – Саренбаев – просто чурбан. Безграмотный лапоть. Так, держат его, как казаха, для виду. Так он не только писать, по-русски говорит еле-еле. Через месяц ты там всё приберешь к рукам. Если что, я помогу. Ведь от воды здесь всё зависит, а план с меня будут требовать. Короче, решено – это очень верное решение. А главное, землякам помочь сможешь… А еще главнее, что ты коммунист и фронтовик. Наливай!
Предпоследнее предложение было решающим в выборе Арачаева. Через три дня его утвердили на бюро райкома партии. Красовался там Цанка в новом кителе, весь в орденах и медалях. Чуточку позабылись невзгоды, печали и страдания последних лет. Получил он служебную квартиру со всеми удобствами, служебную машину. Короче, стал большим начальником в округе. Не прошло и месяца, как вся работа в водхозе замкнулись на нем. Работал Цанка добросовестно, ответственно, от всей души. Правда, появилось одно «но» – с легкой руки коменданта Евдокимова заведение Арачаева стали называть – «Чеченхозвод», и это переводилось как «чеченское хозяйство ведется». И действительно, в конторе весь день слышалась чеченская речь. На работу Цанка земляков не брал, не мог, а помогал всем: от денег до стройматериалов. Главным энергетиком объединения стал Волошин, для русских спецпереселенок нашлась работа в санчасти, в детсаду, в бухгалтерии. Милиция вначале возражала против этого, но Евдокимов после личного знакомства с Волошиным поддержал решение Арачаева.
Вскоре на все совещания стали вызывать Арачаева, даже корреспонденция шла на его имя. И постепенно Саренбаев стал почетным управляющим, а Цанка исполнительным.
* * *
День Победы праздновали всенародно. Евдокимов и Арачаев в парадных формах, со всеми боевыми наградами гуляли целую неделю. Особенная радость в эти дни царила среди чеченцев: ходили упорные слухи, что в честь окончания войны их вернут на родину.
А в начале июня 1945 года прямо в водхоз приехал Евдокимов.
– Ну что, Цанка, – весело кричал он, – говорил я тебе, что найду сына – вот и нашел. В Джамбульской области он.
– Можно я поеду к нему? – взмолился Арачаев.
– Поезжай. Всю ответственность беру на себя. Только договор – туда и обратно.
Через день комендант провожал друга на вокзале.
– Вот эти деньги отдашь сыну лично от меня, – говорил он. – Я уверен, что твой сын – достойный человек.
Всего тридцать минут длилось свидание с сыном в детской исправительной колонии. Дакани повзрослел, вытянулся, как и все Арачаевы, стал бриться. Смотрел отец на сына, любовался им, позабыл всё горе, от радости плакал, не мог скрыть слез.
Когда Арачаев вернулся в Чиили, Евдокимов показал ему письмо – ходатайство с просьбой перевести Дакани на вольное поселение в Кзыл-Ординскую область.
– Не унывай, друг, все будет отлично, – говорил весело комендант. – Давай бросай свою работу – поехали на рыбалку.
На рыбалку всегда брали с собой Волошина. Евдокимов и Арачаев рыбачить не умели, да и некогда им было – не успевали наливать и произносить тосты за армию, за Победу, за Родину. За Сталина Цанка не пил – тогда вспыхивал короткий скандал, но это длилось до следующего тоста. Частенько после одной-двух бутылок фронтовики вскипали, и тогда Михей – водитель коменданта несся в поселок за женщинами. После этого начинались танцы, частушки, крики, визги и всё остальное.
Несмотря на частые загулы, Арачаев службы не запускал. Даже после затяжного вечера – утром в семь ноль-ноль был на работе. Управляющего Саренбаева он уважал, считался с его мнением, во всем с ним советовался и держал в курсе всех дел. Цанка понял, что Саренбаев необразован и не владеет многими производственными и организационными делами, но вместе с тем в нем было много мудрого, человечного. А главное, Саренбаев имел много связей в столице области Кзыл-Орде. Он просто не знал, как их использовать.
Арачаев быстро уловил возможности управляющего, часто вместе с ним ездил в область и стал пробивать много интересных и выгодных решений. Так, в начале 1947 года выросла новая контора водхоза, а вместе с ней и поселок для спецпереселенцев, русских и чеченцев. При этом у самого Саренбаева и еще у нескольких казахов – ответственных людей в районе появились новые кирпичные дома.
Казалось, что жизнь Арачаева налаживалась, как вдруг пришло сообщение, что Дакани перевели во взрослую колонию в Челябинскую область, и там, в первый же день, он устроил поножовщину. После этого ему добавили срок и перебросили еще дальше на север, в далекую Воркуту. Переживал Цанка страшно, не находил себе места. И неожиданно появились новые неприятности: его друга Евдокимова перевели на Дальний Восток. В районе полностью поменялась власть. Роль военных уменьшилась, вновь командовать стали партработники и милиция. Новое руководство района решило, что спецпереселенец-чеченец не имеет права быть в руководстве стратегически важного объекта. Арачаева сняли с должности, но, учитывая прежние заслуги, поставили начальником отдела снабжения. Через месяц сняли Саренбаева и назначили управляющим водхоза Хасанбаева. Последний выгнал с работы всех спецпереселенцев, и русских и чеченцев. А после этого потребовал, чтобы все спецпереселенцы освободили служебные квартиры и дома водхоза. Это было ужасное условие. Никто не хотел покидать обжитое жилище, тем более что другого и не было. К Арачаеву в квартиру два раза врывалась милиция. Однако Цанка как мог сопротивлялся: достал письма из комитета ветеранов-инвалидов войны, действовал через профсоюз и суд. Ничего не помогало, дали последний срок – 1 июня 1948 года освободить всю жилплощадь водхоза, занятую спецпереселенцами. А дней за десять до этого вдруг случилось неожиданное для всего района ЧП: в пустыне обнаружили служебную машину Хасанбаева, а водителя и самого управляющего не было. Их так и не нашли. Во всем обвинили чеченцев. Больше всех таскали Арачаева, но доказать ничего не смогли – и потихоньку все улеглось.
После этого в водхозе назначили нового начальника – тоже казаха, бывшего помощника Саренбаева. Он не стал поднимать жилищный вопрос, и более того, восстановил в должности Волошина, а Арачаеву дал самую вольготную должность – инженера по технике безопасности.
…Осенью 1948 года пришло письмо от сына, в котором Дакани сообщал, что ему предложили вместо заключения в тюрьме служить в армии пять лет и он выбрал это предложение. Еще через месяц пришло новое письмо, в нем сын писал, что служит в Хабаровском крае и все у него хорошо. Писал он из армии регулярно, и вдруг письма перестали приходить. Заволновался Цанка не на шутку. Два-три раза в неделю писал письма, посылал телеграммы – ответа не было. А в июне 1949 года вызвали Цанку в военкомат, где сообщили страшную весть: его сын Арачаев Дакани погиб, выполняя поручение Советского правительства, вручили справку о смерти. Позже отец узнал, что погиб его сын в Северной Корее.
Не вынес этого Цанка, сдало его сердце, а после и слабые легкие дали о себе знать. Слег Арачаев, не мог вставать. Может, так бы и умер, но помогли земляки – ухаживали за больным по очереди, не отходили от него ни днем, ни ночью. А Волошин дважды ездил в Кзыл-Орду за лекарствами, потом из Алма-Аты по почте его жена выслала очень редкие медикаменты… Ничего не помогало. В сентябре у Арачаева обнаружили туберкулез, положили в районную больницу. Ситуация не улучшалась, и тогда вновь при помощи Волошина Арачаева перевели в отдельный бокс санчасти водхоза, где за ним стала персонально наблюдать опытный врач из спецпереселенцев Клавдия Прокофьевна Тимошенко.
В апреле 1950 года Цанка вышел из санчасти, а в июне, ровно через год после гибели сына, приступил к работе. В это же время ему в голову пришла бредовая идея – поехать на родину, на Кавказ, в родное Дуц-Хоте. Он решил, что перед смертью должен выполнить завещание матери – поставить могильные памятники на родном кладбище Газавата ей и всем остальным покинувшим этот свет Арачаевым… А после этого – всё… Жизнь опостылела…
* * *
Мысль о поездке на родину все больше и больше стала овладевать Арачаевым, потихоньку, незаметно изменила его существование, стала возвращать к жизни. Эта навязчивая идея и днем и ночью преследовала его. У знакомой учительницы он достал географические карты СССР и стал прокладывать оптимальный вариант маршрута. По ночам, вновь и вновь изучая карту, он все чаще вспоминал каморку Бушмана, где они когда-то разрабатывали план побега из заключения. И сейчас, спустя десятилетия, он почему-то посчитал, что то время было значительно лучше этого. Оказывается, на Колыме он был счастлив, он был жив и хотел жить. В то время у него были мать, жена, дети, родственники, а сейчас он одинок. Тогда он страдал один, и у него была возможность вернуться на родину, хотя бы отсидев срок, а теперь возвращаться было некуда, а главное, не к кому… Он остался один!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































