Текст книги "Прошедшие войны. II том"
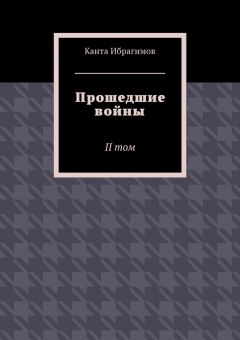
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Только на третий год ареста, благодаря помощи женщин-охранниц, Элеонора Витальевна получила долгожданное письмо от соседки. Оказывается, в тот же день арестовали ее мать. Пытаясь спасти жену, Виталий Петрович Кухмистеров обращался во все инстанции. Ничего не добившись, воспользовался служебным положением и послал в Москву, Сталину, секретную телеграмму с жалобой на произвол местного ЧК. После этого его тоже арестовали, а младшую дочь, сестру Элеоноры Витальевны Валентину, забрали в приют. В конце письма соседка просила больше ей не писать и сообщила, что в их квартире живут другие люди, очень важные, неразговорчивые.
После освобождения Кухмистерову в Ленинград не пустили, направили в Грозный. Там она проработала месяц в музыкальном училище, однако и этого оказалось недостаточно, по чьему-то указанию ее повысили: назначили директором начальной школы в горном ауле Дуц-Хоте.
Рассказывая свою грустную историю, Элеонора Витальевна нервно дрожала, тихо плакала. Цанка, пытаясь ее утешить, что-то говорил, успокаивал, потом сказал, что здесь прохладно и желательно пойти в его каптерку. Кухмистерова никак не реагировала, тогда он осторожно приподнял ее, подталкивая, повел в соседнюю, более уютную комнату. Там, ничего не говоря, крепко обнял, стал целовать. Она не противилась, вначале не реагировала, потом неожиданно ожила, в страстном порыве жадно задышала, всем телом прижалась.
Не говоря ни слова, Цанка сдернул с нее пуховый платок, в спешке возился с пуговицами полушубка, справившись, бросил его в угол и вдруг как ошпаренный застыл. Его глаза в изумлении расширились, несколько раз вверх-вниз пробежались по платью Кухмистеровой, в мгновение потухли, опечалились. Он протяжно выдохнул, поник, сел на покрытые изношенным одеялом нары, закрыл ладонью глаза.
Элеонора Витальевна постояла посередине каморки с минуту, подняла полушубок, молча ушла.
* * *
В конце февраля в морозный, ветреный день все село кликнули на митинг. Неохотно народ потянулся на сборище. Шли все, кроме тяжелобольных и очень старых, – знали, что иначе будут неприятности. Как обычно, кругом стали войска, в центре кучковалось человек десять-двенадцать здоровенных мужиков в добротных тулупах, в валенках.
– Товарищи, будем выбирать председателя колхоза, – закричал один, самый розовощекий. – Кого вы предлагаете?.. Правильно. Чтобы вы не гадали и не мучились, мы вам поможем. Районный комитет партии и исполком рекомендуют вам кандидатуру Ильясова Даци Таусовича. Вот он перед вами. Товарищ Ильясов – член партии, работал на ответственных постах в соседнем районе, показал себя грамотным и толковым специалистом, а главное, он настоящий коммунист – верный ленинец. Сегодня холодно, поэтому тянуть не будем… Кто за то, чтобы избрать Ильясова председателем колхоза имени Ленина? Кто против? Кто воздержался? Единогласно! Поздравляю Вас!
Следующий оратор говорил о том, что село опять не полностью сдало налоги. Объявил, что с текущего года будут брать налог и с плодовых деревьев. Все помнили, что налог на деревья ввели в 1930 году, однако про него забыли. Теперь, когда стали требовать принести справки о количестве деревьев на участке в сельсовет, все поняли, что это всерьез.
Последним выступал новый председатель. Говорил много, красиво, непонятно.
Как только митинг закончился, в селе раздался дружный стук топоров. К следующему вечеру опустели участки, оголилось село, полегли прекрасные, десятилетиями выращенные селекционные сады, а вместе с ними были похоронены вековые традиции чеченских горных садоводов-энтузиастов – ученых от природы.
Если бы это произошло только с садами!
Сады были предпоследними в этом длинном списке, потом выкорчевали весь народ…
…А в начале марта, как обычно, в селе расквартировали войска. Офицеры разместились в домах побогаче, солдаты в остальных. Срок – одна неделя. Надо кормить, поить, обслуживать. Как говорил председатель сельсовета – «ежегодная профилактика, точнее клизма, а всё – ради здоровья».
В этот же период по дворам ходила комиссия из гражданских, спрашивали, не обижают ли их военные, есть ли жалобы или приставания к женщинам со стороны краснопогонников. Ответ был один:
– Кормить нечем.
На что председатель комиссии многозначительно поднимал указательный палец и говорил:
– У вас нет совести! Вы позабыли традиции гор! Где ваше гостеприимство? Где ваше благородство? Совсем обмельчали, опаскудели!
После этого многочисленная комиссия как бы невзначай разбегалась по хозяйству. Осматривали сарай, чердак, погреб, даже под нарами, шевелили золу в печи. В эти же дни случилось то, чего Арачаев Цанка ждал с особой тревогой, чего больше всего боялся. Знал он, что просто так его в покое не оставят: пришла повестка ОГПУ. Наверное, больше, чем сам Цанка, переживали братья, мать. Все не находили себе места, чувствовали: не к добру это.
Допрашивали Цанка в том же кабинете. Все было как и прежде, только теперь на стене висели огромная цветная карта Советского Союза и рядом плакат с цитатами из Конституции СССР о том, что все граждане страны обязаны быть честными, порядочными и достойно трудиться на благо Родины.
Как и в прошлый раз, сидели два чекиста: тот же Муслимов и новый, совсем молодой человек, маленького роста, с торопливой твердой походкой, с очень быстрым шепелявым голосом, с редкими зубами на нижней, чуть выдвинутой вперед челюсти. Более двух часов этот молодой человек задавал Цанке вопросы. Спрашивал одно и то же по нескольку раз, загонял Арачаева до пота. Однако Цанка упорствовал, говорил только «нет», «не помню», «не знаю». Вопросы были самые разнообразные: и о прошлом, и о настоящем – короче, обо всем и обо всех. Позже, все прокручивая в памяти, Цанка сделал вывод, что к чему-то хитрый молодой следователь его подводит. Основные вопросы были о Колыме, но были они не конкретными, а какими-то расплывчатыми, вроде бессвязными, отстраненными. И еще, что запомнил Арачаев, – в отличие от Белоглазова, новый чекист ни разу не улыбнулся, не отошел от протокола, смотрел исподлобья упорно в глаза, видел в Арачаеве слабую жертву.
К радости Арачаева через день после этого приехал гостить к матери в Дуц-Хоте друг Курто Зукаев. Цанка как раз дежурил ночью в школе. В маленькой каптерке два друга детства гуляли до утра: пили какие-то крепкие, сладкие напитки. Курто говорил, что это коньяк, а это ликер, это вино грузинское. Закусывали вкусным шоколадом, сладким печеньем, еще какими-то сладостями. Курили ароматные папиросы. После нескольких рюмок спиртного охмелевший Цанка хотел спрятать в карман штанов две-три красивые шоколадные конфеты для детей. Курто это заметил, сказал, что привез для них отдельно подарки. Пили щедро, под утро Цанка рассказал полусонному другу о своих делах, рассказал подробно, как никогда раньше, искал помощи или просто сочувствия у богатого, влиятельного друга.
На рассвете Курто уехал, о подарках детям, видимо, забыл.
Ровно через неделю вновь вызвали Арачаева на допрос, или, как говорили чекисты, на беседу. Обстановка была та же, и вопросы вначале были те же, а потом вдруг следователь резко спросил, кто такая Щукина Татьяна Ивановна. Цанка – опешил. Сразу вспомнил госпиталь в Магадане, маленькую хибару, где они встретились в последний раз, и все остальное.
– Так кто такая Щукина Татьяна Ивановна? – повторил свой вопрос молодой чекист.
Цанка еще мгновение думал, потом медленно, боясь сказать лишнее, ответил:
– Я знал только одну Татьяну Ивановну – медсестру в магаданском госпитале. Правда, ее фамилию я не знал. Может, она и не Щукина. А если честно, я даже не помню, Татьяна Ивановна она или как-то иначе ее звали.
Потом были еще разные вопросы, и наконец прозвучал самый неприятный для Арачаева.
– Кто такой Авербах Карл Самуилович?
Цанка был рад, что молодой чекист вначале спросил о Щукиной, а потом об Авербахе. Он уже был готов к этому вопросу, теперь он вроде понял, куда клонит следователь. Он ясно представил госпиталь, большую одноместную палату, стройного, подтянутого Карла Моисеевича, его папиросы. Почему-то со временем Цанка стал его любить и уважать в душе, и он четко вспомнил его слова: «Главное – это молчать. Молчать всегда и везде. Ты это умеешь».
– Так что вы можете сказать о Карле Самуиловиче Авербахе?
– Ничего, – быстро ответил Арачаев, глядя прямо в глаза чекиста.
– А о Щорсе, Николае Петровиче?
– Тоже не знаю такого. Что мне врать?
Завязалась отвратительная для Цанка беседа. Чекист «прижимал его к стенке», действовал нахально, жестко, упорно.
– Так что, вы не помните, кто вас допрашивал в госпитале?
– Помню, – наконец сдался Арачаев, – только фамилии и имени не знаю.
– Как это? – удивился чекист.
– Вот так – не знаю.
– Это ложь, и вы все вспомните, как только попадете в Грозный.
После этой угрозы Цанка встрепенулся, принимая вызов, исподлобья, жестко впился глазами в следователя.
– Они мне не представились, и я ничего о них не знаю… Вы-то ведь тоже не представились.
Эти слова кольнули молодого чекиста, он вскочил, закурил папиросу, потом вышел. Арачаев посмотрел на своего старого знакомого, смуглокожего Муслимова.
– Слушай, что он от меня хочет? – спросил он на чеченском языке.
– Нэ знаю, – ответил на русском Муслимов.
Минут через десять молодой человек вернулся, неся с собой какую-то папку. Скрывая записи от Арачаева, он долго в ней рылся. Видимо, не найдя, что надо, бросил на дальний край стола. Потом вопросы касались корабля, чемоданов, встречи в порту и дороги от Новороссийска до Грозного и Дуц-Хоте. Цанка отвечал односложно. Говорил, что многое уже не помнит. Врал обо всем.
Когда молодой чекист подписал пропуск на выход, удивился не только Цанка, но и Муслимов. Бежал Арачаев домой – ног не чувствовал. Вечером опечаленные родственники сидели вокруг Цанки в доме матери. Табарк и Келика плакали, братья советовали бежать в горы, в Нуй-чо, где когда-то скрывался Баки-Хаджи. Однако Цанка на следующее утро двинулся в Грозный, к своему другу Курто. В пути ему повезло, от Махкетов ехал на грузовике. Сидел в открытом кузове под моросящим, холодным мартовским дождем.
После обеда был он в городе, возле дома друга. Заходить боялся, хоронясь, ходил возле подъезда, пытаясь перехватить Курто на улице. Когда окончательно стемнело, увидел знакомую походку Зукаева, тот шел, покачиваясь, неся в руках какой-то большой сверток.
– Курто, – окликнул его Цанка.
Зукаев крайне удивился, всем своим видом выражал отчужденность и безразличие к бедам друга, от него несло спиртным. Поняв это, Цанка совсем сник, в душе разозлился, хотел уйти.
– Ты куда? – очнулся Курто. – А ну стой.
Насильно он потащил Цанку куда-то в сторону от центра, в район частных кварталов. По пути объяснял, что у них сегодня гости и поэтому не приглашает в дом, а хочет, чтобы Цанка переночевал у его работницы, одинокой русской женщины. Минут через двадцать были на месте. Ворота открыла сухая, довольно бойкая для своих лет пожилая женщина.
– Антонина Михайловна, это я, – как бы в шутку, развязно говорил Курто, – еще раз здравствуйте. Это мой друг, из родного села. Можно он у вас переночует?
– Да-да, – быстро ответила женщина, было видно, что это ей не впервой.
Курто ушел. Условия ночлега у Цанки были роскошные: ванная, вода, сытный ужин, свежая постель и беспробудный, крепкий сон. Утром его разбудил Курто.
– Ну, ты дрыхнешь! – восклицал он. – Так, мы пошли на работу. Ты жди меня здесь. Из дому не выходи. Поешь сам. Ничего, не стесняйся, Антонина Михайловна работает у меня на складе, свой человек. К обеду вернусь. У меня возникла одна идея. Не знаю, может, что получится.
Вернулся Курто через пару часов.
– Ты в школе кем числишься? – спросил он с порога.
– Сторож-истопник, – ответил Цанка.
– Так, а директор кто?
– Молодая русская девушка.
– Она может дать тебе справку, что ты работаешь учителем?
– Не знаю.
– Короче, нужна эта справка. Вот такой формы, – и Курто протянул Арачаеву листок. – Сделаешь – отправим тебя в Ростов-на-Дону повышать квалификацию. Девятимесячные курсы начались первого марта, но ничего, тебя и еще несколько человек пошлем дополнительно. С тестем я договорился. Ты доволен?
– Еще бы, – глаза Цанка радостно светились.
– Тогда давай, мчись в Дуц-Хоте.
Поздней ночью Цанка был дома. Все рассказал брату.
– Нечего откладывать на завтра, – загорелся Басил. – Надо сделать сейчас, а утром тронуться обратно. Мало что может быть. Эти гады в любую минуту могут нагрянуть или повестку вручить.
– Как я ночью сделаю?
– Обыкновенно, пойди к Авраби. Ты там всегда свой.
Цанка чуть подумал, встал.
– Правильно. Я постараюсь, – выдохнул он устало, чуть погодя добавил. – А если она не напишет справку? Ведь ее могут за это наказать.
– Ничего с ней не будет, – возмутился Басил. – Давай я пойду к ней.
– Не надо, – печально сказал Цанка.
Далеко за полночь, сопровождаемый лаем окрестных собак, пробирался он вдоль заборов, по колено в грязи, как вор, как преступник. Боялся в собственном селе, там, где вырос, где много веков до этого жили его предки.
У ворот Авраби остановился в нерешительности. Почему-то вспомнил ту ночь, когда он возвратился после побега из-под расстрела. Вспомнил, как радостно встретила его тогда Кесирт, блеск ее глаз, ее незабываемую улыбку. На душе стало муторно, тоскливо. Чувство горечи сжало до боли грудь, не давало дышать. «За что эти страдания? – подумал он. – Может, уйти в лес, в горы, и воевать со всеми, кто искалечил нашу жизнь… Нет, нельзя. За мной семья, дети, родственники. Если уйду в горы, то навечно останусь абреком, я не хочу всю жизнь бегать, от кого-то скрываться, подвергать опасности близких. Будь что будет. Надо хотя бы попытаться, а там посмотрим. Бог милостив».
Тихо прокрался к дому. Постучал нерешительно в окно. Тишина. Постучал вновь. Услышал какой-то шорох внутри, потом тревожный голос Кухмистеровой. Видимо, она хотела разбудить Авраби.
– Элеонора Витальевна, – сдержанно отозвался Арачаев, – Элеонора Витальевна, это я – Арачаев.
Наступила тишина. Слабая тень прильнула к маленькому плотно завешенному на зиму окну.
– Это вы, Арачаев? – испуганно спросила директор.
– Да.
– Что случилось?
– Да у меня дело к вам. Откройте, пожалуйста, дверь.
Проснулась храпевшая до этого Авраби, было слышно, как она ворчала, спросонья ругалась. У двери, суетясь в потемках, возилась Кухмистерова. Наконец засов заскрежетал, и после продолжительного скрипа появилась Элеонора Витальевна, босоногая, с накинутым на плечи пуховым платком.
– Что случилось? – озабоченно спросила она.
– Вы меня извините, пожалуйста, – начал Цанка, замялся, потом выпалил. – Вы могли бы мне помочь?
– Чем?
– Мне нужна справка о том, что я работаю учителем в школе.
– Прямо сейчас?
– Если вы дадите эту справку, то сейчас.
– Я сейчас оденусь.
– Погодите, Элеонора Витальевна, это ведь может иметь последствия.
Кухмистерова задумалась, видно было, как в темноте она съежилась, крепче сжала платок.
– Я сейчас оденусь, выйду.
Недлинный пологий путь до школы преодолевали тяжело. Вязкая весенняя грязь липла к обуви, мешала идти, скользила. Несколько раз падали, потом, не говоря ни слова, взяли друг друга за руки, поддерживали. Так молча дошли до школы под дружный лай собак. Долго будили сторожа – старика Мовтаева. Появление директора и Цанки его сильно удивило, он стал жаловаться на чеченском.
– Цанка, где ты пропадаешь столько дней? Я не могу по-человечески ни по нужде сходить, ни помолиться.
– Ничего, ничего, – успокаивал его Арачаев.
– Что-нибудь случилось? – встревожился он.
– Нет. Принеси лампу в директорскую.
Под прыгающий свет керосиновой лампы Элеонора Витальевна изучала бумагу, принесенную Цанкой от Курто, не поднимая глаз, спросила:
– Точно так же?
– Да, – вяло ответил Арачаев.
Кухмистерова достала из кармана шубы ключи, полезла в маленький металлический шкаф, стоящий в углу. В это время заглянул Мовтаев, поманил Арачаева рукой:
– Пока вы здесь, я сбегаю домой, скоро приду, закрой входную дверь, – прошептал он.
Элеонора Витальевна старательно заполняла справку. Закончив, передала Арачаеву.
– У вас в Грозном знакомые? – спросила она неровным голосом.
– Да.
– Значит, вы уезжаете?
Цанка не ответил, увидел, как Кухмистерова опустила голову, маленькая слеза блеснула на ее щеке. Он нежно обнял ее, успокаивал, благодарил, говорил, что его друзья в Грозном – большие начальники и они могут сделать все, даже перевести Элеонору Витальевну обратно в столицу. Он страстно говорил, врал и ей и себе, просил, чтобы она вместе с ним шла утром в город. Весь этот разговор сопровождался поцелуями. Потом Цанка торопливо задул керосинку…
Вернувшийся Мовтаев долго стучал в дверь, заглянул в темное окно директора, все понял, в злобе сплюнул, закурив, сел у входной двери, ждал, пока молодые не вышли.
Наутро Арачаев и Кухмистерова двинулись в Грозный. С транспортом им не повезло, в городе были поздно. У дома друга Цанка стоял в нерешительности долго, стеснялся поделиться унизительными мыслями с попутчицей, потом, не найдя выхода, вошел в подъезд.
К радости Цанки, дверь открыл Курто. Он опять был навеселе. Увидев друга детства, Зукаев радостно засмеялся и стал втаскивать его в квартиру. Арачаев объяснил, что не один, а с директором школы.
– Тем более заходите, – кричал Курто.
Раздеваясь в прихожей, Цанка видел, как из кухни за ними подглядывала жена Курто – Раиса. Встречать гостей она не вышла. Проводив Цанка и его попутчицу в гостиную, хозяин познакомился с Элеонорой Витальевной, с удивлением рассматривал ее одеяние, потом исчез. Было слышно, как он о чем-то спорил с женой, потом резко хлопнула входная дверь. Растерянный Курто вновь появился с гостиной.
– Побежала к родителям, – виновато промолвил он, махнул рукой, полез в шкаф, потом принес из кухни разнообразную, давно не виданную гостями закуску.
Только собрались сесть, как раздался звонок. Хозяин вышел, прикрыв дверь гостиной. В коридоре стало шумно. Цанка узнал властный баритон тестя Курто, женские голоса. Гости из Дуц-Хоте сидели понуро, знали, из-за чего перебранка. Только когда услышали громкое «голодранцы», оба встрепенулись, встретились глазами – в них были бунт и обида. Неожиданно Элеонора Витальевна встала, подошла к фортепьяно, подняла крышку, села удобно на стоящий рядом круглый стул, потрясла пальчиками и вдруг ударила резко раз, другой по клавишам, сделала паузу, прислушалась и потом побежала с бешеной скоростью по черно-белым костяшкам. Такой музыки Цанка никогда не слышал. Раскрыв рот от удивления, он впился глазами в Кухмистерову, позабыл все на свете. А она разыгралась – злость, отчаяние и протест были в ее движениях, в этих ритмах. Музыка переливалась, заполнив все вокруг, заглушив пошлость, мещанство благополучного дома.
Двери распахнулись, толпа с раскрытыми ртами ввалилась в гостиную, а Кухмистерова все играла и играла, вначале быстро, яростно, зажигательно, потом медленнее, все мягче, лиричнее, тише, задушевно-томяще. Когда она перестала играть, наступила какая-то неестественная тишина, стало пусто.
Тесть Зукаева подошел вплотную к Кухмистеровой, чуть наклонился.
– Где вы научились так играть? – деликатно спросил он.
– В Дуц-Хоте, – грубо ответила она и резко тронулась к выходу. Следом двинулся Арачаев.
На улице их догнал Курто. Он отрезвел, проклинал тестя и тещу, грозился избить жену, развестись.
По темным узким улочкам, иногда обмениваясь репликами, дошли до Антонины Михайловны. Там много пили водку. Курто все восхищался игрой Элеоноры Витальевны. Теперь все называли ее просто Эля. Потом он стал показывать и воспроизводить голосом манеру игры своей тещи и жены. Все смеялись до слез, падали со стульев. Радовались не столько рассказу, сколько свободе общения, взаимопониманию. В полночь мужчины легли спать вместе, а женщины еще долго сидели на кухне.
Засыпая, Цанка сказал другу, что тот много и часто пьет.
– Ты знаешь, не пить нельзя. У меня работа такая, – отвечал сонно Курто. – Если чеченец не пьет, то это признак религиозности. А если честно, то не пить – тяжело. Знаешь, сколько сумасбродства?
Наутро Кухмистерову во избежание неприятностей решили отправить в Дуц-Хоте. Антонина Михайловна и Курто обещали ей помочь, заботиться о ней. Цанка весь день сидел в чужом доме, вечером появился запыхавшийся Курто.
– Одевайся, – крикнул он прямо с улицы. – Твой поезд отходит.
На вокзале, у вагона, вручил он Арачаеву направление на девятимесячные курсы повышения квалификации работников образования.
– Вот адрес института, смотри не потеряй. Скажешь, что опоздал по болезни. Это билет на поезд, заходи, а то скоро отходит, – торопливо говорил Зукаев.
Неожиданно он исчез, даже не попрощался. Цанка удивился, рассматривал с любопытством попутчиков, в душе радовался, не верил в случившееся. Вдруг, расталкивая пассажиров, влетел Курто, в руках он держал сверток.
– Это на дорогу, – сказал он, вытирая пот со лба.
Затем Курто скинул с себя дорогое пальто с каракулевым воротником.
– Это тебе в подарок… И вот еще деньги.
Поезд тронулся. Курто на ходу спрыгнул с вагона, долго шел следом, махал рукой. Мелкий дождь капельками ложился на его красивое, с горькой усмешкой лицо. Может быть, из-за дождя Цанке казалось, что его друг детства плачет…
…Больше они не виделись никогда… Только девятнадцать лет спустя, в 1958 году, Арачаев, узнав о судьбе друга, горько плакал. Это была последняя нить, связывающая его память со счастливым детством, с беспечной и сытой юностью. И она оборвалась… В сентябре 1939 года Зукаева Курто направили учиться в Высшую партийную школу в Москву. С началом Великой Отечественной войны он добровольцем ушел в Красную Армию, дослужился до замполита полка и имел звание подполковника. В боях под Курском Зукаев потерял обе ноги, почти полностью зрение, а вернувшись калекой, он был депортирован вместе с родным народом в североказахстанские степи. Там он и умер в феврале 1945 года от цинги, голода и тяжелых ран…
* * *
Во время обучения в Ростове-на-Дону Арачаев Цанка узнал другую сторону советского строя. О такой жизни он даже не мечтал. Кирпичное новое просторное здание института было расположено в вечнозеленом парке города на живописном берегу Дона. Все было новым, добротным, основательным. Учиться было интересно, хотя получившему кое-какую грамоту в грозненской тюрьме Арачаеву было очень тяжело. Однако он не пасовал. Учился, с удовольствием стремился к знаниям. Единственное, что удивляло Цанка, так это то, что учиться надо, а думать и анализировать нельзя, за тебя все продумано, выбрано единственно верное решение, указан правильный, светлый путь.
Здесь впервые Цанка увидел кино. Впечатление было необыкновенным. В целом досуг был насыщенным до предела. Два раза в неделю кино – во вторник и в четверг. Два раза танцы под духовой оркестр – в пятницу и субботу вечером. Иногда возили в театр. Питание было сытым, щедрым. Жилье в общежитии – чистым, теплым.
Короче говоря, окунулся Цанка в жизнь советской привилегии и дармовщины. И если бы он, как другие студенты, не знал обратной стороны медали, если бы не было жестоких уроков молодости, то он бы тоже, как и все остальные, стоя на коленках, молился бы на портреты Сталина, развешанные во всех кабинетах института.
Однако свои чувства и настроения Цанка никому не высказывал, мало с кем общался, просто учился и получал наслаждение от всего этого процесса. В этой беззаботной жизни были островки еще большего счастья. Часто писали дети. Дакани и Кутани, соревнуясь друг с другом, присылали почти каждую неделю письма отцу, рассказывали с детской непосредственностью все подробности жизни родного села. Два письма получил от Кухмистеровой. В первом были грусть, печаль, тоска, а во втором – радость: благодаря заботам Курто ее перевели в Грозный, и теперь она стала жить временно у Антонины Михайловны.
Эта идиллия с томящей ностальгией по ночам продолжалась до начала войны с Финляндией. Всё в один день перевернулось. Всё закружилось, завертелось. Сразу все стали озабоченными, устремленными на подвиг и ратные дела. Организовали собрание. В большом актовом зале собрали всех. На сцене в ряд сели какие-то приезжие люди в военной и в гражданской форме. Долго говорили по очереди об одном и том же. Потом слово взял директор института – человек грузный, большой. Он говорил то же самое, а в конце заявил:
– Товарищи, мы должны оправдать доверие партии и правительства. Вот в сегодняшней газете первый секретарь нашего обкома партии в открытом письме товарищу Сталину заверил, что все жители нашего края как один встанут на защиту родного Отечества. Так ли это?
В зале раздались одобрительные возгласы, стали хлопать, в первых рядах все встали. За ними поднялись и остальные. Аплодисменты и крики «Да здравствует Сталин» не утихали еще долго. Потом на сцену рвались ораторы из подготовленных заранее активистов института. Они подогрели толпу, и тогда хлынули все к сцене. Каждый стремился выступить, доказать свою верность и преданность Родине и Сталину. Сидевший в задних рядах Цанка был удивлен этим необузданным порывом и энтузиазмом, этим оголтелым, слепым рвением. Он почему-то вспомнил, как в детстве, когда пас отару овец, всего два-три козла могли поблеять, уйти пастись в лакомые для них кусты, и все бараны устремлялись за ними, а там, в густых зарослях, и травы нет, и волки в засаде, да и просто глупые бараны терялись.
Потом вскочил парторг, поднял в экстазе руку.
– Тихо, – крикнул он, наступила тишина. – Кто согласен записаться добровольцем?
Зал яростно, в одобрении загудел.
– Иначе и быть не могло! – кричал парторг с серьезным, устремленным вдаль, одухотворенным лицом.
– Вот это коммунист!
– Вот идеал!
– Это истинный тип советского человека-патриота, – говорили студенты в зале, яростно аплодируя, со слезами на глазах глядя друг на друга, обнимаясь.
Через день погрузили всех в грязные вагоны, повезли в Воронеж. Сутки эшелон стоял в степи. Было холодно, не кормили. Недлинный путь до Воронежа ехали двое суток. Всего два раза дали сухой паек.
На вокзале в Воронеже их никто не ждал. Сутки слонялись по городу. Через день стали всех собирать, недосчитались четырнадцати человек. Потом шли двадцать километров пешком до воинской части. Там была полная неразбериха: еще три дня жили, ели, спали как попало. Только на четвертый день переодели в военную форму, распределили по ротам.
В своей роте Арачаев был самым старым и самым длинным. В первую же ночь молодой лейтенант стал гонять их вечером на «отбой» и «подъем». После третьего раза усталый Цанка не встал.
– Где этот длинный? – прокричал офицер. – Пока он не встанет, будете выполнять приказы. «Отбой»… «Подъем».
Так продолжалось еще минут двадцать, пока не появился полковник в сопровождении двух офицеров.
– Почему нет отбоя? Уже одиннадцать часов, – гаркнул он.
Лейтенант доложил по уставу и потом указал на Арачаева. Цанка не вставал. Группа офицеров подошла к нему.
– Встать! – прокричал полковник.
Цанка вскочил, торопливо оделся, встал в строй. Полковник подошел к нему вплотную.
– Как фамилия?
– Арачаев.
– Откуда родом?
– Из Грозного.
Наступила пауза.
– Сколько лет?
– Тридцать четыре.
Полковник обернулся к лейтенанту.
– Что, не видите, взрослый человек? Ему не двадцать лет, чтобы до утра «подъем-отбой» исполнять, – сказал он и тронулся к выходу.
На следующий день Арачаев узнал, что это был командир полка, полковник Алан Тибилов, осетин.
Ровно месяц муштровали. Каждую ночь по два-три раза поднимали по тревоге. Через месяц всем перед строем торжественно дали звание лейтенанта, только Арачаеву и еще нескольким особо присвоили звание сержанта. Позже Цанке объяснили, что его дело «зарезал» особый отдел.
Вечером Цанка сидел в курилке. Ему было стыдно и обидно. Его однокурсники, молодые ребята, все стали офицерами, и он теперь должен будет им подчиняться и отдавать по струнке честь. В это время мимо проходил командир полка Тибилов в сопровождении группы офицеров. Он увидел Арачаева, подозвал к себе. Стоявший, как и все, по стойке смирно Цанка бросил окурок, четко, как положено по уставу, строевым подошел к полковнику.
– Вольно, – сказал Тибилов, взял его за локоть, отвел в сторонку.
– Земляк, со званием так вышло – я не виноват. Хочешь у меня служить или перераспределиться?
– Хочу, – буркнул Цанка.
– Ну и хорошо. Молодец! – Тибилов стукнул его по плечу, улыбка рассияла на его круглом красивом лице.
Через неделю были в Ленинграде. Стали выдавать оружие. Арачаеву, как самому длинному, вручили ручной пулемет, солдатам раздали карабины и по пять патронов. После этого шли пешком длинной колонной много дней. В первые несколько суток было не тяжело – держали путь вдоль дорог, потом пошли по покрытым льдом болотам, глубокому, рыхлому снегу. Недели через две, прямо на переходе, полк с фланга атаковали финские войска. Необстрелянные, не знавшие пороха, застигнутые врасплох солдаты и младшие офицеры испугались, не слушая команд, заметались, начался хаос, паника. Слышались беспорядочные выстрелы, крики, мат, ржание лошадей. Несколько орудийных снарядов противника плотно легли в самую гущу колонны. Этого было достаточно, чтобы вся масса, сломя голову, понеслась в стороны, рассыпалась. Арачаев видел, как с вылезшими на лоб глазами, с пистолетом в руке бегал, кричал в ярости Тибилов, пытаясь сдержать колонну, навести порядок. В это время рядом с ним разорвался снаряд. Когда дым, снег, грязь улеглись, подбежавший к воронке Цанка увидел окровавленное тело командира. Звать на помощь было бесполезно: людьми овладел неудержимый страх. Тогда еще не зная, живой командир или нет, Цанка подхватил Тибилова, взвалил на плечо и понес к ближайшему перелеску. Когда стемнело, раненого полковника Арачаев сумел дотащить до ближайшего полевого лазарета. После он присоединился к поредевшему полку. От боевого подразделения осталось только название. Всех бойцов повели обратно под Ленинград, здесь уцелевших присоединили к другому полку. В те же дни, к крайнему удивлению Арачаева, во время утреннего построения полка его вывели из строя. Молодой, красивый генерал – командир дивизии – от лица командования фронта высказал Арачаеву благодарность, наградил медалью «За отвагу», трижды расцеловал, присвоил звание старшего сержанта. Радости и восторгу Цанка не было предела. В душе он ликовал. Однако и это было не все. В центральной газете появились его фотография и небольшой очерк о его подвиге. Эту газету он бережно свернул, положил во внутренний карман гимнастерки.
Пока новый полк комплектовался и подготавливался, война кончилась. Арачаева направили в распоряжение коменданта военного гарнизона Ростова-на-Дону. Там его демобилизовали, вновь направили в институт повышения квалификации. В уже ставшем родным учебном заведении встретили его с музыкой, цветами, с почетом. Однако учиться дальше не пришлось: вручили диплом, грамоту, сфотографировали для Доски почета и направили в Грозный, в распоряжение наркомата образования.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































