Текст книги "Прошедшие войны. II том"
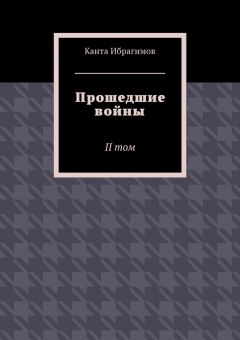
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
За разговорами подошли к роднику, к месту, где когда-то стояла мельница Хазы, спустились к воде. Арачаев вспомнил всё: свое беззаботное, счастливое детство, свою юность, любовь к Кесирт, ночные свидания… Защемило сердце… Цанка разулся, полез в воду, пригоршнями черпал, с наслаждением пил, потом обмывал лицо, руки, очищал от глины одежду.
Потом оба сели на краю родника, свесив с берега ноги. Любовались стремительным течением воды. Вокруг пели птицы, жужжали, звенели насекомые. Растения по весне набирали силы, цвет. Пахло цветущей акацией и каштаном. Большими белыми соцветиями распустилась айва, благоухали в весеннем соку мушмула и боярышник. Длинные ветви ежевики сползли к воде, игрались с потоком, прыгали.
– Как здесь красиво, – тихо повторил Цанка.
– Да, места ваши сказочные, – мотнул головой дед.
– А что, старик, скажи правду, народ ваш рад, что нас выселили?
– Да как тебе сказать… Может, и рад. Ведь на готовое пришли: дома есть, сараи есть, богатые земли есть! Что еще надо? Но это обман. Слезы и проклятия ваших матерей просто так не пройдут. А вы все равно вернетесь.
– Дай Бог! – вздохнул Цанка, немного помолчал, и вновь спросил: – Ну а скажи честно, как здесь без нас, лучше стало?
– Хе-хе-хе, – усмехнулся старик, – понимаешь, сынок, представить Кавказ без вас невозможно, ведь вы, чеченцы, как волки – санитары леса: с вами тяжело, но и без вас худо.
Эти слова рассмешили Цанка, он смеялся долго, от души.
– А ты, дед, хорошо говоришь по-чеченски.
– Да, мы, старые андийцы, все знаем чеченский… И мы, и аварцы, и даргинцы, и кумыки и многие другие знают чеченский, и он служил языком общения, а вот вы, чеченцы, никогда не знали наших языков, только русский. А знаешь почему это?
– Почему? – спросил Цанка.
– Потому что чеченцы здесь верховенствовали, были доминирующей нацией. И поэтому все остальные, угождая вам, учили ваш язык, а вы нас за людей не считали, вы уважаете только силу, поэтому вы учили русский. Вон посмотри, все дагестанцы говорят по-русски с акцентом, а у вас этого мало. А сами русские никогда не учат язык покоренных и вассальных народов. Зато преклоняются перед немецким, английским. Короче, какой народ сильнее, тот язык и учат, и он живет. А когда умирает язык – нет народа.
– По-твоему получается, что мы все в конце концов станем говорить по-русски? – спросил озабоченно Цанка.
– Да… Может быть. Хотя мне это очень прискорбно. Но это неизбежно, вон посмотри, мои внуки по-русски лучше говорят, чем на родном… Я думаю, что в скором времени в мире будет всего три-четыре языка, это будет зависеть от потенциала той или иной нации. А потом останется один язык, как он был в истоке человеческом. Ведь Адам и Ева говорили на одном языке, а потом с ростом населения стали появляться разные языки.
– А почему они стали появляться? Почему на разных языках заговорили люди?
– Я думаю, что все это от вранья. Люди стали говорить неправду, и язык стал раздваиваться, и он все ширился, ширился, изменялся, множился. И чем больше язык врет, тем больше людей на нем говорят и, значит, больше земли они занимают.
– Так, значит, по-твоему, андийцы честнее чеченцев, а чеченцы честнее русских?
– Да, так оно и есть: чем меньше народ, тем чище его язык, там наивнее и естественнее его взгляды, мысли, действия. Можно сказать, что этот народ глуп и необразован. А на самом деле этот народ кристально честен, верит в слово и верен своему слову.
– Тогда почему малые народы исчезают с земли, вымирают? Почему Бог не сохранит их на Земле?
– Земля – грешна, и, видимо, Бог забирает в другие миры и лучших и, разумеется, худших.
– Так, значит, получается: чем величественнее народ, чем больше у него земли и богатств, тем он лживее.
– Да, все богатство, все земли, колонии приобретаются путем насилия, обмана и алчности.
– Так я не хочу, чтобы мой язык, мой народ исчезли с земли, – воскликнул в возбуждении Цанка.
– Я тоже не хочу, – ответил старик, – но это неизбежно. А народ не исчезнет, он ассимилируется в новую формацию.
– Такого никогда не будет! – вскричал Арачаев.
– Не дай Бог! Но я одно знаю: когда в молодости мне сказали, что будут летать железные птицы – я не верил, и что будут говорить через сотни километров – я не верил, что будут показывать человека через горы – я не верил, а теперь все это реальность.
– Это просто технический прогресс.
– Вот именно, а он трансформирует сознание, быт, культуру, и в первую очередь язык.
– Не верю, – вновь уперся Цанка. – Ну ладно. Допустим… Хотя такого быть не может. А как насчет религии?
– А с религией то же самое. Ведь посмотри, сколько сегодня религий? В одном мусульманстве сколько течений, даже в одном селе – несколько сект. Отчего? Потому что люди искажают слово Божье, как хотят, в свою угоду.
– Не люди, а муллы, попы – то есть духовенство.
– Не все. А некоторые, – поднял многозначительно палец старик. – Но люди образумятся и отвергнут все эти лжерелигиозные течения.
– А как насчет язычества?
– Понимаешь, Цанка, человечество должно было пройти через все формы земного бытия, чтобы прийти к истине. Технический прогресс приближает человека к Богу, ставит его на путь истинный, верный, но до Бога человек никогда не дойдет в своем развитии, наступит предел, за чертой которого человечество погибнет.
– А что будет дальше?
– Снова Адам и Ева… Наверное.
– А как насчет коммунизма?
– Это тоже этап развития. Человечество должно было пройти от эпохи многих Богов до безбожия, чтобы прийти к истине, к вере в одного Бога. И нельзя считать, что ближе к Богу какая-то религия и отдельно взятый человек. И наверное, ты прав, что такие социальные институты, как церковь, мечеть, синагога и другие не всегда стоят на пути верном, истинном. В вере единого Бога не может быть конкуренции, соперничества, и вера должна быть не на кончике языка, и тем более не в форме одежды, а в самом сердце.
– А коммунизм исчезнет?
– Да, в муках человеческих, – спокойно ответил старик.
– Так, значит, дед, если язык один, то и религия будет одна? – не унимался Цанка.
– Да, сын мой, один Бог, одна религия, и один язык, на котором мы будем говорить с Богом… Тогда в мире наступят согласие, мир, земной рай.
– Неправда, – Цанка в возбуждении встал. – Посмотри, какой мир пестрый, многогранный! Его таким создал Бог! И он прекрасен!
– Но посмотри, как все друг друга грызут, угнетают сильные слабых, какая идет борьба.
– Правильно, борьба – это развитие.
– Да, именно в борьбе, пройдя все этапы развития, мы придем к единству во всем.
– И борьбы, и войн не будет?
– Нет. Зачем? Ведь мир богат. Просто надо умерить свои аппетиты. Зачем нам этот хрусталь, эти ковры, эти машины?
– Хе-хе-хе, – усмехнулся Цанка. – Как это зачем? Нет, дед, ты не прав. Когда на наш народ нападает внешний враг – мы объединяемся. Как только нет внешней агрессии – мы враждуем между собой. Значит, без борьбы нет единства, без единства нет борьбы.
– Дорогой Цанка – это из философии. Это закон общественный…
– Нет, дед, это закон естественный, – перебил его Цанка, – а если честно, то кое-что в твоих взглядах – верное, но с одним я не соглашусь. Мой народ есть, был и должен быть!
– Дай Бог!
– Посмотри, как многолик мир! Таким он и должен остаться. А если пойдет, как ты говоришь, к единому образцу – то мир действительно прекратится. Только многообразие взглядов, видений и мышлений может привести к природному, естественному равновесию, к балансу, – говорил в азарте Арачаев. – Вот посмотри, как только нас выселили, даже форель в роднике исчезла, а еще лет через десять много чего исчезнет, в том числе и ваш андийский народ…
– Правильно, что-то каждый день исчезает на земле, и мы идем к единообразию во всем.
– Так ведь и нарождается новое, – воскликнул Цанка.
– Новое в технике, но не в природе. Природа чахнет, под гнетом людей, а люди бегают за несметными богатствами, а эти богатства можно получить только выжимая соки из земли, из окружающей среды, а она не бесконечна.
– Короче, дедушка, – махнул рукой Цанка, – ты, видимо, очень образован и начитан, а у меня другие проблемы – более земные. Пойду я.
– А куда ты пойдешь?
– В горы. Мне тоже надо хорошенько подумать. Я много пережил. Мне не о вечном, а о насущном надо подумать. Но тебе все равно спасибо. Отвлек ты меня от моих горестных мыслей. Значит, говоришь, все погибнем? Конечно, и до нас умирали. Лишь бы не видать горя младших, а остальное всё логично и банально.
– Да, ты прав, видеть горе младшего собрата, особенно утрату ребенка, – это невыносимо. Ты, видимо, знаком с этим?
– Я потерял всех – и младших, и старших. Остался один в роду. Правда, судьба одного сына неизвестна, а впрочем, я ни во что хорошее не верю.
– Не говори так, не говори, да благословит Бог всех умерших, но все мы смертны, и говорят, что лучшие сходят с этой грешной земли раньше.
– Ха-ха-ха, – засмеялся Цанка, – значит, ты, дедушка, не из лучших?
– Ну что поделаешь, – развел руками старик, и тоже чуть улыбнулся, – кто-то должен страдать. А вообще-то все в жизни относительно. Устал я, молодой человек, пойду домой.
Старик, тяжело кряхтя, встал, отряхнул одежду, медленно повернулся и направился к селу.
– Дед, – окрикнул его Цанка. – Как тебя зовут?
Андиец остановился, сделал полуоборот.
– Анди-Хаджи из Ботлиха.
– Так ты, значит, Хаджи? Вот почему так грамотен, – чуть приблизился к нему Арачаев.
– Да, я совершил Хадж задолго до твоего дяди Баки-Хаджи.
Цанка подошел еще ближе к старику, выставил вперед палец, как бы наставляя собеседника.
– Ты меня извини, Анди-Хаджи – теперь из Дуц-Хоте, – сказал он твердо, – но, при всем моем уважении, я хочу сказать одну непреклонную истину: ты идешь не в свой дом. Это наши дома, и наше село, и вы все должны помнить об этом… – Глаза Цанки блестели решимостью. – И мы обязательно вернемся. Обязательно!
Старик от этих слов совсем согнулся, весь обмяк, не глядел на Цанка, опустил глаза в землю, грузно оперся на посох.
– Ты прав, чеченец… – сказал он тихо. – Знаешь, как мне больно идти в чужой дом, знать, что над тобой висят проклятие и слезы хозяев. Просто дети не оставили… Я сегодня же уеду… Зачем мне такие страдания на исходе жизни? Прости нас, сын… Прощай.
– И ты меня прости… До свидания, Анди-Хаджи из Ботлиха.
Арачаев быстро двинулся вверх по склону к истоку родника, обогнул клокочущий в ярости фонтан, стал подниматься в гору. Тяжело взбирался по тропе, которой когда-то шел с Баки-Хаджи. Горькие воспоминания о прошедшей счастливой жизни вновь охватили его душу, он бежал ввысь, в горы, в чистые альпийские луга, чтобы не видеть и не вспоминать всего этого кошмара.
С трудом он достиг смотровой скалы, тяжело дышал, вновь защемило сердце, в затылке и в висках учащенно бился пульс. Цанка устало сел на молодую, сочную траву, оглянулся вокруг. Как прекрасен и живописен был этот мир, этот родной край! Эти горы! Этот бесконечный, разнообразный горный ландшафт благоухал в весеннем цветении. Озабоченным гомоном голосили птицы, с равнины дул свежий ветерок, а далеко над Эртан-лам сгустились белоснежные, вихреватые облака… И все-таки не получал Цанка радости и наслаждения от всего этого видения, от этой красоты. Не было во всем этом жизни, радости, былого упоения. Он долго смотрел на изуродованное, выкорчеванное кладбище, на с размахом построенную в долине Вашандарой свиноферму, на искривленную дорогу к ней, выложенную из надгробных камней, на игрушечные очертания неухоженных домов Дуц-Хоте. Потом видел, как неуклюжий железный, гусеничный трактор с дымом, с копотью, с остервенением и рычанием перепахивал родное поле – видимо, хотел все перевернуть с ног на голову. У него это получалось. Все шире и шире становилось черное перековерканное поле, все больше и больше сужалась цветущая разнотравьем горная долина Вашандарой. А вокруг одного бездушного трактора бегали семь человек с портфелями, с ручками в карманах, со значками на лацканах. Они внимательно глядели сквозь толстые очки, и подсказывали, и направляли железный трактор по нужному маршруту – так, чтобы не оставить на весеннем поле цветущей травинки, чтобы не кружились над ароматным нектаром бабочки и пчелки.
Чувства бессильной злости, ненависти и вражды вскипели в душе Арачаева ко всем этим нелюдям, исковеркавшим, перепахавшим его жизнь, его судьбу. В ярости он сжал кулаки, напрягся в гневе, а потом собрал во рту едкую слюну и горько сплюнул.
– Будьте вы все прокляты! – закричал он.
Горное глухое эхо раскатисто повторило: «Кляты, кляты, кляты».
Еще долго он стоял, смотрел с отчаянием на родную землю и вдруг подумал: «Все, я стану абреком, я буду мстить, я им не дам покоя и жизни. Я отомщу за своих детей, за своих родителей, своих родных, за свою землю. Этим безбожникам не будет пощады, до последнего вздоха я буду бороться, они не смогут наслаждаться жизнью в нашем райском краю, они не будут пахать наши земли».
С этими мыслями он полез вверх по заросшей скалистой тропе ко входу в пещеру. Резкими движениями разорвав густую, прилипающую к рукам противную паутину, пролез в узкий проход. Долго не мог освоиться в полумраке подземелья. Наконец увидел исходивший с потолка слабый свет, двинулся вперед. Под ногами заскользила вонючая слизь. Цанка оступился, теряя равновесие, одной рукой коснулся чего-то отвратительного, живого, из другой руки выпал чемоданчик, с глухим стуком ударился о каменный пол. В пещере началось что-то невероятное: невообразимый писк, шум, порывистые взмахи; все завертелось, закружилось. Несколько раз о Цанку с силой ударились летающие хищники, он в испуге присел на корточки, закрыл руками голову. Вскоре все угомонилось, наступила странная тишина. Тогда Цанка осторожно встал, осмотрелся. Кругом на потолке в безобразных позах висели отвратительные существа – летучие мыши. Он невольно улыбнулся, даже присвистнул. Что-то стало роднить его с этими тварями, теперь и он будет вести такой же образ жизни: ночью убивать, грабить, а днем отдыхать, может, даже в этой пещере. «Правда, вонь здесь невозможная. Но ничего, привыкну, разведу огонь, кое-что вычищу, – думал он, оглядывая кривые потолки, густо облепленные колониями хищников, – заразиться бешенством я не боюсь – уже давно я сошел с ума, стал ненормальным».
Он отыскал свой чемоданчик, с отвращением дотронулся до липкой, измазанной мерзостью ручки и, невольно зажимая нос, двинулся к противоположному выходу.
На другой стороне горы был иной мир. Какое блаженство! Колонистов здесь не было! И воздух, и цвет деревьев, и пение птиц на этой стороне были краше, сочнее, роднее. Небо было голубое, высокое, бездонное. Воздух – ароматный, ненасытный, здоровый. А цветущий лес шелестел листвой, с радостью приветствовал родного человека. Вдалеке, извиваясь ленточкой, сквозь обрывистое, глубокое ущелье протекала молочная речка Лэнэ, на противоположном склоне, в живописной впадине, сияло озеро материнских слез. Почему-то Цанке показалось, что водоем стал шире, полноводнее. «Да, – подумал он, – много горестных материнских слез вытекло за последние годы».
Нарвал Арачаев молодой травы, подложил под себя, сел на землю, любовался родными просторами, горевал, что нет рядом любимых людей, ныло сердце от переживаний, от невозвратной жизни, от одиночества. Потом пару раз зевнул смачно, потянулся, сомкнул незаметно глаза и забылся в сонном небытии.
…Лежит Цанка и краем глаза видит, как из пещеры выползла длинная, тонкая змея, ядовито шевеля язычком, подползла спокойно к нему, проворно перелезла через руку, забралась на грудь, нахально уставилась в лицо, потом свернулась в калачик и стала расти в человеческий образ. По мере ее увеличения чувствует Цанка, как продавливается его грудь, как тяжело ему становится дышать, как гадок трупный и пещерный запах, как омерзительно смотрит этот образ в его лицо своими выпуклыми глазами сквозь увеличительные линзы очков… О Боже мой! Так ведь это Бушман!
– Да, я, – улыбнулся хитровато пришелец. – Как дела, Цанка? Да. Вижу, что худо. Полысел, поседел, состарился.
– Ты бы пережил, что я, – посмотрел бы я на тебя.
– А что, хуже Колымы разве бывает?
– Хм, Колыма это цветочки, там ты один страдаешь. А теперь у меня горе великое – всю семью потерял.
– Знаю, знаю, Цанка, только не все, что кажется на земле горем, – горе, а счастьем – счастье.
– Это как понять?
– А вот так. Оказывается, люди на земле вообразили мнимые ценности и в погоне за ними жизни не видят, а ценности под носом, доступны и очевидны, но человеческая плоть глупа, ненасытна и кощунственна.
– Замолчи, Андрей Моисеевич, мне надоели сегодня морали. Я всех детей потерял, одиноким остался.
– Знаю, знаю, Цанка дорогой, – улыбался по-прежнему Бушман, – не мучайся так, Бог дал тебе детей, Он и забрал их. Наступит время, и ты, может быть, увидишься с ними, если будешь вести себя хорошо.
– А что, я себя плохо веду? – возмутился Цанка.
– Не знаю, я не Бог, чтобы тебя оценивать, но знаю одно, что тебе надо терпеть…
– Сколько еще можно терпеть? – злобно вскричал Арачаев.
– Успокойся, Цанкочка, недолго. До конца жизни. Ха-ха-ха, – захохотал Бушман.
– И когда эта жизнь проклятая кончится?
– Так, Арачаев, так, – засуетился Андрей Моисеевич, стал сразу строгим, даже вытянулся в недовольстве. – Так говорить нельзя. Категорически нельзя. За такие разговоры нас может наказать Всевышний.
– Хм, при чем тут я и ты? – теперь усмехнулся Цанка.
– Как это при чем – мы давно одной судьбой повязаны, с тех пор как по дороге на Верхоянск сошлись… Помнишь, как мы с тобой в шкуре лошади спали? Вот с тех пор и соединились наши души. Просто ты этого не ощущаешь, потому что ты черствый человек, а я все переживаю и тогда переживал, всегда о тебе забочусь, хожу рядом с тобой.
– Ну и как тебе рядом со мной? – шутливо спросил Цанка.
– По-разному, по-разному, – стал перебирать пальцы физик.
– А как ты себя чувствовал, когда я воевал под Москвой? Небось жарко было?
– Стоп, стоп, Цанка. Не путай. Там, где воюют, убивают друг друга люди, там не до Бога, там сатана в образе людей дерется за мнимые богатства и земли.
– По-твоему, я, мой брат Басил и все красноармейцы – сатана?
– Нет, вы невольные слуги сатаны, а нам туда вход запрещен. В том месте только черти водятся.
– Так ты что, в ангелах ходишь? Или у Бога за пазухой?
– Перестань, Арачаев. Что это за кощунство? Как тебе не стыдно? – замахал руками Бушман. – Не ожидал я от тебя такого.
– А ты, Андрей Моисеевич, с каких это пор стал в Бога верить? – все еще издевался Цанка.
– С тех пор, – в тон ему ответил физик, – как ты меня в потоп кинул.
– Неправда, – вскричал Арачаев, насупил брови, нахмурился, – неправда! Ложь! Лучше бы и меня тогда с тобой унесло. Не знал бы я всех этих страданий.
– Ну, дорогой, извини, – теперь вновь ухмылялся Бушман. – Тогда ты один в живых остался – тебе повезло. И не забывай, что благодаря мне. Так вот, раз ты выжил один из всех, ты теперь и страдай один за всех. Я ведь тебе говорил, что в жизни просто так ничего не бывает: потеряешь одно – найдешь другое, и наоборот.
– Не нужна мне эта жизнь, не нужна – пошел вон, негодяй, – задергался Цанка, закричал в ярости.
Бушман сидел на прыгающей в гневе груди Арачаева, как на необъезженной лошади, держал за плечи собеседника, в страхе моргал глазами, боялся потерять очки.
– Успокойся, успокойся, ненормальный, – говорил он, торопясь. – Что ты болтаешь? Что несешь ересь? Да за такие слова знаешь что можешь получить? Ты даже представить не сможешь!
– Что? Что еще может быть хуже для меня в этой жизни? – кричал с пеной у рта Арачаев. – Что? Ну, скажи мне – что?
– Успокойся – скажу, – убаюкивающе махал головой Андрей Моисеевич.
Цанка замолчал, перестал дрыгаться. Только дышал часто, выдвинул вперед нижнюю челюсть, глазами впился в очки физика.
– Ну, говори, говори. Что меня можно – мучить, насиловать, убить… – уже более спокойно, задыхающимся голосом спрашивал Цанка. – Ну, что еще? Что? все, что можно, было, я пережил. Всё. Ну посчитай сам – две тюрьмы, издевательства, унижения, избиения, две войны, потеря в юности отца, детей, потом…
– Замолчи! – зашипел Бушман. – Замолчи – кому говорю!
– А что ты мне рот затыкаешь? Кто ты такой? Что ты обо мне так печешься? Где ты был, когда я детей терял, брата под танками погубил? Где?
– Если ты сейчас же не замолчишь, то мы оба пострадаем.
– Мне уже некуда больше страдать. Понял? Ха-ха-ха, – захохотал злобно Цанка.
– Ты с ума сошел! Замолчи, – и Бушман стал душить Арачаева.
Цанка был моложе и всегда считал себя сильнее дряхлого физика, он попытался шутя скинуть насильника, но ничего не получилось, руки и все тело были парализованы, не слушались его, не двигались, будто затекли и стали чужими. Арачаев захрипел, тонкие, костлявые пальцы все глубже и глубже впивались в его горло, перехватили дыхание, прижали его к земле, Силы покидали его, он уже терял сознание – из последних сил напрягся, поднял руки, и в это время Бушман отпустил горло и заливисто, едко засмеялся:
– Хе-хе-хе, так что ж ты, Цанка, друг мой, сопротивляешься – не хочешь умирать, борешься за жизнь, любишь ее – «ненавистную»? Что ж ты дергаешься из последних сил?
Арачаев не мог надышаться, сладкий горный воздух свободно стал проникать в его грудь. Он несколько раз глубоко вдохнул, никак не мог отдышаться, прийти в себя.
– Пошел прочь, идиот, – наконец в гневе вымолвил он.
– Пойду, пойду, не волнуйся – только еще посижу с тобой немного. Когда еще увидимся?
– Лучше с тобой не видаться, – недовольно буркнул Цанка.
– Ну, дорогой, я думал, что мы с тобой друзья, а ты, оказывается, изменчив, – сделал недовольный вид Андрей Моисеевич.
– А как мне быть тобой довольным, разве от тебя есть какая польза?
– Ну как нет? – развел руками Бушман, на лоб полезли очки. – А кто тебя спас на Оймяконе?
– Так разве это спасение? Одни страдания!
– Цанка, не богохульствуй, сама жизнь – это страдание. В муках человек рождается, и в муках умирает, и в бесконечных заботах живет на земле.
– А для чего все это? – воскликнул Цанка.
– Для чего – мы все знаем, но забываем. Что на грешной земле посеем – то потом и пожинаем.
– Гм, – усмехнулся Арачаев, – интересно, а что ты там теперь пожинаешь?
– Я пока вишу в воздухе: ни там, ни здесь.
– Это как? – серьезно спросил Цанка.
– А вот так мы с тобой связались, вот теперь по твоей милости я уплыл, но никуда не приплыл, жду тебя.
– Ну и что дальше?
– Ничего. Если ты будешь человеком, то мы взлетим, а если будешь всякую ересь болтать, как теперь, то горе нам вечное… Вот тогда Верхоянск точно раем покажется.
– Объясни, – раскрыл рот Цанка.
– По секрету. Понял?.. Вот как я представляю. Тот, кто был человеком, – полетит к прекрасным звездам. Что там – я не знаю, но плохих туда не берут. А кто человеком не был – тот превратится в микрочастичку и останется в горящих недрах Земли.
– А ты сейчас висишь ближе к земле или к звездам? – озабоченно спросил Цанка.
Бушман опустил глаза.
– Здесь врать нельзя, – печально сказал он, – хотя врать, оказывается, нигде нельзя… Если честно – я ближе к земле, и ты со мной. Так что вытаскивай.
– А мои родственники?
– Мне неизвестно, но то, что дети от грешной земли улетают все, – это точно.
– Так, – занервничал Цанка, – ну и повезло мне с тобой, дружок – балласт чертов. Из-за тебя я могу больше и детей не увидеть?
– Почему из-за меня? – вскипел Бушман. – Что ты понимаешь? Да если бы не я, пошли бы с тобой на дно земное.
– Ой, да замолчи, – перебил его Цанка. – Вон посмотри, даже золото твое, и то своровали.
– Ну и слава Богу, – улыбнулся Андрей Моисеевич, – разве могло это золото добро сделать? Ты вспомни, сколько слез и проклятий на нем. Из земли оно пришло и в землю уйдет. А тот, кто питает к этим блестяшкам слабость, носит и хранит их, тот потерял ориентир в жизни. Это все мнимые ценности, просто иллюзия. А сколько из-за этого крови, пo та, жизней. Просто ужас!
– Хм, – ухмыльнулся Цанка. – Что-то ты теперь иначе запел?
– Если бы повидал с мое – тоже пел бы так же.
– Ой, что ты мог испытать и повидать? Это я перенес все мыслимые и немыслимые страдания на земле этой, большего горя мало кто видел.
– Перестань, Арачаев. Перестань. Не богохульствуй. Я тебя очень прошу. Не губи нас! Не зарывай вглубь! Ты не знаешь великого горя.
– Ну что, что еще может быть? Скажи! – закричал в ярости Цанка.
– Скажу, скажу, – скороговоркой поспешил Бушман. – Слушай и не перебивай. Ну, допустим, пересохнет твой родник.
– Чего? – вскипел Арачаев. – Это немыслимо, это невозможно. Тогда жизнь здесь прекратится.
– Это только начало, – злая ирония промелькнула на лице Андрея Моисеевича.
– Не продолжай, – дернулся в гневе Цанка, – без родника нет села, нет жизни в Дуц-Хоте.
– То-то и оно, любезный, но и это далеко не самое страшное, – с явным удовольствием издевался физик. – А если ваш народ никогда не вернут обратно на родину?!
– А-а-а, – зарычал горец. – Замолчи, замолчи! Не говори так! Такого быть не может!
– Может, может и еще хуже.
– Замолчи! Всё, не каркай, я всё сделаю. Говори!
– Вот так лучше, – довольно улыбнулся Бушман, – а то вы, чеченцы, только о семье, роде, о каком-то тейпе только думаете, а общего у вас мало – вот и получаете палкой по башке.
– Ты это мне хотел сказать?
– Нет. Слушай внимательно, и запомни. Если ты хочешь видеть своих родных и заодно выручить меня, ты должен из души изгнать: ложь, месть, зависть, трусость, злость, азарт.
– Ха, – усмехнулся Цанка, – и это ты мне хотел сообщить? Так об этом мне еще в детстве отец говорил, а потом дядя Баки-Хаджи не раз в Коране читал. Это я давно слышал.
– Слышал, да забыл, – резко перебил его Андрей Моисеевич. – Вспомни, далеко ходить не надо, кто только что хотел мстить, стать абреком?
– А, это только мысли.
– Да-а, «мысли». А знаешь ты, что плохая мысль тождественна плохому действию, а может, даже более этого.
– Так что же, мне надо спокойно глядеть на все эти издевательства?
– Спокойно смотреть нельзя, нужно бороться, но не способом абречества и кровной мести, а всем народом сообща, сплоченно, с умом – других способов нет. И ты не волнуйся, Цанка, этим безбожникам мстить не надо, это жалкие людишки, они великое зло посеяли и соответствующий урожай снимут. Ой, каким обильным и вечным будет этот горестный хлеб!
Наступила пауза, оба молча глядели в глаза друг друга, о чем-то думали, вспоминали пережитое на Колыме. Наконец Цанка нарушил молчание:
– А ты сейчас чем занимаешься или бездельничаешь?
– О, друг мой, я блажен. Я занимаюсь любимой физикой. Ты знаешь, какой я вывод сделал – что мир бесконечен и вглубь и ввысь, так же как и душа человеческая – от низменной до благородной.
Вновь замолчали.
– А ты сильно изменился в душе, – наконец вымолвил Цанка.
– Я тоже многое повидал, – и Бушман по-детски наивно улыбнулся. – Я так скучал по тебе, хорошо, что увиделись.
– Я тоже, Андрей Моисеевич. Извини, что на «ты» разговариваю.
– А теперь мы родственные души. Так что смотри – терпи.
– И долго мне еще терпеть?
– Я ведь сказал – до конца жизни, – улыбнулся Андрей Моисеевич.
– А когда она кончится?
– Этого я не знаю. Прощай, Цанка, мое время истекло. Я люблю тебя, жду и скучаю.
Бушман неожиданно вновь превратился в змею, соскользнул с груди Цанка и пополз к пещере. Арачаев проснулся, открыл глаза и увидел наяву уползающую длинную змею.
– А-а-а! – закричал он в испуге, резко вскочил, побежал вниз по склону, споткнулся о корень, полетел далеко вниз кувырком, обдирая в кровь колени, локти, подбородок. Очнувшись, долго боялся возвратиться обратно – взять чемоданчик.
Еще несколько дней прожил Арачаев в родном краю. Даже весной родные леса были щедрыми и обильными. На самодельные капканы ловил зайцев и куропаток, ел с позабытым удовольствием перезревшую черемшу, сочную крапиву, сладкие корни лопуха, раннюю землянику и тутовник, а сказочно красивыми, погожими горными вечерами с наслаждением пил ароматный чай из душицы и мяты, заедая медом диких пчел.
Ровно пять дней жил Цанка в упоении родными местами, на шестой загрустил, понял, что и на родине делать нечего, если ты одинок и нет вокруг соплеменников, людей, рядом с которыми ты чувствуешь себя свободно, на равных, с кем тебе тепло и радостно.
Долго думая, сомневаясь, мучаясь, он наконец решил вернуться в чужую песчаную пустыню. Перед уходом хотел восстановить всем своим родственникам надгробные памятники из древесных стволов. Потом вспомнил слова Бушмана и скрыто, ночью, поставил один высокий памятник из мощного старого дуба и сделал надпись: «Мы – вернемся!»
…В конце мая Арачаев был в Чиили. Чеченцы, узнав о его поездке, приезжали к нему из дальних областей, расспрашивали о родной земле, о родной природе, воздухе, солнце… Шел восьмой год депортации.
* * *
В марте 1953 года умер Сталин. Огромная страна была в трауре, и только спецпереселенцы радовались несказанно. У небольшого поселка Кзыл-Ту чеченцы организовали большой праздник. Жившие неподалеку немецкие спецпереселенцы и русские в гулянье участвовать боялись – глядели со стороны, удивлялись сумасбродству кавказцев. И только подвыпивший Волошин танцевал больше всех, от души веселился.
В сумерках из райцентра Чиили прибыл усиленный наряд милиции, выстрелами в воздух разогнали гулянье, арестовали нескольких человек, в том числе и Волошина. Наутро всех задержанных отпустили, уже во дворе милицейского участка Петра Ивановича окликнул начальник райотдела майор Свечкин, бывший фронтовик.
– Гражданин Волошин, – говорил он громко, по-военному. – И вам не стыдно! Эти-то понятно – басурмане, враги народа, а вы – кадровый военный, полковник. Как вы можете?! Ведь умер отец народов, величайший из людей, можно сказать, душа и сердце нашей страны. А вы?
Волошин остановился, повернулся лицом к майору, сделал навстречу несколько шагов – его лицо после ночи в карцере было бледно-синюшным, под глазами фиолетовые мешки, на скулах нервно играли желваки.
– Майор, – с усмешкой ответил Петр Иванович, – с каких это пор я стал полковником, я уже пятнадцать лет – советский заключенный. А Сталин – мой враг. Моего отца убили, брата убили, и меня за верную службу шпионом назвали. Всю жизнь погубили. Будь он проклят!
– Арестовать его! – крикнул Свечкин. – В карцер.
Ночью милиционеры жестоко избили Волошина, заперли в одиночном карцере и три дня не открывали дверь. Еще через неделю его освободили: ночью, на руках милиционеры притащили его полуживого домой, бросили на кровать. На следующее утро Клавдия Прокофьевна и Цанка отвезли Волошина в больницу.
После амнистии 1953 года за Петром Ивановичем приехала жена, она отвезла его в Алма-Ату. Там, в январе 1954 года, в деревянном бараке на окраине города, полковник Волошин скончался, так и не оправившись от милицейских побоев и издевательств.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































