Текст книги "Прошедшие войны. II том"
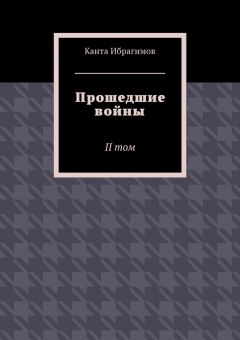
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
– Ты что, старая дура, дрыхнешь? Не слышишь, как ребенок кричит. Неси его сюда. Та, молодая мать, даже не проснется.
Принесла Густан внука, взял Цанка тепленького, мокрого от слез и мочи ребенка на руки, со щемящей любовью прижал к себе, невольно прослезился. Внук еще чуть-чуть обиженно поплакался, что-то проворчал жалобно, всем маленьким, нежным тельцем прильнул к груди старика, голодными губками почмокал, потом от усталости затих, заснул, мерно засопел. Кто бы знал, сколько родного, милого и дорогого было в этом ребенке. Цанка еще долго ходил в сумраке комнаты, укачивал бесценное наследство, свое будущее. «Нет, нет, я не должен лежать, я не могу умирать, не имею права, – думал он. – Я должен поставить это дитя на ноги. Я обязан дать ему дорогу в жизнь. Какой он теплый, жалкий, свой! Какая это радость! Мой внучок – моя надежда! Кроме меня теперь мало кто о нем позаботится. Я должен жить ради него. Я не должен сдаваться». С этими мыслями он еще долго ходил по комнате, укачивал ребенка, любовался им, нежно ласкал, счастливо улыбался.
На заре он встал в решительном настроении, как обычно помолился, только теперь не просил у Бога себе покоя и внезапной смерти без мучений, а просил терпения, здоровья и сил вырастить внука. После этого он тщательно выбрился, надел чистую одежду, хорохористо вышел во двор.
– Жена, – крикнул он. – Почему снег не убрали? Скотину покормили? Ничего не продаем, а наоборот, еще пару коров купим. Буди детей, а сама одевайся, поедем в город, купим внуку новую коляску и одежду. Пока он не окрепнет – нам надо жить. Понятно, старая?.. Чтобы больше траура и слез в моем доме не было…
После траура молодая мать Вахи оставила сына и уехала к родителям в Грозный. А еще через месяц Цанка и Густан поблагодарили сноху за всё и предоставили ей свободу в действиях. Только делить внука ни с кем старый Арачаев не желал.
– Он будет жить только со мной, в Дуц-Хоте, – категорично высказался он в присутствии родителей невестки. – Я понимаю, что мать есть мать. Но здесь дело неординарное. А ваша дочь еще молода и пусть устраивает свою жизнь по-новому.
На старости лет «по-новому» зажил и Цанка. Он стал тщательно следить за своим здоровьем. Понял, что семьдесят лет не конец жизни, а продолжение ее. С весны до середины лета он собирал травы, ягоды, корневища лекарственных трав. Сушил и пил целебный настой. В меру работал: косил, рубил, пахал. Часто ходил по горам на охоту. Все лето купался в роднике, на месте Кесирт. До сих пор любил ее, тосковал. По-новому Цанка стал относиться к воспитанию детей. А Ваха был его отрадой и смыслом всей жизни. Радовал внук деда, рос бодрым, здоровым, с детства смахивал на Арачаевых.
* * *
Летом 1979 года сбылась давнишняя мечта Арачаева Цанки, сын Гелани прислал телеграмму, что он с Артуром выезжает на Кавказ. В каждом письме отец умолял его приехать, сын всё обещал, но в последний момент у него поездка всегда срывалась. И наконец он ехал, да не один, а с внуком!
На Грозненском вокзале долгожданных гостей встречали Цанка и Герзани. Увидел старый Арачаев своего сына и заплакал, так изменился Гелани: совсем облысел, даже брови выпали, осунулся, почернел, согнулся. А внук Артур, наоборот, радовал – вырос, окреп.
В первый же вечер Цанка сказал сыну:
– Ты, видно, болен, оставайся здесь, там тебе делать нечего.
– Да, – отвечал Гелани, – поживу здесь лето, а там видно будет.
Через пару дней сын освоился, раскрепостился и поведал отцу и своем горе.
– Батя, – говорил он на русском языке, – кончилась моя жизнь… С работы уволили, дали инвалидность. Получаю пенсию. Болезнь у меня тяжелая, неизлечимая. К тому же пью много. Жена норовит от меня избавиться: в прошлом году сдала в лечебно-трудовой профилакторий, где алкашей держат. Я там восемь месяцев сидел. Тебе не говорил. Сосед твои письма мне пересылал. Теперь хочет сдать меня в дурдом… А сама, блядина, гуляет направо и налево, даже в мою квартиру мужиков приводит, сама им бутылки ставит.
С каждым словом голос Гелани ослабевал, он совсем поник, тяжело вздыхал.
– Не знаю, что делать, – продолжал он горестно. – Убить ее хочу. Еле сдерживаюсь. Она же хочет меня выкинуть из собственной квартиры. А я болен, слаб. Что мне делать? Сына жалко. Боюсь я за него. Поздно одумался.
Теперь уже и Цанка прослезился, горевал тяжко за судьбу сына.
– Ну что тебе надо? – просил он сына. – Посмотри, всё есть. Сколько земли, природа, горы… Я тебя еще прокормлю, у тебя брат молодой, сестры, свой дом. Оставайся здесь, живи на здоровье и сына здесь оставляй. Не хочешь жить в селе – у нас квартира хорошая в центре Грозного. Если хочешь, я тебя и на спокойную работу устрою. Оставайся, пожалуйста, Богом прошу!
– Да, да, я останусь, – потирал сын лицо, стал серьезным и спокойным.
Две недели Гелани жил, наслаждаясь природой и красотой родного края. Потом не выдержал, никому ничего не сказав, поехал в Грозный. Два дня его всюду, на третий день он приехал сам на такси.
– Батя, заплати, – крикнул он отцу, еле вылезая из машины.
Вид у него был потасканный, под глазом чернел синяк, костюм был в грязи и крови, рукав на предплечье оторван. С этого дня Гелани слег и пролежал более месяца. Густан и две дочери, Дамани и Байхат, днем и ночью сидели возле больного. Цанка ездил в Грозный, привозил в Дуц-Хоте самых важных врачей в республике. Те осматривали больного и разводили руками – «лучевая болезнь, мы бессильны».
Тем не менее Гелани ожил, забегал как ни в чем не бывало по Вашандаройской долине. Каждое утро, как в детстве, он бегал купаться на родник, загорел. На лице появился к концу лета легкий румянец. Вместе с отцом он ездил на сенокос, пас овец, ходил в альпийские луга. О спиртном больше не вспоминал, даже курить почти перестал.
Может, он бы и остался в Дуц-Хоте, но в конце августа пришло письмо. Оксана требовала привезти сына и в конце приписала, что очень соскучилась.
Гелани попросил у отца денег на дорогу и уехал вместе с ребенком в Свердловск. Артур не хотел уезжать, плакал, даже убегал из дому. За лето он сдружился с местной детворой, выучил чеченские слова, облазил все окрестности. А своего двоюродного братика, маленького Ваху, полюбил сердечно. Они весь день бывали вместе и ночью спали в одной кровати.
На вокзале, прощаясь, Цанка и Гелани крепко обнялись.
– Батя, ты за сыном посмотри, если что, – шептал сын старому отцу.
– Это вам надо за мной смотреть, – пытался отшутиться Цанка.
Через месяц Гелани сообщал, что порвал с женой, не пьет, живет теперь в общежитии у товарища. После официального развода квартира остается за Оксаной, зато Артур – с ним. И тогда он вернется навсегда в родное Дуц-Хоте.
Этого не случилось – в октябре 1979 года Гелани скончался. Как только Цанка получил телеграмму о смерти, он отправил в Свердловск родственников. Похоронили Гелани Арачаева на родном кладбище Газавата.
Цанка пытался поддерживать связь с Артуром. Внук ни разу не ответил, только спустя полгода откликнулась Оксана: «Ваши сентиментальности никому не нужны, – писала она, – если любите – высылайте деньги». Деду было горько от таких слов, он продолжал писать внуку, но ответа не было.
* * *
В 1982 году Герзани окончил Грозненский нефтяной институт. По распределению его направили в далекий приполярный поселок в Западной Сибири – Уренгой. Сам Герзани ехать на Крайний Север не хотел, Густан также противилась отправить единственного сына в чужие края. Однако Цанка настоял:
– Пусть поездит по земле, вкус хлеба почувствует, себя проверит, а то что это, сидит у юбки старой матери.
Первые два года Герзани прилетал домой часто, на третий год явился только в отпуск – летом.
– Всё, хватит, – стал возмущаться отец, – покатался по миру и домой пора возвращаться.
– Нет, отец, – теперь заартачился сын, – у меня там работа, высокая зарплата. Скоро получу квартиру, тогда посмотрим.
– Нечего там делать, – перешел на крик Цанка. – Дома заработанный рубль дороже, чем десять на чужбине.
– Там у меня договор, и я не могу подвести коллектив, к тому же работа мне нравится… Еще годик поработаю и, наверно, вернусь.
– Да что это такое? – стал возмущаться старый Арачаев. – Раньше нас под дулом винтовки возили в Сибирь, а теперь эти молокососы сами туда рвутся.
– Времена, отец, не те, – смеялся Герзани.
Как ни старались старые родители, ничего у них не получилось – сын хотел работать на Севере. Тогда Цанка выдвинул жесткое условие:
– Передай сыну, – говорил он жене, – что отпущу, если он сейчас женится.
– Сам хочет, – улыбалась Густан.
– Есть невеста? – поинтересовался Цанка.
– Да, встречается с Зукаевой Балукой.
– Это внучка брата Курто?
– Да.
– О-о, молодец сын! Вот это выбор. Я сам ее для него присматривал, – довольно сощурился старик.
– Ты-то, старый, что на девок глазеешь? – злилась Густан.
– Но-но-но, я так, на всякий случай, – поправлял седые усы Цанка. – Сын свою жену увезет на Север, а я женюсь – тебе помощница будет… Только о тебе думаю.
– Ой, бесстыжий, уже еле ходит, а болтает о том же.
– Сама ты болтаешь. Вот посмотришь, на свадьбе сына больше меня никто танцевать не будет. А молодые жеро так и будут вокруг меня кружиться… Ох, берегись, старая!
В тот же вечер Цанка пошел свататься. Герзани уехал на Север с молодой женой из Дуц-Хоте.
Через год старый Арачаев писал сыну:
«Будешь ехать в отпуск, заверни в Свердловск, привези домой Артура. Я договорился».
Артур провел в Дуц-Хоте полтора месяца. Все время он носился по округе с Вахой. Целыми днями двоюродные братья пропадали в горах, купались в роднике, помогали Цанке в заготовке дров и сена на зиму. В конце отпуска Герзани вместе с племянниками поехал в Грозный и купил обоим одежду на круглый год.
В конце августа Герзани, Артур и Балука улетели. Через пару месяцев в Дуц-Хоте пришла телеграмма, что в Уренгое родился еще один Арачаев. Дети просили Цанку дать внуку имя. Дед назвал внука Арзо.
Дочери Арачаевах повыходили замуж. Остались старики с одним Вахой. Старый Цанка души не чаял во внуке, любил его самозабвенно. А мальчик рос на радость старикам покладистым, резвым, здоровым.
В 1986 году в последний раз приехал в Дуц-Хоте Артур. Он очень вытянулся, повзрослел, но все еще носился с Вахой по горам. Цанка просил его остаться, но внук собирался на следующий год поступать в институт. Не поступил и пошел в армию. В конце службы пошел в училище бронетанковых войск. После окончания учебы, получив звание лейтенанта, уехал служить на Дальний Восток. Там же он женился. В одном из редких писем дедушке сообщал, что ему очень тяжело, что живет с женой в казарме и зарплаты им не хватает. Последнее письмо от Артура Арачаев-старший получил в середине 1993 года. Внук писал, что у него родилась дочь, и очень благодарил дядю Герзани за поддержку. И еще он писал, что его переводят служить в другое место, обещал сообщить новый адрес. Больше от него писем не было.
В 1991 году Густан тяжело заболела и слегла. После этого Герзани бросил работу начальника управления в Уренгое и перебрался в Грозный. В декабре этого же года Густан умерла. Герзани устроился работать начальником цеха на Грозненском газоперерабатывающем заводе. Более года он там трудился, а потом сказал отцу, что ни разу не получил зарплату и не может прокормить семью. У него остался один выход – вновь уехать на Север. К тому времени у Герзани росли два сына и дочь.
Перед отъездом Цанка вызвал сына и сказал:
– Герзани, у меня тебе несколько наказов. Первое: ежегодно приезжай в Дуц-Хоте хотя бы на два месяца с детьми. Второе: после моей смерти обещай мне, что не забросишь родовой дом и нашу землю. И третье: найди Артура и всю жизнь помогай ему и Вахе. Помни, теперь на тебе держится фамилия Арачаевых! Не забывай это.
– Не забуду, отец. Не волнуйся.
В 1993 году Герзани с семьей уехал в Уренгой. В том же году Ваха окончил школу и поступил в Чеченский госуниверситет.
* * *
После смерти Густан одиноко стало Цанке. Единственной близкой душой был юный Ваха. Старый Арачаев буквально боготворил внука, был он у него излюбленным. Порой Цанка даже сам себе боялся признаться, что сына Герзани и его детей любит гораздо меньше, чем Ваху. На старости лет привязался старик к юноше, сердцем прикипел.
– Арачаевская порода, – говорил он сам себе, любуясь внуком.
С годами Цанка отошел от многих дел. Работать в поле, в лесу не мог, не тот уже был возраст. Единственно, чем он занимался, – это кладбище. В длинные дни он ходил туда дважды – утром и вечером, а зимой – один раз. Ходил каждый день, в любую погоду, и без этого жить не мог. Когда бывало жарко, он часами просиживал возле родника, любил смотреть, как стремительно несется чистая вода вниз, к равнинам. Всегда вспоминал свою давно прошедшую молодость; грустил, плакал, а иногда, наоборот, смеялся.
Общественной жизнью и политикой в последние годы он не интересовался. Многое было для него непонятным, странным, а порой даже страшным. Однако Цанка всегда был в курсе всех событий, благодаря соседу, Дашаеву Язману, тоже старику, правда, лет на двадцать моложе Арачаева.
После окончания траура по Густан сосед объявил Цанке:
– Великое дело свершилось: Верховный Совет нашей республики провозгласил декларацию «О государственном суверенитете».
– Декларация – это болтовня, – отвечал Цанка, – а Советы никогда добра не приносили, от декретов «О земле» и «О мире» до твоего суверенитета.
Спустя недолгое время Язман говорил:
– Ты был прав, Верховный Совет – это одни партократы, их разогнали, и пришла новая власть, у нас свобода, независимость, мы свершили революцию.
– Свобода – это очень хорошо, – отвечал Цанка, – но вот революция – это всегда горе. А независимость нам нужна. Я мечтал об этом. Спасибо за новость.
Еще через пару месяцев Дашаев восторгался:
– Все русские войска из республики ушли. А их оружие захватил народ. Я с сыновьями тоже добыл несколько автоматов и пистолеты.
– А зачем тебе пистолеты и автоматы?
– Как зачем? Ты посмотри, сколько кругом жулья и бандитов ходит.
– А милиция где?
– Какая милиция?! Кругом воровство, грабежи и беспредел. Так что надо себя защищать самому.
– Да, – помотал головой Цанка. – Значит, свободу приобрели, а покой и порядок потеряли. Все закономерно, что-то находим – столько же и теряем. Только понять тяжело, что лучше: потерянное или найденное.
– А оружие нам необходимо, – говорил о своем Язман, – вдруг на нас Россия или даже Америка нападет?
– Ой, Язман, не смеши. С автоматами и пистолетом только бандитские разборки устраивают, а воют сегодня с самолетами и ракетами.
Через полгода сосед вновь восторгался:
– Ты знаешь, скоро мы будем жить как кувейтские шейхи. Оказывается, у нас очень богатая земля.
– Земля-то богатая, но без труда – не вынешь рыбку из пруда.
– А мы трудимся днем и ночью.
– Правильно: днем митингуете, ночью грабите.
– Старый ты стал, Цанка, совсем дурной, – махнул рукой Язман.
Пару месяцев спустя Язман прибежал к Арачаеву.
– Цанка, Цанка, ты не представляешь, какое у нас счастье – теперь у нас не будут брать налоги, и мы не будем платить за электричество, газ, воду. Представляешь, все будет бесплатно. Нет налогов – ведь это счастье! Вот это свобода!
– Подожди, Язман, как это нет налогов? Не будет налогов – не будет государства. А не будет государства – свобода превратится в анархию.
– Ничего ты не понимаешь, Цанка.
– Может, я и не понимаю, – горестно сказал Арачаев, – но ясно одно: бесплатно никогда ничего не бывало. Это какой-то обман. Кто-то нам кинул кость, как бы она в горле не застряла.
– Ты мыслишь, Цанка, как оппозиция.
– А что такое «оппозиция»?
– Это те, кто против нашей свободы.
– Так, значит, я – против нашей свободы, а ты – за свободу?
– Значит, так.
– А где ты услышал это слово – «оппозиция»?
– Вон в телевизоре только об этом и говорят.
– Да-а, молодцы! Веками не могли в наш народ клин вбить – мучились, а с помощью этого ящика что хотят, то и творят. Сделали самое страшное – народ раздвоили.
В конце 1993 года Язман вновь восторгался:
– Ты знаешь, Цанка, просто чудо! Российский Президент сделал точь-в-точь как у нас: разогнал парламент, а потом из танков, из пушек бил их, колотил прямо в упор. Ну, молодец!
– Жалко, что там война, – горестно сказал Арачаев, – а то Герзани обещал этой зимой меня в Москву на операцию повезти. Глаза ничего не видят.
– Да все уже закончилось, полный порядок там, – смеялся Язман.
В январе 1994 года Цанке сделали в Москве операцию на глазах. После операции его осматривал пожилой профессор. Узнав, что Арачаев из Грозного, он с любопытством спросил:
– Как вам там живется?
– Живут очень хорошо – некоторые, а большинство – плохо.
– Здесь то же самое, – горестно вздохнул доктор, – оказывается, эти лозунги – «рынок», «демократия», «свобода» – только ширма для беспредельного грабежа и обогащения.
Во время последнего осмотра Цанка спросил у профессора:
– Вы человек информированный, мыслящий… Вот муссируют слухи, будто будет война между Россией и Чечней. Что вы думаете, будет война?
Врач тяжело вздохнул.
– Вот именно «муссируют», раздувают, готовят общественное мнение… А война, конечно, будет. В России есть поговорка: война все спишет. А списать надо много грехов. Ой как много! Это единственный вариант выжить – самый циничный, но эффективный. Знаете, когда речь идет об огромных состояниях, то говорить о душе, разуме, человечности просто глупо и даже кощунственно. – Врач снял повязку с глаза Арачаева. – Теперь вы мир увидите во всем многообразии, как в молодости.
– Да-а, – восхищался Цанка своим прозрением, – как я хорошо вижу.
Из больницы до гостиницы он ехал с Герзани в такси. Любовался старый Арачаев новой Москвой, восторгался грандиозностью и масштабами строительства.
– Вот это город, вот это богатство, – говорил он.
По-детски радуясь вернувшемуся зрению, Цанка весь день смотрел в окно гостиницы. Неожиданно он увидел, как к магазину напротив подъехал грузовик и под словом «Хлеб» была нарисована крупная фашистская свастика.
– Посмотри-ка, Герзани, – показал отец увиденное сыну. – Это значит, что фашизм кого-то кормит.
– Да перестань, дед, – усмехнулся молодой Арачаев, – это просто дети балуются.
– Нет, сынок, – грустно сказал Цанка, – в глазах детей без преломления отражается реальная действительность.
– Ты думаешь, дети знают, что такое фашизм?
– К счастью, не знают, – ответил старик. – Но почему ты решил, что это написали дети? А если даже и дети, то они бессознательно копируют то, что творят взрослые. Они вместо большевистской звезды стали рисовать фашистский крест. Это символично, и они тождественны.
– Перестань, дедушка, ты все драматизируешь. Посмотри, как кругом красиво.
– Да, очень красиво. Но мир – это баланс интересов и ценностей. Значит, где-то очень некрасиво. Например, у нас в Грозном.
– Так нечего там жить. Поехали ко мне. Переждешь, пока тяжелые времена пройдут.
– Хм, – усмехнулся Цанка, – у меня тяжелые времена были только вне родины. А в Дуц-Хоте – всё родное, оно легко переносится, как шалости капризного дитяти. А эта вся красота – мираж, через недельку это всё приестся, и ты обнаружишь вокруг себя каменную, бездушную пустыню.
…На следующий день Цанка приземлился в аэропорту Махачкалы. В Грозный самолеты и поезда не отправлялись – Чечня была в блокаде. К вечеру он добрался до городской квартиры, где должен был его ждать Ваха. Внук был дома, приготовил деду ужин, радовался встрече.
– Дедушка, сегодня потерпи, – говорил озабоченно Ваха, – а завтра я тебя отправлю в Дуц-Хоте.
– А что терпеть? – удивился Цанка.
– Неудобства, – засмеялся внук. – Света – нет, газа – нет, воды – нет, отопления – нет, телефона – нет… Да и людей в нашем доме осталось совсем мало. Все, у кого есть возможность, сбежали в Россию.
– Да, путь к независимости тяжел, – вздохнул старый Арачаев.
На следующий день Цанка решил пойти в университет, посмотреть, как учится внук. В храме науки царил кошмар: окна были разбиты; в коридорах грязь, пыль, мусор; по углам толпилась молодежь; курили, матерились, имели отвратительный вид. Попадались люди с автоматами и пистолетами. Видимо, тоже учились. Вокруг университета и в его стенах старый Арачаев не смог найти ни одного атрибута высшего учебного заведения.
– Ваха, ты здесь больше ни дня не проведешь, – сделал вывод дед, – здесь хорошему не научат, это полная деградация… Поехали домой.
В Дуц-Хоте встретил Язмана.
– Цанка, зачем ты приехал? Оставался бы у сына. Что здесь творится! Пенсии два года нет, школы пустуют, света нет, воды нет, зарплаты тоже нет, да и работать негде…
– Постой, постой, Язман, – перебил его Арачаев. – Не хнычь… Нам надо терпеть. Путь к свободе непрост!
– Ты что, серьезно говоришь? – удивился Дашаев.
– Очень серьезно, клянусь Богом! – строго ответил Цанка.
– Так что же нам делать? – развел руками Язман.
– Жить, работать, заниматься своим делом, терпеть, и всё образуется, – бодро ответил Цанка.
В тот же вечер Ваха как бы невзначай бросил:
– А в Грозном идет набор студентов в университет Анкары.
– Эх, Ваха, отправил бы я тебя хоть куда учиться, да денег нет. Ведь сейчас всё платное, всё дорого. Может, Герзани тебе поможет?
– Так это бесплатное обучение. И проживание и питание бесплатное, лишь бы экзамен здесь сдать.
– Так в чем дело – сдавай.
– А если я уеду, как ты один?
– Обо мне не думай, – закричал Цанка, – я свое отжил. Как-нибудь выживу. Лишь бы ты выучился, а потом вернулся домой.
– Не могу я так, – огорчился Ваха. – Ты один. Как я тебя брошу?
– Да я ведь дома… Кругом родственники, односельчане. Завтра же поедем вместе в Грозный.
В конце августа 1994 года Арачаев Ваха уехал с группой молодежи в Турцию. В середине сентября Цанка позвонил в Уренгой из переговорного пункта в Шали.
– Дада, – кричал на другом конце провода Герзани, – мне звонил Ваха из Анкары. У него все хорошо. Я ему часто звоню. Запиши его телефон. Звони только ночью.
– А Артура нашел?
– Да, он служит в Благовещенске, это там же, на Дальнем Востоке. Говорит, что писал тебе, видно, почта не доходит. На будущий год обещал приехать к тебе. Дада, у тебя деньги есть?
– Есть. А дети как?
– Все в порядке. Ты как там – один? Приезжай сюда, пожалуйста. Давай я приеду за тобой.
– Нет, за меня не волнуйся. Береги детей. До свидания.
Цанка спросил у телефонистки, сколько стоит разговор с Анкарой. Оказалось, очень дорого. Он вышел на улицу, посчитал последние гроши в кармане.
– А-а, зачем мне эти бумажки нужны? Дома мука, сушеное мясо, мед есть – до весны дотяну, а там видно будет. Лучше поговорю с внучком, может, в последний раз…
Ровно четыре часа старик ждал заказа. В полночь его разбудили, указали на телефонную кабину.
– Дада, дада, как ты? Как здоровье? – кричал Ваха. – Я скучаю, я хочу домой. Я боюсь за тебя. Я очень беспокоюсь. – Цанка понял, что внук плачет, он и сам стонал, сжимал с силой слабые скулы. – Ты что молчишь, дада? Скажи хоть слово!..
– Ваха, дорогой, обо мне не волнуйся. У меня все отлично, – пытаясь скрыть дрожащий голос, отвечал старик. – Смотри, учись, береги себя…
Они вдруг оба замолчали, на обоих концах плакали.
– Ваха, прощай, мое время кончилось, – еле выговорил Цанка.
– Нет, нет, дада, твое время не кончилось, – закричал внук, и в это время послышались частые гудки.
…Через месяц началась война…
Цанка спал. Во сне мучился, шел в атаку, воевал. Неожиданно прямо перед лицом появилось огромное дуло пушки. Раздался оглушительный взрыв. Спящего старика кинуло к стене, он проснулся – не мог понять где он и что происходит, только слышал звон разбившихся стекол и чувствовал едкий запах саманной пыли и гари. Следом раздалось еще много взрывов. Все содрогалось, тряслось. Наконец Арачаев понял, что он в родном доме, в родном селе и что идет очередной артобстрел.
В разбитое окно хлынул ледяной вихрь, занеся с собой облако снега. Несколько колючих снежинок легли на изможденное лицо старика, остудили его сонную прыть, отрезвили, вернули в ущербную до крайности реальность.
Еще один оглушительный взрыв прогремел во дворе. Оконный проем залился ярким заревом. Цанка, тяжело сопя, кряхтя, встал. В мерцающих потемках искал очки, долго не мог надеть резиновый жгут, укрепляющий их на затылке. Потом мучился, открывая наружную дверь.
Дом от взрыва перекосился – все заклинило. С трудом Цанка вырвался во двор. В лицо ударила ночная свежесть и яркий, согревающий свет. Горели сарай, навес, стог сена. Огонь весело играл рыжими языками, ненасытно пожирал иссохшие, исковерканные ракетой хозяйственные строения. Еще гремели взрывы, со стоном содрогалась земля, и вдруг, внезапно, все замерло. Стало тихо, мирно, спокойно. Только жалобно потрескивали в огне старые толстые бревна строений.
Без взрывов, без шума в ночном, одичалом селе стало невыносимо тяжело. Одиночество в заброшенном поселении было несносно.
Цанка вспомнил состоявшийся накануне телефонный разговор, подумал о внуке, и ему стало больно, в груди острыми когтями обхватило гортань. «Нет, он не сделает этого, – подумал старик, – он не глуп, чтобы в столь бесчеловечную войну возвращаться домой. Нет, это просто ошибка». Арачаев гнал от себя страшные мысли, хотел думать о другом, о прошлом, о роднике, но тяжелые, гнетущие думы неотступно преследовали его. Он не находил себе места, ему было крайне тяжело и больно.
В доме он хотел разжечь печь, но в комнате гулял сквозняк, под разбитыми окнами на деревянном полу намело снега. Покосившийся родной дом стал чужим, холодным. Старику было мучительно и в своем доме, и в родном селе. Вдруг он вспомнил о кладбище, и ему почему-то показалось, что там, среди могильных памятников, ему будет легче и спокойнее. Он с манящей надеждой выскочил из дома и направился в густых потемках в сторону кладбища Газавата. У иссякшего родника не остановился, шел дальше от этих отвергнутых мест, искал себе покоя и забвения. Прямо в грудь дул пронизывающий до костей, порывистый ветер, в лицо впивались острые, холодные снежинки. Метель напоследок разгулялась: свистела отчаянно в ущелье; бесцеремонно качала могучие кроны деревьев; иногда замирала на мгновение и, когда казалось, что все прошло, вновь в бешеной коловерти будоражила мир. Было холодно.
Последний подъем перед кладбищем был самым тяжелым. На четвереньках Цанка полз вверх. Тропинки не видел, шел наугад. Сухой, ледяной снег тонким, игривым слоем покрыл замерзший с вечера грунт. Все было скользким, чужим, неприступным, безжизненным. Однако старик все полз и полз, упрямо лез вверх, как будто там его ждало земное благоденствие.
На рассвете метель улеглась, все кругом покрылось снежной белизной. Однако ясности не было: тяжелые, черные тучи низко легли на землю, подавили своей мощью горную долину.
Наконец Цанка добрался до кладбища. С сожалением понял, что желанного спокойствия не обрел. Только еще одна горькая мысль пришла в голову: «На этом родном кладбище из огромного рода Арачаевых похоронено только несколько человек: жена дяди, его первая жена и два сына. А остальные родственники погибли на чужбине, в неволе, на войне… А мне, видимо, хотя бы в этом повезло. Я умру здесь, и наверняка меня похоронят здесь». Эта мысль заманила, даже прельстила. Радужная перспектива возбудила, зажгла в нем старческий энтузиазм: Цанка решил, что он должен вырыть для себя могилу.
С удовольствием долго выбирал он место для своего погребения. Это настолько его увлекло, что он не заметил, как тяжелые тучи расползлись и над головой раскрылось высокое, синее, чистое небо. Только редкие, потрепанные облака на большой скорости проскальзывали вдалеке по горному небосклону. Мир стал ярким, свежим, блестящим… Цанка с наслаждением стал копать. Правда, сил было маловато. Все делал медленно, тяжело, но все равно яма углублялась.
От работы его оторвал нарастающий гул. Цанка протер запотевшие очки, огляделся. Над Дуц-Хоте летали вертолеты, в село с двух сторон въезжали многочисленные черные вереницы бронетехники. Он тревожно осматривал окрестности и вдруг увидел, как на белоснежном склоне горы, там, где был вход в пещеру, появилась человеческая фигура. «Это знает только местный, – пронеслась нервная дрожь по телу старика. – Неужели внук? Нет… А может, боевики? Да. Скорее всего». Человек стал спускаться по снежной тропе, споткнулся, полетел кубарем к пересохшему истоку родника и скрылся из виду за склоном горы. Остального Цанка видеть не мог. Однако сердце тревожно екнуло, вновь защемило грудь. «Нет, нет, местный бы так не упал», – успокаивал себя Арачаев.
В это время один из вертолетов завис в районе родника, другой закружился над кладбищем. И буквально через несколько минут Цанка увидел, как в его сторону, по покатому склону горы, оставляя на почве глубокий черный след, двигался на большой скорости бронетранспортер. На последнем крутом подъеме машина забуксовала, заартачилась, как старая кляча, много раз, вновь и вновь пыталась преодолеть последний рубеж: рычала, коптила, бросалась резко вверх и ползла в бессилии юзом вниз. От выпускаемой броневиком гари склон горы почернел, покрылся сажей, завоняло нефтью и жженой резиной. Наконец он бессильно заглох. Из него выскочили семь вооруженных вояк и бросились бегом к кладбищу. Окружили Арачаева. Шесть автоматных дул и пистолет уперлись в одну цель.
– Руки вверх! – скомандовал офицер. – Я кому говорю, поднять руки. Брось лопату. Документы.
Старик подчинился приказу.
– Где документы? – вновь визжал старший.
Когда военные еще бежали по кладбищу, Цанка обратил особое внимание на этого высокого, стройного офицера. Что-то на удивление знакомое было в его фигуре, в походке, даже в манерах. В сознании старика этот офицер кого-то упорно ему напоминал. Теперь, когда военный стоял прямо перед ним, Арачаев еще внимательнее вгляделся в него, даже протер для этого очки. Смугловатое, вытянутое, скуластое лицо; большой, даже очень большой, с горбинкой нос; голубые, круглые, блестящие глаза; сросшиеся брови, высокий лоб. «Так ведь это мой брат Басил, или нет, даже дядя Косум», – с удивлением подумал старик.
– Я спросил, где паспорт? – вновь грубо рявкнул командир. Еще много он задавал едких вопросов, потом достал из большого нагрудного кармана рацию.
– Первый, первый, я шестой… Первый, – другим голосом кричал он в трубку.
– Слушаю, – фыркнул в ответ глухой бас.
– Я шестой…
– Кто такой? Откуда я помню, кто из вас шестой, кто десятый.
– Товарищ полковник, – аж выпрямился офицер, – это капитан Кухмистеров… Кух-мис-теров.
– Докладывай.
– На кладбище обнаружили старика, документов при себе не имеет, говорит, что фамилия Арачаев…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































