Текст книги "Прошедшие войны. II том"
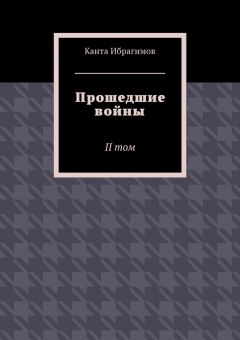
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Ехал домой Арачаев и не знал, что дома его тоже ждут, как героя. Что вслед за центральной газетой очерк о нем и его ратном подвиге опубликовали в республиканской газете, что о нем говорили по радио, приводят как пример на собраниях и митингах.
В Грозном сам нарком образования, тесть Курто, обнимал его, улыбался жирной гримасой в лицо, дарил цветы, приглашал в гости. Хвастливо заявлял, что именно он агитировал Цанка ехать учиться, что это друг его зятя Зукаева, который в данный момент тоже учится в Москве, в Высшей партийной школе.
На этой волне популярности Арачаева сразу же назначили директором школы в Дуц-Хоте. Бывший директор – Кухмистерова – еще в сентябре прошлого года уехала в Грозный и больше не возвращалась. Позже, поехав в город по делам, Цанка зашел к Антонине Михайловне. От нее узнал, что благодаря стараниям Курто Элеонору Витальевну перевели в город преподавателем в музыкальную школу. Буквально в то же время она получила письмо от родной тети. Видимо, ходатайство родственницы помогло: через месяц, в октябре, Кухмистеровой разрешили вернуться в Ленинград.
– Перед отъездом ко мне заходила, плакала, благодарила и тебя и Курто, – говорила Антонина Михайловна Цанке, – была такая счастливая, радостная. Перед отъездом она поправилась, похорошела. Ведь она беременной была. Наверное, уже родила давно. Обещала написать, да что-то не пишет.
Уходя от Антонины Михайловны, Арачаев гнал от себя дурные мысли. Через день как бы мимоходом зашел к Авраби с гостинцами. Старуха плакала, жаловалась на проклятое здоровье и одиночество.
– Ты знаешь, Цанка, оказывается пожелание «живи долго» – это проклятие. Жить надо, пока ничего не болит.
Потом вдруг старуха заулыбалась, раскрыла до ушей свой большой беззубый рот.
– Больше ты ко мне никого не приведешь? – ехидно спросила она.
Арачаев ничего не ответил, сделал вид, что обиделся, вскочил с нар, глубоко вздохнул.
– А эта, как ее, Эла Видала, ведь уехала брюхатая… Хе-хе-хе, – кряхтя, закашляла она от внезапного смеха. – Может, от тебя, а может, еще от кого.
– Не болтай лишнего! – вскричал Цанка.
– Ой, напугал! – все так же усмехалась Авраби. – А вообще жалко, что она уехала, – хорошая была девушка, душевная, воспитанная. Так, может, ты мне еще кого приведешь – скучно мне, – издевалась она вслед Цанке.
Всю ночь думал Арачаев о Кухмистеровой, мучился, не спал. А наутро погрузился в работу, все забыл. Навсегда. А дел стало много – интересных, новых, по сути пустых. Стали возить его по собраниям, по митингам. Выступал он на них с нарастающим успехом. Рассказывал о финской войне, о подвиге советского народа, о значении победы и о своем героическом поступке. Вначале смущался, краснел, говорил мало, правдиво, скупо; потом стал входить в раж – его речи стали длинными, красочными, зажигательно-патриотичными, призывными. Он понял, чего от него хотят. Поняли и организаторы митингов, партийные работники, что Арачаев поддался дрессировке. Начался кураж. Для него специально в Грозном знаменитый в те времени портной-армянин сшил два добротных кителя и галифе из темно-синего и коричневого английского сукна. На ногах блестели новые хромовые сапоги. Сам Арачаев тоже залоснился, посветлел лицом, глаза заблестели жизнью и удовлетворенностью. География его выступлений была самой разнообразной – начиная от открытых майданов горских сел и кончая просторными залами городских домов культуры. Цанка стал настоящим оратором. Оказывается, в нем был природный дар. Со временем у него окреп голос, стал таким же громовым, как у отца его – Алдума, выправилась дикция, появились интонации и артистизм. К этому времени он уже стал полнеть, грузнеть, ибо каждое выступление сопровождалось обильными застольями с множеством напитков и привилегированной едой.
Вскоре для Арачаева выделили специальную машину с шофером, составили график выступлений на месяц вперед. Тогда же один из руководителей назвал его свадебным генералом. Цанка не знал, что это такое, однако в душе сиял: думал, что генерал – это в любом случае хорошо. Однажды, после очередного митинга, во время обильного застолья, охмелев, он с гордостью сам назвал себя свадебным генералом. Присутствующие долго смеялись. Поняв, что попал впросак, он вскипел, раскраснелся, в ярости сжимал кулаки, однако сумел сдержать себя, не кинулся сломя голову на начальника агитбригады, стерпел.
Правда, после этого уехал домой, не стал больше выступать, обиделся, встал в позу. Районное и республиканское руководство стало его упрашивать, потом требовать, затем шантажировать прошлым. Цанка согласился возобновить митинговую деятельность при условии, что заменят руководителя агитбригады. Это было сделано вмиг и с удовольствием. Позже при встрече с большим партийным работником в Грозном Арачаев посетовал, что эта пропагандистская работа отнимает много времени, что его школа заброшена, материально не обеспечена, нет даже учебников, подходящего здания, нет хорошей дороги до Дуц-Хоте и что вообще за свой кропотливый, полезный труд он не получает жалованья. Реакция последовала незамедлительно. Арачаеву пересчитали все его выступления, перевели их как лекции пропагандиста-агитатора и выплатили огромную сумму наличных денег. Счастливый Цанка в тот же день помчался домой. На базаре в Шали купил много сладостей детям, мешок белой муки, пять килограммов сахара, две бутыли керосина, полтуши барана.
Поздней ночью, скрыто от жены, он щедро одаривал деньгами мать, сестру, братьев. Сыто поев, до утра Арачаевы веселились, вспоминая прошлое, плакали, грустили, потом снова радовались, понимали, что, несмотря ни на что, им Бог помог и они хоть с потерями, но выжили после ураганной волны Советов и стали понемногу приспосабливаться к новым условиям, вставать с колен, оживать.
Все шло ровно, пока не возник один эпизод. Зимой, перед самым Новым 1941 годом, Арачаев выступал перед многотысячным коллективом крупнейшего завода «Красный Молот» в Грозном. В президиуме сидели первые руководители республики. Цанка говорил много, красиво, вдохновенно. Научился врать, приукрашивать, жестикулировать, влиять на настроение аудитории. Все шло как обычно, и вдруг из первых рядов поднялся один пожилой рабочий и задал ему самый коварный вопрос:
– А вы в Бога верите?
Наступила гробовая тишина. Боковым зрением Цанка заметил, как первый секретарь обкома партии наклонил голову, ладонью прикрыл глаза. Все в президиуме смутились, сжались в оцепенении, уставились на него со страхом и надеждой. Тогда Цанка помедлил минуту, сделал многозначительную паузу.
– Товарищи! – вдруг со всей силой крикнул он, поднимая ликующе руку. – Я верю в победу Коммунизма!!!
Весь президиум вскочил от радости. Зал ревел аплодисментами, криками восторга и преданности Родине и партии. Следом выступал директор завода, делал ссылки на предыдущего оратора, восторгался его подвигом и мужеством.
Сразу после этого собрания Арачаева в пожарном порядке приняли в партию большевиков, а по окончании новогодних праздников назначили заведующим районным отделом образования, а ровно месяц спустя «в целях укрепления исполнительной власти Советов» назначили председателем Шалинского райисполкома.
Поменялась жизнь в корне. Та власть, которая много раз его ломала, била, мучила и гоняла, вдруг втянула его в свои объятия и подчинила себе, всосала в свою идеологию, в свою мораль. Эта работа не имела ничего общего с идиллией беззаботной агитации, это была кропотливая, тяжелая работа на износ. Трудился Арачаев на совесть, от зари до полуночи. Проблем и забот было много. Некогда было даже остановиться и задуматься, осмыслить, что произошло и куда он идет, что делает. Понял только одно, что из ярого врага страны Советов он стал ее активным строителем. Все произошло как-то незаметно, плавно, на бегу, в корне поменяв мировоззрение, сознание, психику. Только в редкие минуты ночи он незаметно даже для родственников уединялся и молился в темноте Богу, просил наставить его на путь истинный, верный и в свое оправдание считал, что так и должно быть, что то, что он делает, правильно и гуманно, а главное – от чистого сердца и отвечает чаяниям людей.
Правда, своих родственников он не забывал. Буквально через месяц после назначения Цанки председателем исполкома его двоюродного брата Ески «избрали» председателем колхоза имени Ленина, а еще через месяц родной брат Басил стал председателем сельсовета округа Сельментаузен, куда входило маленькое село Дуц-Хоте.
Встали на ноги Арачаевы, набрали положенный им вес и авторитет, восстановили всё в прежнем порядке. Снова стали они хозяевами в родном селе, в округе. Вся эта мелкая шелупонь вроде Абаевых и Тутушевых исчезла, притихла, заняла свою положенную нишу, ушла вновь в скотники, сторожа, пастухи, притихла, вновь затаила злобу и ненависть, с надеждой стала ждать новых потрясений и катаклизмов, нового востребования их.
Первый месяц работы председателем исполкома Цанка жил в Шали один, в небольшой комнатушке прогнившего общежития. Через месяц ему предоставили отдельный, вновь построенный, полностью благоустроенный дом из трех комнат и кухни, недалеко от центра села. Вопросами переезда полностью занималась Дихант. За последние месяцы она преобразилась. Ее девичьи мечты сбылись, стала она женой большого, важного человека, жила теперь в родном селе, купалась в достатке и в беззаботности. Из Дуц-Хоте она не привезла ни одной скотины, ни одной курицы – все отдала свекрови. Только большого, толстого, ленивого кота прихватила с собой. Детей она сама определила в шалинскую школу, в первый же день поставила всех учителей на место, дала понять всем, и прежде всего новым соседям, кто она и какой обладает властью.
Цанка всего этого не мог не видеть, однако не реагировал на действия жены – не было ни времени, ни сил. С рассветом он убегал на службу и только глубокой ночью возвращался домой. Даже детей видел изредка, и то в основном спящими. Каждый день после обеда проходили различные совещания, планерки, собрания. Говорили в основном об одном и том же, что-либо с места двигалось слабо. Особенно тяжело было в сельском хозяйстве: люди по-прежнему не хотели быть в стаде и работать задарма. Приходилось населению доказывать, что колхозы – это благо и единственно верный путь. Труженики молча кивали, со вздохом соглашались, на собраниях давали клятвы и высокие обещания, однако все делалось без души, без ума, кое-как.
Каждый день возвращался Цанка домой выпившим. Приходилось пить ежедневно. Это было как обязательный ритуал советского управления и руководства. За бутылкой лучше обсуждались все вопросы и находились верные решения. При этом он всегда вспоминал высказывание по этому поводу друга Курто. Однако каким бы пьяным Цанка ни возвращался домой, он усилием воли заставлял себя уединиться где-нибудь в темноте комнаты и совершал невыполненные дневные молитвы. Только после этого он расслаблялся и засыпал тревожным, стонущим от перегрузок сном.
К лету кропотливая работа Арачаева Цанки стала давать первые результаты. На совещании в Грозном Шалинский район впервые вышел на передовые позиции по надоям молока, по площадям посевов яровых и самое главное по атеистической работе с населением. Вновь газеты пестрели его фотографиями, выступлениями.
Жизнь только начала налаживаться, как грянула война.
Всё закрутилось, завертелось в невероятном движении, хаосе. Первые дни в руководстве района, и даже республики, царила паника. Никто не знал, что надо делать и что предпринимать. Два-три дня не было никаких директив из Грозного, и только 25 июня всех руководителей районов собрали на секретное совещание. Уже за эти три дня стало ясно, что война с Германией – это не финская кампания, а что-то более ужасное и глобальное. В тот же день вечером, когда он возвратился из Грозного в Шали, прямо у дверей райисполкома его окликнул молоденький милиционер, его земляк из Дуц-Хоте.
– Товарищ Арачаев, – кричал он издалека, узнав начальника, – подождите.
Цанка остановился, устало глянул на подбегающего односельчанина.
– Вы когда увидите Басила? – спросил милиционер.
– А что? – внутренне сжался Арачаев.
– Вот повестка ему.
Цанка, ничего не говоря, взял в руки маленький листок бумаги, почувствовал, как от прикосновения к нему леденящий ток прошел от кончиков пальцев до живота, как екнуло в тревоге сердце. Мельком бросив взгляд на белый прямоугольник с красной чертой наискосок, Цанка все понял, побледнел, сжал скулы. Тем не менее знакомиться с содержанием при тесном окружении не стал, только мотнув головой торопливо побежал на второй этаж в свой кабинет, там включил свет и, став прямо под лампой, несколько раз прочитал коротенький текст: Арачаева Басила Алдумовича, 1912 г.р., призывали в Красную Армию в связи с всеобщей добровольной мобилизацией.
В отчаянии Цанка сжал в кулаке жалкий на вид клочок бумаги, сунул в карман, устало сел на свое место. Как ни пытался, работать и что-то соображать не мог: все мысли были о младшем брате. Что-то нехорошее, враждебное было в этих сухих словах, в этой казенной, бесчувственной бумаге. Он не мог бросить младшего брата в коловерть войны, не хотел, предчувствовал худое, даже страшное.
В тот вечер как никогда рано Цанка пришел домой, не разговаривая с Дихант и детьми, тяжело повалился в постель, пытался заснуть, долго ворочался. Когда все улеглись спать, вышел во двор, много курил; думал о брате, о матери, о проклятой войне, которая вмиг разрушила все.
Утром следующего дня, не заходя на работу, Арачаев Цанка направился в военкомат. Всегда пустое здание кишело людьми, как потревоженный муравейник. Пользуясь положением руководителя района, он решительно дошел до кабинета военкома, стал рваться в закрытую изнутри дверь. Из кабинета донесся тяжелый мат, чуть погодя появилась заспанная, помятая физиономия подполковника Миронова.
– А-а, это вы, – недовольно пробурчал военком, протирая кулаками заспанные глаза.
Цанка вошел в прокуренный кабинет, достал из кармана помятую повестку.
– Эту повестку надо переделать, – твердо сказал он.
Миронов взял из рук Арачаева листок, мельком оглядел его.
– Как переделать? – возмутился он.
– Вместо брата вписать меня.
– Хм, – усмехнулся военком, – ты первый, кто просит замены, а то некоторые руководители требуют отозвать повестки.
Миронов ушел в угол кабинета, из ведра набрал в граненый, пожелтевший от чайной накипи стакан воды, опорожнил его в три больших глотка, вытер рукавом рот.
– Так что, хочешь, чтобы тебя послали на фронт вместо брата? – спросил он у Арачаева, глядя в упор своими усталыми, заспанными глазами, вокруг которых огнем пылали воспаленные, вспухшие веки.
– Да.
– Это трудно. Ты руководитель района, а у нас пока нет разнарядки.
– Какая разнарядка, – вскипел Цанка, – я уже воевал, и я обязан пойти на фронт, у меня есть опыт, а брата не трожь. Побереги. Я тебя очень прошу.
Военком глубоко вздохнул, полез в карман за папиросой, глубоко затянувшись, долго молчал, глядя опустошенными глазами в раскрытое окно.
– Сегодня тоже будет жара, – вдруг вымолвил он.
– Ты о чем болтаешь? – придвинулся к нему Цанка.
Миронов повернулся к нему лицом, по-детски улыбнулся.
– Слушай, хорошо, что ты пришел, давай по одной тяпнем.
– С утра? – удивился Арачаев.
– А что? У меня голова трещит. А заодно обсудим дело.
…Перед уходом на фронт Цанка два дня жил в Дуц-Хоте, у матери. Табарк плакала, не могла расстаться с сыном, просила беречь себя, чаще писать. В день отъезда он побывал на родовом кладбище, купался в роднике, долго сидел на дорогом месте Кесирт, где когда-то стояла мельница Баки-Хаджи… А второго августа он был на территории Грозненского военного гарнизона, уже носил военную форму, имел звание лейтенанта, командовал ротой молодых новобранцев.
На седьмое августа назначили отправку. За день до этого был назначен митинг. Арачаева заранее предупредили, что он должен будет выступить, рассказать о финской войне, о подвиге советского народа. Под палящими лучами летнего солнца пламенно выступали многие руководители республики, особенно зажигательной была речь Председателя Совмина Чечено-Ингушской АССР. В конце митинга ведущий – здоровенный полковник – вызвал на импровизированную трибуну, состоящую их открытого кузова грузовика, Арачаева. Цанка выступал, как и все, горячо, с чувством. Говорил яростно, громогласно. И вдруг его призывная речь неожиданно оборвалась: прямо перед собой он увидел широченную улыбку своего младшего брата – Басила. Тот стоял, широко расставив ноги, скрестив на груди большие, мощные руки. Он был еще в гражданской одежде. Цанка потерял нить выступления, не мог прийти в себя, мысли были о другом, о совсем родном, близком. Его сзади подтолкнули, что-то шептали на ухо. Он еще минуты две о чем-то говорил, но это было выступление побитого человека. Что-то промямлив, он спрыгнул с грузовика, подошел к брату, впился в него злым взглядом:
– Что ты здесь делаешь? – спросил он.
– Как что? – смеялся Басил. – Как и тебя, призвали в армию.
– Скотина, пьянь недобитая, – глядя в сторону, бросил Арачаев-старший.
– Ты это о ком? – удивился Басил.
– О комиссаре, Миронове, – злобно шипел Цанка.
– Так его уже несколько дней как куда-то перевели, теперь там новый военком, приезжий.
– Вот в чем дело, – опечаленно опустил голову Цанка. – Все равно скоты. Будешь рядом. Понял? Где документы? Пошли за мной, – командовал он младшим братом.
Одиннадцатого августа эшелон с новобранцами прибыл в Ростов-на-Дону. Там выгрузили половину состава. Арачаевы доехали до станции Щекино Тульской области, оттуда шли пешком до Козельска. На месте всех стали распределять по подразделениям новообразованного соединения. Братья Арачаевы попали в один батальон. Учитывая прошлые боевые заслуги и опыт, лейтенанта Арачаева назначили заместителем командира разведдивизиона, а рядовой Басил стал ездовым в конной артиллерии.
С фронта шли тревожные вести. Наши войска отступали с большими потерями. Две недели в Козельске шли учения. Только через неделю раздали оружие – карабины и несколько патронов к ним. Самым тяжелым был вопрос с питанием. Кормили скудно, нерегулярно. В то же время дисциплина была железной, до предела жесткой. Никогда не знавший чужбины и казенщины, Арачаев-младший несколько раз позволил себе вольности и был моментально посажен в карцер. В душе Цанка переживал за брата, волновался, однако когда тот освободился, смеялся ему в лицо.
– Это тебе не у мамы под юбкой сидеть, – шутил он над братом.
В середине сентября полк выдвинулся на запад, навстречу фронту. С каждым днем напряжение нарастало. Все дороги были забиты беженцами, иногда в небе появлялась вражеская авиация. После команды «воздух» все разбегались, падали. Один Басил, показывая свою удаль и дурную смелость, стоял на ногах, держал под уздцы восьмерку испуганных, ошарашенных лошадей. После одного такого эпизода разъяренный Цанка при всех влепил брату подзатыльник, ругал за безмозглую, никчемную показуху.
– Зато мои лошади на месте, а у остальных все разбежались, – обиженно отвечал Басил старшему брату.
– Меня лошади не интересуют – ты береги свою дурную башку, – шипел в гневе Цанка. – Понял?.. Тоже мне, герой.
Буквально на следующий день после этого разговора впервые подверглись авиаобстрелу. Творилось что-то невероятное: ржали испуганные кони, кричали раненые, земля содрогалась от разрыва бомб, кругом трещали пулеметы. Одна из бомб упала рядом с Басилом, его напарник не успел даже крикнуть, рухнул на землю, обдав лицо Арачаева кровавой смесью мозгов и грязи. После этого он плюхнулся на землю, закрыв лицо руками, плакал, кричал, просил Бога о пощаде, дрожал всем телом. А в это время Цанка несся галопом на коне в сторону ближайшего леса. В какой-то момент ему показалось, что четвероногое животное слишком медленно движется, и он соскочил с него и побежал на своих двух ногах, что было мочи, не чувствуя под собой землю. Позже, вспоминая этот эпизод, он всегда смеялся, а тогда было не до смеха, на голову впервые обрушился железный, огненный шквал неприятеля.
После этого авианалета шутки и песни прекратились, все лица стали озабоченными, суровыми, угрюмыми. Рядом прошла смерть, унесла с собой многих товарищей. Целые сутки полк приходил в себя, как раненая собака, зализывал раны, командиры ждали приказов, раненых отвозили в тыл, хоронили погибших, солдаты искали в лесу разбежавшихся лошадей.
На следующее утро разведдивизион тронулся первым навстречу фронту, с каждым часов все четче и зловеще стала слышна смертоносная канонада войны. На Смоленщине, у поселка Всходы, на живописнейшем берегу реки Угры полк остановился, здесь он должен был встретить наступающего противника. До каждого офицера и каждого солдата довели приказ: те, кто бросит позиции и отступит, будут расстреляны. Вместе с тем каждый день мимо проходили растрепанные, побитые, жалкие и испуганные разрозненные подразделения отступающих в панике красноармейцев.
В эти же дни Цанка впервые увидел офицеров особого отдела армии, или как их называли, сотрудников СМЕРШа. Это были в основном молодые офицеры, опрятно одетые, подтянутые, до страха строгие, немного надменные. Их глаза вечно бегали, что-то рыскали, светились подозрительностью, недовольством. Именно они ознакомили весь личный состав полка с приказами Ставки №270 от 16.08.1941 г. и Сталина №0321 от 26.08.1941 г., гласившими: «Сдавшихся в плен уничтожать всеми средствами», «Семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи», «Семьи сдавшихся в плен командиров и политработников арестовывать как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров».
В тот же вечер Цанка пришел к Басилу. Сидели в свежевырытом окопе, пили из одной кружки кипяток, по очереди курили одну самокрутку.
– Смотри, Басил, – говорил тихо брату Арачаев-старший, – не опозорь нас перед всеми другими нациями. Под пули голову не подставляй, но трусом себя тоже не показывай. По нашему поведению будут судить о нашем народе. Честь превыше всего. Но дурная смерть тоже глупость. Короче – с позором жить нельзя, а жить надо, нас дома ждут. Погибнем здесь, как собак похоронят в общей яме, а может, и этого не будет. Это война.
На следующее утро Цанка получил приказ выступить в разведку. Под его командованием было десять красноармейцев-добровольцев. На заре они вброд перешли Угру и углубились в лес на противоположном берегу. Вечеру вышли к маленькому селу. Здесь впервые увидели живых немцев. Оккупанты вели себя нагло, беззаботно. Ничего не боялись, пели песни, на больших кострах заставляли русских женщин готовить им еду. До темноты отделение Цанки хоронилось в лесу, вело скрытое наблюдение. Арачаев вместе с сослуживцами разрабатывал план атаки и захвата в плен «языка». В сумерках видели, как два немецких офицера затаскивали в одну из крайних хат молоденьких женщин. Как только основательно стемнело, они подкрались к этому домику и без единого выстрела утащили немцев в лес. Легкость добычи взбодрила всех. Цанка решил вернуться в село и атаковать спящих немцев. Из этой затеи ничего не вышло, после первых же выстрелов оккупанты открыли яростный автоматно-пулеметный огонь. Карабины красноармейцев ничего не смогли противопоставить шквалу оружия противников. Бросив в дома три гранаты – весь арсенал, разведчики скрылись в лес. Потом долго искали друг друга. Рядового Игумного так и не нашли. К обеду следующего дня вернулись в расположение части с двумя вражескими офицерами. Подвиг был налицо, однако Цанка в глубине души корил себя за необдуманность и сумасбродство неподготовленной атаки и неоправданные потери. Игумного внесли в списки пропавших без вести, и больше о нем никто не вспомнил. Это было только начало, а впереди были многомиллионные потери молодых жизней…
В конце сентября утром на западном берегу Угры появились первые немцы-разведчики. Хоронясь, на противоположный берег вышло человек двадцать автоматчиков. Немного выждав, шестеро из них перешли вброд речку и стали подниматься вверх по склону. Красноармейцам был дан приказ не стрелять до особой команды. Однако у кого-то сдали нервы, и раздался выстрел. Немцы развернулись и побежали обратно. Вслед им прогремел шквал огня. Стреляли не только из карабинов и пулеметов, но даже из пушек. Тщательно подготовленные позиции рассекретились. К обеду полк повергся авиационному удару, на следующий день вражеские самолеты бомбили дважды. После этого все внезапно затихло. Потом было слышно, как канонада орудий гремела с юга и с севера и ушла быстро на восток. Стало ясно, что противник обошел их и линия фронта оказалась за спиной. Это было окружение. Всеми овладели страх и отчаяние. Два дня стояли на занятых позициях в полном бездействии, в мирной тишине, в окружении живописной, увядающей по осени среднерусской природы. Кругом было так тихо, так умиротворенно, что не хотелось думать о войне, о смерти, о кошмаре окружения. За эти три дня командование полка трижды посылало связных в штаб дивизии, и трижды никто не вернулся. Тогда на третий день полк тронулся с места, шли в обратном направлении.
У небольшого поселка Слободка наткнулись на вражескую колонну. Растянутый на километровую длину полк, состоящий из 1100 человек, не смог мгновенно перестроиться прямо на марше. Немецкие танки и пехота ударили прямо вбок. Однако красноармейцы не дрогнули, не бежали, с ходу вступили в неравный бой. Схватка была недолгой, но кровопролитной, жестокой. Ощетинившись, красноармейцы дали отпор. Немецкая пехота первой не выдержала яростного сопротивления, стала отступать, за ними потянулись танки. С обеих сторон были многочисленные потери.
Через пару часов немцы предприняли повторную попытку атаковать полк. Вновь завязался ожесточенный бой, и, наверное, красноармейцы смогли бы выдержать натиск противника, но неожиданно прямо из леса с обоих флангов появилась немецкая пехота. Сопротивление было бесполезно, не подчиняясь командам офицеров, солдаты бросились наутек в близлежащий лес. Арачаев Цанка тоже вскочил.
– Стоять! Назад! – крикнул он в отчаянии, но, увидев в глазах бегущих панику и испуг, поддался общему смятению и помчался в спасительный лес. Его сердце яростно колотилось, не хватало дыхания, ноги подкашивались, скользили на мокрой осенней земле. А рядом свистели пули, как подрубленные, падали вокруг солдаты, за спиной ревели железные моторы танков. Перед самым лесом Цанка упал, не было сил встать, он на четвереньках попытался доползти до чернеющей чащи, однако тело обмякло, не слушалось, потеряло способность двигаться. Он ничком повалился на холодную землю, лбом уперся в скользкий грунт, часто, с трудом дышал, ни о чем не думал, боялся поднять голову. Кто-то, больно наступив ему на руку, пробежал мимо. Все чувства Цанки вмиг исчезли, остался только слух, необычайно острый, до предела усиленный. Он слышал только топот сапог и бешеный, пожирающий рев танков, этот зловещий вой нарастал, накатывался, подминал под себя всё. Цанка всем телом прижался к земле, он с ужасом ждал конца. Это был рев потопа на Оймяконе. «Вот он, мой конец», – вспомнил он Бушмана. В этот момент мощные руки подхватили его, оторвали от земли.
– Брат, вставай, пошли, – сквозь рев услышал он голос Басила.
Цанка раскрыл глаза, увидел окровавленное лицо младшего брата, моментально ожил, на согнутых ногах заковылял в обнимку с ним к милой мгле осеннего леса.
В густых сумерках немцы открыли по лесу беспорядочный, густой орудийный огонь. Били ровно два часа. Братья Арачаевы лежали в зверином проеме, под густыми корневищами старого дуба, не двигались, молчали, думали о своем, и наверное оба – о далеком Кавказе. Глубокой ночью, когда наконец наступила тишина, они забылись в тревожном, безотрадном сне.
На рассвете по лесу ходили солдаты, тихо окликали друг друга, боялись шуметь. Цанка проснулся раньше брата, долго с любовью смотрел на родное, покрытое спекшейся кровью лицо. Снял с себя шинель и накрыл его большое, свернувшееся по-детски в калачик тело. Потом курил самокрутку, о чем-то печально думал в предрассветной мгле леса.
Утром остатки полка собрались на небольшой опушке леса. Считали потери. В живых осталось всего 446 человек. В прошедшем бою погибли командир полка и замполит, командир второго батальона. Были брошены двенадцать орудий, потеряны почти все кони, не осталось провизии и кухни. Очевидцы говорили, что одна из фланговых атак противника полностью разгромила интендантскую роту. После короткого совещания решили выходить из окружения двумя отрядами. Братья Арачаевы попали в северную группу под командованием майора Нефедова. Южная группа сразу двинулась в путь, было оговорено, что встреча будет за линией фронта. Командиры решили далеко друг от друга не расходиться, идти параллельно и держать по возможности связь. Из этого ничего не вышло, не прошло и двух часов, как южная группа наткнулась на засаду немцев, начался ожесточенный бой. Бойцы северной группы стояли в оцепенении, слушая шум недалекого поединка. Все реже и реже хлопали карабины, все больше и больше нарастали автоматные очереди врагов, их орудийные залпы. Все длилось недолго, и как-то вмиг все оборвалось, затихло, погрузилось в страшную тишину.
Нефедов дал команду схорониться в лесу до темноты, выслал в северо-восточном направлении группу разведки. В полночь благополучно миновали небольшую речку Рессу, после этого обогнули стороной с виду нежилой городок Юхнов и двинулись в сторону фронта к Москве. В начале октября начались холода, ночи стали морозными, колючими, длинными. Шли сплошными лесами. Питались чем попало. В небольшом, не оккупированном немцами глухом селе Косьмово провели сутки, отдыхая, питаясь жирной горячей пищей.
Под Мятлево при переходе железнодорожного переезда впервые попали в засаду. Отступили, решили уходить в сторону. Однако противник сел на хвост. Начались короткие отступательные бои. В этих краях лесов было мало, много было открытых мест. Только благодаря смекалке и мужеству майора Нефедова красноармейцам удавалось избежать больших потерь и уходить от преследователей. Но и это продолжалось недолго, при переправе через реку Шаня возле поселка Ивановское вновь попали в засаду. До переправы Нефедов посылал специальную разведку, и те доложили, что путь свободен. Переходили речку Шаню глухой ночью, в самом узком месте. Здесь течение было быстрым, с коловертью лихвастым, по-осеннему колюче-морозным. Когда основные силы подразделения перебрались на противоположный берег, разразился встречный шквал огня. И здесь Нефедов не растерялся: не вступая в бессмысленный бой, повел группу по пологому берегу вверх против течения. Всю ночь двигались вдоль реки, пока не достигли болот и лесов. На рассвете недосчитались трети личного состава.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































