Текст книги "Прошедшие войны. II том"
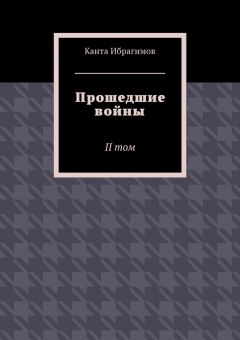
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
– Как фамилия? – небрежно перебил бас в трубке.
– Арачаев. Как у нашего старлея, командира третьего взвода. Арачаев.
– А что он там делает?
– Говорит, что себе могилу роет.
– Могилу они себе давно вырыли. Тащи его сюда. Отвези к дому и пусть предъявит документы, хоть домовую книгу, и выпытай, где боевики.
– Есть, товарищ полковник.
Сзади, меж ребер, старика больно ткнули дулом автомата.
– Пошли быстрее, – скомандовал охрипшим голосом сержант. Все побежали под склон. Арачаев не успевал, через несколько шагов он запутался в хилых ногах, поскользнулся, упал лицом в снег. Его грубо схватили под мышки, потащили волоком. Как мешок с картошкой, закинули в бронетранспортер, на грязный, холодный металлический пол. Цанка сильно ударился, от режущей боли в плече застонал. Заревел двигатель, машина тронулась, на ухабах она жестко прыгала, качалась, катала старика по полу из стороны в сторону от одного ряда солдатских сапог к другому.
Бронетранспортер на скорости несся вниз. В кабине стоял спертый, удушливый запах, под потолком тускло горели две забранные металлической сеткой лампочки. Цанка с трудом открыл глаза, увидел прямо перед носом щеголеватые сапоги капитана и выше – его решительное, жесткое лицо. Старик еще раз снизу внимательно вгляделся в лицо офицера и, пытаясь перекричать мотор, спросил:
– Ты Кухмистеров из Ленинграда?
– Из Питера я, – машинально ответил капитан, потом уставился сверху вниз на Арачаева, – Ты мне не «тыкай», козел, бандитское отродье.
– А у тебя бабушка Элеонора Витальевна? – не унимался старик.
– Что? – заорал офицер, и Цанка только теперь почувствовал резкий запах спиртного. – Откуда ты знаешь? Вы посмотрите, – теперь он обращался к сослуживцам. – Всё знают, вся информация у них есть. Ведь я говорю, что среди нас шпионы, предатели. Они продают им все…
– А Элеонора Витальевна жива? – осиплым голосом, перебил капитана валяющийся на полу старик.
– Да замолчи ты, скотина, – с силой пнул сапогом Кухмистеров Арачаева. – Умерла она, умерла, – гаркнул он в лицо Цанки, – Вы посмотрите? Всем интересуются. Вот бандиты! Сержант, подай бутылку. Нет, здесь трезвым быть нельзя. Кругом предательство, одни враги. Вы представляете? Нам, русским, у себя в России – жизни нет. – Он на ходу умело отвинтил пробку, сделал несколько глотков, поморщился, не закусывал. – Этих тварей истреблять надо, как тараканов, а кто недоволен, надо гнать из России. Тоже мне, развели, понимаешь, гуманизм, демократию, человечность. Да мы их всех на своем горбу вскормили, грабят они нас и всю Россию. – Он сделал еще пару глотков, снова сморщился: – Дай закусить…
На окраине Дуц-Хоте бронетранспортер остановился. Цанку вытащили, поставили на ноги.
– Где твой дом? – крикнул капитан. – Пошли.
Когда Цанку завели в собственный двор, он обмер от ужаса. К старому толстому ореху, растущему прямо посередине лужайки, был привязан его внук Ваха. Он весь был в грязи, одежда изодрана, на лбу и под глазом горели ссадины, нижняя губа разорвана, обильно кровоточила. Всех передних зубов не было.
– Ваха, Ваха! – истошно крикнул Цанка, бросился к нему. Старика схватили, остановили. Он впился глазами во внука, больше ничего не видел, не чувствовал, только заметил, как Ваха поднял лицо и даже слабо улыбнулся.
Молодой сержант доложил обстановку Кухмистерову, отдал ему загранпаспорт Вахи.
– Так это что – тоже Арачаев? – надменно возмутился капитан. – Вот теперь все ясно. То-то, я смотрю, наш Арачаев все морщится, рапорты об отставке пишет, – обратился он громким голосом к окружающим военным.
Он важно подошел к привязанному, осторожно, боясь испачкаться, одним указательным пальцем поддел нос Вахи и поднял избитое лицо.
– Ну что, бандюга, – усмехнулся он, – сколько наших ребят погубил? А наш Артур Арачаев случайно тебе не родственник? А в Турции что делал? Скотина. – И он с силой два раза ударил кулаком в грудь молодого Арачаева. Ваха еще больше согнулся, застонал, а офицер сделал шаг назад и с размаху ударил в пах, потом, как каратист, подскочил и в прыжке пнул сапогом в лицо. От резкого удара голова юноши закачалась из стороны в сторону, брызги крови полетели веером по кругу, обдав лицо и китель капитана. Кухмистеров осмотрел свой мундир брезгливым взглядом.
– Тьфу, ты скотина, замарал меня всего, – буркнул он, яростно заматерился, – сейчас ты языком все это вылижешь, мразь чернозадая, – приблизился офицер вплотную к связанному парню.
– Оставь его, оставь, не бей, – закричал Цанка, из последних сил вырвался из рук солдат, подскочил сзади к капитану и вцепился в его погоны. – Я прошу тебя памятью бабушки, Элеоноры Витальевны, не бей его, не калечь.
Капитан рывком сбросил руки старика, развернулся к нему лицом.
– Что ты сказал, старый козел? – надвинулся он коршуном на Цанку. – Что ты мелешь, старый черт? – дышал он пьяным угаром в изможденное, мокрое от слез, морщинистое лицо старика.
– Не трожь его, оставь. Я прошу тебя, я умоляю. – На последних словах голос старца задрожал, перешел на писклявый хрип, он задергался, тихо зарыдал.
– Товарищ капитан, не трожьте их, это невозможно, – выступил один из солдат.
– Пошел на… – выматерился грубо командир, – Прочь, в сторону, салага.
Кухмистеров вновь обернулся к старику, презрительно, тремя пальцами, схватил выдвинутый вперед заостренный подбородок Цанка.
– Ну что, старик, народил бандюг, а теперь жалеешь? – смрадно выдохнул он смрадным запахом в лицо Арачаева-старшего.
– Да, жалею, жалею, – тяжело вымолвил Цанка, – тебя, не благословенного Богом, народил. Вот ты и свалился на мою шею.
– Ты что несешь, козел паршивый? – вскричал Кухмистеров и неожиданно нанес короткий, хлесткий удар в челюсть Цанки. Голова старика резко откинулась: папаха полетела в одну сторону, вставные челюсти – в другую; очки залезли на лоб, но, удерживаемые резинкой, остались. А само тело столбом рухнуло в снег.
– Н-н-не тр-р-ро-жь де-да, – с усилием прошепелявил привязанный внук, еще что-то хотел сказать, но темная, густая кровь хлынула из его рта, он захлебнулся.
Через минуту, когда приступ прошел, Ваха поднял свое мертвецки-бледное лицо и с неимоверным презрением сделал что-то вроде плевка в сторону изувера. Говорить он больше не мог.
– Ах ты скотина! Ты еще будешь плеваться!? – взбесился капитан, сделал резкий разворот, яростно крякнул и изо всей силы ударил сапогом прямо в висок юноши.
Вновь голова Вахи взметнулась в сторону и сразу упала на грудь: тело обмякло, поползло вниз, повисло на прочных веревках. Левый глаз вывалился из орбит, закачался на тоненьком сухожилии, изо рта и носа замирающим потоком шла кровь.
– Отставить, прекратить, я приказываю, – вбежал во двор вспотевший бледный офицер, он бросился к безжизненно висящему Вахе. – Это мой брат, он студент, он не бандит. – Он дотронулся до парня, испуганно отпрянул и шепотом вымолвил: – Он мертв. – Потом развернулся и с перекошенным в гневе лицом крикнул: – Сволочи, вы убили его!
– Ха-ха-ха, – натужно засмеялся Кухмистеров, – вот ты и раскололся, Арачаев Артур Геннадьевич, мразь чеченская. Вот кто предавал нас, вот он, шпион. Предатель.
– Это ты его убил, гадина? – сжались кулаки старшего лейтенанта Арачаева, его лицо исказилось.
– Да я, – встал в вызывающую позу капитан. – И тебя сейчас угрохаю, прямо здесь, возле твоего братца.
– Ублюдок, – взревел Арачаев и бросился с кулаками на капитана. Кухмистеров изловчился, отскочил в сторону и нанес встречный удар. Старший лейтенант полетел в снег, быстро вскочил и вновь со звериным криком бросился на противника. Они сцепились, повалились наземь, пыхтели, матерились, в беспорядке наносили отчаянные удары друг другу. Никто их не трогал, все смотрели с неимоверным азартом, восторгом и любопытством за дракой командиров подразделений. Они долго катались по грязному снегу. Больше не кричали и не ругались, оба тяжело сопели, у обоих лица и кулаки были в крови. Наконец Арачаев подмял под себя Кухмистерова, стал размашисто колотить сверху. Капитан собрался из последних сил, изловчился и сумел скинуть с себя соперника. Они разлетелись. Потом одновременно тяжело встали на ноги, заняли выжидательную, бойцовскую позицию. Обоих силы покинули, осталась только смертельная ненависть, злость. Долго стояли друг против друга, не могли отдышаться. Наконец Кухмистеров пришел в себя, выпрямился, встал в боевую позу и вихрем кинулся вверх, хотел нанести решающий, отработанный удар ногой. Однако противник был не связан, как Ваха, Арачаев локтями защитился, отскочил в сторону. Капитан промахнулся, плюхнулся наземь, хотел вскочить, но поскользнулся и тут получил жестокий удар сапогом в голову. Кухмистеров потерял ориентир, у него все закружилось, но он все равно сумел встать на ноги. Однако Арачаев больше не упускал инициативы и стал размашисто бить капитана по лицу. Кухмистеров защищался, отступал, но все равно не сдержал свирепого натиска. Потеряв равновесие, попятился назад, споткнулся и упал в пепел сгоревшего накануне сарая. Уже лежа, он дрожащими руками выхватил из кобуры пистолет, рванул автоматически предохранитель и, не целясь, выстрелил в расплывчатый силуэт надвигающегося старшего лейтенанта. В порыве борьбы Арачаев сделал то же самое, только он стрелял в ясно видимую цель. Без остановки выпустил в сослуживца, а теперь смертельного врага, всю обойму. Из-за спины Арачаева прогремели две короткие автоматные очереди, и изрешеченный офицер свалился наземь. Он еще пару раз дернулся и замер.
Все застыли в оцепенении. Эта смертельная схватка привела всех в ужас. Наступила тишина, и только пришедший в себя старик Арачаев, кряхтя, стоная, встал, сделал несколько нетвердых шагов, очутился прямо в центре трех трупов. С минуту он стоял неподвижно и вдруг истерично захохотал.
– Мои внуки вернулись, – с блаженной улыбкой вымолвил он, поправляя очки. – Я мечтал об этом, молился. Вот и сбылись мои мечты, возвратились все к очагу родному. Здесь покой нашли… В борьбе жили, в смерти нашли единение. – После этой фразы его лицо стало серьезным, даже испуганным. – Видимо, правда, что из одного истока мы вышли и, враждуя, к одному истоку придем. Как бы и этот исток не высох, не пересох от взаимной ненависти.
В стороне кучкой стояли солдаты.
– Старик совсем с ума спятил.
– Еще бы, Кухмистеров дал ему понюхать русского кулака на склоне лет. А то расплодил бандюг по всему свету.
– Так неужели наш Арачаев шпионом был?
– Конечно, был, ты не видел, назвал того братом.
– И все-таки Кухмистеров деспот был, а Арачаев – как родной, зря наши головы не подставлял.
– Не деспотом он был, а за очищение крови русской боролся.
– Да, затерлось всякой дряни к нам порядочно.
– Ты-то что болтаешь? Сам-то азиатчиной воняешь, а может, ты и вовсе жид?
– Что ты сказал… – послышался отвратительный мат.
Дело шло к очередной схватке, однако в это время в воротах арачаевского двора появился командир бригады – коренастый, краснолицый полковник в сопровождении офицеров и охранников.
– Что здесь происходит… вашу мать, – гаркнул он с ходу. Никто ему не ответил, только расступились. Все встали в струнку, кроме старика. Полковник взглянул, возмущенно мотнул головой, обернулся к свите.
– Нет, я так больше не могу. – Он смачно сплюнул, выругался, далее более твердым, жестким голосом: – Я готовил себя к защите Родины, а не к этим разборкам… Хватит, завтра же подаю в отставку.
Стоявший в стороне прапорщик толкнул в бок соседа и густым басом прошептал:
– Как сказал классик: «Поздно, батюшка, поздно».
– Да, – с усмешкой подхватил сосед, – под конец кампании одумался. Гуманист хренов. От внеочередного звания и Героя не отказался, а теперь хочет очернить всех, а сам на белом коне в Москву въехать.
– Так оно и будет.
– А так оно всегда и было.
Полковник вышел со двора на улицу Дуц-Хоте.
– Та-а-а-к, – думая о чем-то постороннем, глядя в голубое небо, сказал он, – где майор? Передай немедленно в штаб. Крупномасштабная операция успешно выполнена, полностью уничтожена банда боевиков, разгромлено их логово. Наши потери – двое военнослужащих.
– Товарищ полковник, что делать с погибшими?
– Как обычно – в морг.
Солдаты положили на носилки погибших офицеров.
– Не забирайте их, оставьте, – кричал слабым, старческим голосом Арачаев Цанка, пытался помешать солдатам. – Я их похороню, они мои, они домой вернулись.
Старика пытались отстранить. Он не унимался. Еще раз оттолкнули. Тоже не помогло. Все равно не отставал.
– Да что вы с ним цацкаетесь? – рявкнул кто-то. – Надо, как Кухмистеров, дать ему в морду.
Цанка вновь в беспамятстве лежал на земле.
С самого утра до полудня стояла весенняя погода. Мартовское солнце сияло высоко, приятно грело. К обеду все раскисло, растаяло, только в густой тени домов и заборов остались пористые, осевшие островки почерневшего снега. Над Дуц-Хоте стоял плотный смог. По селу беспорядочно носились танки, бронетранспортеры, другая техника. Солдаты рыскали по дворам, искали боевиков, выносили последний скарб…
К вечеру Дуц-Хоте вновь обезлюдело, стало еще мрачнее и печальнее. По ущельям поползла молочная дымка, в сумрачном тумане скрылись вершины гор. После захода солнца резко похолодало, с северо-запада подул леденящий ветер. Он пригнал с собой увесистые, черные тучи. Кругом царила гнетущая тишина. Только на вершине акации изредка, жалобно мяукал рыжий котенок. С самого утра, испугавшись рева техники, он забрался на дерево и теперь не знал, как слезть.
В сумерках Цанка очнулся, открыл глаза. Ему было холодно, все болело, ныло, особенно голова. Он долго лежал глядя в чернеющее небо, вдруг сразу все вспомнил. Не веря в случившееся, привстал, оглянулся и совсем рядом увидел неестественно обвисший, безобразный, привязанный к ореху труп внука.
– Ва-а-ха-а, – простонал старик, хотел вскочить. От резкого движения, что-то острое кольнуло в голову, в глазах помутилось, он вновь упал и потерял сознание.
Беспамятствовал Арачаев долго. Пока лежал, совсем стемнело. Из темных туч обильно валил мокрый снег. Он прикрыл нежным покрывалом все земные мучения прошедшего дня – всю эту грязь, кровь, мерзость. Освободившись от снежного запала, небо местами прояснилось. Кое-где на небосклоне загорелись жизнью звездочки.
К Цанке медленно стало приходить сознание, он был еще в полуобморочном состоянии, однако стал все чувствовать, просто не мог двигаться. И вдруг, то ли во сне, то ли наяву в небе появилась легкая, призрачная тень. Она как-то беззаботно, играючи, какими-то заманчивыми зигзагами подлетает к старику, и неожиданно Цанка видит, что это Бушман. Андрей Моисеевич весь сияет, от него веет молодостью и свежестью, он даже благоухает, только очки остались те же – большие, коричневые, снятые на Колыме с умершего напарника.
– Здравствуй, Цанка, дорогой! – восторженно вскрикнул Андрей Моисеевич.
Старик молчал, не хотел говорить. Веселость гостя его раздраконила. Однако Цанка терпел, до конца желал чтить законы горского гостеприимства.
– Ты что не здороваешься, друг мой? Сколько лет мы не виделись? Разве ты не рад мне? – лицо физика расплылось в умиленной улыбке, обнажив красивый ряд белоснежных зубов.
Арачаева удивило увиденное, он даже отпрянул.
– Бушман, с каких это пор у тебя во рту зубы появились, ведь ты вечно беззубым был?
Физик с наслаждением засмеялся.
– Скоро и у тебя будут. Заработали мы с тобой лучшую долю. Не поскупился ты, молодец.
– Ты о чем болтаешь, старый черт?
– Хе-хе-хе, Цанка, посмотри на себя. Это ты теперь старый, а я по сравнению с тобой юноша.
– Выстрадал бы ты столько же, посмотрел бы я на тебя.
– Ну, страдали мы все, – стал серьезным Бушман, – просто на земле все люди сами себя старят, сами себя каждодневно точат. Ведь почему у вас на земле человек из красивого ребенка превращается в дряхлого, противного старика? Только из-за каждодневного греха. Да-да, старость на лице – это следы плохих поступков, а главное, низменных мыслей и желаний. Да, хуже всего – плохо думать. Потому что мысль первична, а действие вторично, и не обязательно плохая мысль претворяется в жизнь. Но если она родилась в твоем сознании – это уже огромный грех.
– Так, значит, все старики грешны?
– И не только старики, любой человек грешен. И, ты знаешь, все это очень сложно. С одной стороны, грех – это отторжение от Божьих истин, а с другой – со времен Адама человеком движет любопытство, интерес, мечта о неразгаданном. Человечество достигло невиданного прогресса в своем развитии, в интеллекте и одновременно в такой же степени деградировало, обнищало сознанием, духовностью. Посмотри, главная ценность – деньги. Все проблемы вокруг денег. А что такое деньги? Это то, что мы добывали на Колыме. И что с этим в конце концов стало? Вон, говорят, у того господина денег на десять поколений вперед есть. Мнимые деньги есть, а вот поколения, даже одного, не бывает, а если случайно и есть это поколение, то уроды они безликие.
– Хватит болтать, хватит чушь городить, – перебил Бушмана Цанка, – от тебя одно зло. Сбылись все твои «карканья»: и родник высох, и народ мой сбежал, и я в один день потерял внуков. Война идет страшная.
– Ну, перестань, перестань, Цанка, не вали все в одну кучу, – недовольно поморщился Андрей Моисеевич, – Война и ее последствия – это продукт грешных мыслей и дел сильных мира сего, тех, кто вами управляет на земле. А этих «управляющих» вы сами выбрали, вот и собирайте тот урожай, что посеяли. А что касается жизни и смерти – это воля Божья, и с этим надо смириться и благословить случившееся.
– Ты что-то вновь о Боге заговорил, на Колыме ты был отчаянным безбожником, – злобно прошепелявил Цанка беззубым ртом.
– То было давно, – спокойно отвечал Бушман, – а теперь благодаря моему кропотливому труду я преобразился.
– И что ты там делаешь, физик вшивый? Небось и теперь бумагу изводишь.
– О-о-о, Цанка, тебе не понять, – начал было Бушман.
– Да, куда уж нам – темным и необразованным, – перебил его язвительно Цанка.
– Ну, ты ведь физику не знаешь! – вскричал, не выдержав, Бушман, – да и мало кто ее теперь знает. Физика и естественные науки в целом – это все. Это вся жизнь! А остальное, всякие там гуманитарные дела – это бред человека, это попытка исследовать суету человечества. Так разве можно сумасшествие людей, стремящихся к богатству, роскоши и славе, изучать, описывать, стремиться к этому. Конечно, нет. Это просто общечеловеческое помешательство. Люди потеряли ориентир. Деньги изменили положение стрелки компаса человеческого бытия, и люди со времени появления денег идут не в том направлении. Тот, кто выдумал деньги, был гениальным дьяволом. А главная функция денег – это вечная вражда меж людьми за их обладание. Ты представляешь, за какую-то бумажку, с изображением, может быть далеко не лучшего человека, люди готовы на все, в основном на самое низменное. Разве это не обожествление человека, не мракобесие? – Андрей Моисеевич сделал паузу, задумался. – Ну их, – махнул он рукой, – здесь, слава Богу, этих проблем нет. Здесь господствуют настоящие ценности. Я столько открытий сделал, оказывается, я просто талант.
– А что такое талант? – решил поиздеваться над физиком Арачаев. Бушман стал серьезным, посмотрел задумчиво вдаль, вытянул вперед подбородок.
– Талант – это Богом данное счастье и горе, которое не дает тебе ни секунды покоя.
– Ой, бедняжка, – засмеялся беззлобно Цанка, – ты каким был заносчивым, таким и остался. Ничуть не изменился. Вот я, видишь, исстрадался весь, скрючился. А ты?
– Замолчи, Цанка, перестань. Я тоже переживал вместе с тобой. Мы ведь с тобой навечно повязаны. А земные страдания – это искупление грехов наших. Много их у нас было.
– У тебя, может, и много, а я при чем тут?
– Ой, ты у нас ангел, – лукаво сощурился Бушман, потом улыбнулся. – Теперь все, Цанка, отстрадались мы, еще немного – и уплывем мы с тобой в даль далекую, благодатную.
– У меня одна благодать – это моя родина, мои горы, и другой благодати мне не надо. Смени очки, если не видишь, и посмотри, как здесь красиво.
– Ой, Цанка, за больное задел. Эти очки, грешным образом добытые, никак снять не могу. Но осталось недолго, чуть-чуть. Ты, Цанка, угомонись напоследок, успокойся, смирись с Божьей волей, и все будет хорошо, – ласково сказал физик.
– Что «будет хорошо»? – вскричал старик. – Я все потерял! Все! Как я могу быть спокойным? Как?.. Пошел вон! Будьте вы все прокляты!
– У-у-у-у, – завыл Бушман, – ну, ты совсем плохой стал. Ну потерпи маленько, чуть-чуть осталось.
– Пошел прочь! – вновь завопил Арачаев.
– У-у-у, – вновь протянул Андрей Моисеевич и неожиданно, так же веселясь, взлетел, сделал веселый пируэт в воздухе, вернулся. – До скорой встречи, Цанкочка. – Махнул рукой и исчез.
«Вновь я один остался, вновь я живой», – печально подумал Цанка. Он лежал с закрытыми глазами в перемешанной со снегом грязи. Он еще дышал и чувствовал, как родная земля пахнет сыростью и холодом. Он не хотел вставать, он не мог встать, он уже ничего не хотел, ему все опостылело, жизнь надоела, измучила его до предела сил. Наверное, впервые в жизни он ощутил полный покой, он не чувствовал тяжести своего тела, и никакая боль его не беспокоила, все стало безразличным, чуждым, отстраненным, даже собственное тело. Он слышал слабый, частый стук своего сердца, и еще он слышал свое прерывистое дыхание: оно становилось все реже и реже. Цанке стало спокойно – у него не было сил думать, жить, страдать.
Подул резкий, порывистый, холодный ветер. Капельки ледяной влаги увлажнили увядшее лицо. Пошел снег, он был мокрый, тяжелый. Цанке казалось, что он слышит, как снег медленно ложится на его непокрытую лысину. Снег на лице таял и маленькими ручейками стекал по глубоким морщинам старческого лица. Кончиком языка он почувствовал пресную влагу. Ледяная сырость с каждым вдохом проникала вовнутрь. Снег шел все больше и больше, и старику казалось, что уже не отдельные хлопья падают на землю, а целые слои белого безмолвия накрывают его голову. Было тихо, спокойно. Это безмолвие ублажало его, он с облегчением ждал конца.
Порывы ветра стали резче, и до его сонного слуха донесся далекий, знакомый вой.
– У-у-у, – завыли вновь голодные звери и напомнили этим последние крики Бушмана.
– У-у-у, – разнеслось по горам страшное, многократное эхо.
Снова завыли. Теперь совсем рядом. Током прошибло сознание старика. «Это ведь шакалы или, что еще хуже, одичалые собаки. Они ведь съедят меня и внука… Меня-то – на здоровье, а вот моего любимого внука – нет… Нет. Это невозможно. Я должен его похоронить, я должен его достойно предать земле. Это последнее мое мучение. Это последнее дело на этой земле… Я должен…»
К старику вернулось волнение, а вместе с ним и сознание. Он вновь услышал, как учащенно стало биться его сердце, глубоким стало хриплое дыхание.
– О Боже, дай мне сил. Дай терпения и мужества. Помоги мне, – шептал лежа Цанка.
Он уперся руками в скользкий морозный грунт, тяжело присел. Теперь он отчетливо услышал, как воют шакалы. Это было совсем рядом.
– Одни шакалы ушли, другие пришли, – прошептал злобно он.
Старик длинными, худыми руками уперся в землю, сделал огромное усилие над собой, встал. На непослушных ногах подошел к толстому ореху. От искривленного в ужасной позе одеревенелого тела веяло холодом и отчужденностью. С усилием Цанка подошел к мертвецу, дотронулся до густых, спекшихся в крови волос и только тогда ощутил родную плоть.
– Ва-а-ха, – простонал он и тихо заплакал.
Развязать смерзшиеся, толстые путы он не смог и побрел в дом за ножом. В дверях ударился обо что-то тяжелое, металлическое. Долго искал спички, дрожащими руками с трудом зажег керосиновую лампу. Оказывается, ударился он о забытый или кем-то брошенный автомат. Огляделся в ставшей чужой комнате. На стене не было старинного ковра ручной работы, двустволки, деревянного ящика с Кораном и серебряного именного кинжала его прадеда. Большой сундук был раскурочен, перевернут.
– Все унесли, подонки, – проворчал он вслух, – армия мародеров и алкоголиков. Безбожники проклятые!
Когда Цанка, держа в руках керосиновую лампу и кухонный нож, вышел во двор, несколько хищных теней бросились в разные стороны со двора.
– Ух, твари поганые, – срывающимся, сиплым голосом крикнул он.
К ночи ветер усилился. Жестко кололи в лицо снежинки. Мороз крепчал, снег стал легким, быстрым, игривым. Огонек в керосинке задергался, заколыхался под порывом ветра, но выстоял, слабо осветил небольшой участок двора. Цанка обрезал путы, положил внука на землю. Упал пред ним на колени. Плакал, гладил старыми ладонями безжизненное, изуродованное лицо внука. Будто бы хотел запомнить на всю долгую, оставшуюся жизнь черты любимого потомка. Снегом, как мог, очистил тело и волосы от спекшейся крови. Потом сквозь слезы долго читал заупокойную молитву. После этого несколько успокоился.
– А честно говоря, – обманывал он сам себя, – счастливым оказался мой внук. Я постараюсь его как положено похоронить… Даже повезло ему. Грязи земной он больше не увидит. Ведь говорят, что Бог раньше забирает лучших. Дай Бог, чтобы мой любимый внучек попал в рай… А куда еще ему попасть? Что он мог сделать грешного на этом свете? Это я старый грешник. Эх, чего я только на этом свете не видел, чего я только не сотворил. Видимо, за мои грехи земля меня не принимает… Неужели на том свете я не увижу своего внука? А есть ли он? Ах, старый болван, за такие мысли Бог и послал мне в жизни столько испытаний… А может, внучек там меня уже ждет? Он обо мне там позаботится… И все-таки какая я сволочь! Старый болван, век прожил, а мысли все те же грешные. Даже теперь все себе выгоду ищу, все взвешиваю, хочу «соломку» себе подстелить, даже в смерти внука хочу найти пользу… Почему я такой? А может, все люди такие?!
Снег толстым слоем покрыл почву. Земля стала белой, чистой. Небо черное, бесконечное, страшное. Обреченно завыли шакалы, где-то лаяла одичавшая собака.
Совсем рядом на белом фоне задвигались угрожающие тени. Блеснули мертвецким холодом глаза зверья. Шакалы уже не кричали, они трусливо, поджав хвосты, подталкивая друг друга, небольшой стаей приближались к старику.
– Нет, что вам кажется – неправда. Думаете, что вы стали хозяевами в селе. Нет… Я вам сейчас покажу, кто здесь хозяин. Твари! Вон отсюда. – И Цанка с яростью плюнул в сторону зверья.
Стая, испугавшись крика, молниеносно исчезла, но через мгновение снова появился темный силуэт хищника, за ним второй, третий.
– Нет, я еще жив и я вам это сейчас докажу… Сволочи! Твари! Думаете, что в селе нет людей, нет мужчин, нет хозяина? Думаете, что вы, мерзкие твари, будете здесь хозяйничать? Нет. Неправда. Я еще здесь, я еще жив. – С этими словами Цанка направился к дому. Он вспомнил про забытый в доме автомат.
Когда старик вышел из дома с автоматом в руках, шакалы уже открыто сновали по двору. Деревянные старческие руки никак не могли снять предохранитель, еще труднее было с затвором. Тогда Цанка уперся рукояткой автомата в землю и всем своим весом лег на оружие, он почувствовал кожей тощего живота грубость смертоносного дула. Он надавил еще сильнее. «Сейчас выстрелит», – подумал Цанка. Раздался сухой щелчок, затвор передернулся, но выстрела не последовало. «Если бы так сделал какой-нибудь полезный член общества, чей-либо молодой, нужный сын, то этот автомат давно бы разразился длинной очередью, а мне даже в этом не везет», – усмехнулся горестно старик.
Цанка поднял автомат и, не целясь, направил его в сторону зверья. Раздался короткий щелчок – и тишина, снова нажал – снова тишина. Тогда он снял спешно рожок и провел по нему грубыми пальцами. Патронов не было. Отчаяние овладело им. Потом ярость и гнев. Он из последних сил, крича, бросил автомат в сторону шакалов. Полет оружия был коротким, бесполезным: автомат беззвучно нырнул в неглубокий, рыхлый снег.
Вконец обессиленный старик медленно подошел к внуку, упал на колени, склонив голову. Он хотел читать молитвы, хотел просить Бога и всех пророков о помощи, о пощаде. Но он ничего не мог – сидел и молча ждал своей печальной участи. «Видимо, я в жизни столько грехов совершил, что судьба в самые последние минуты моей жизни послала мне такие испытания… Послала тогда, когда я потерял все свои силы, всю свою энергию… Видимо, это те самые собаки и остальное зверье, что я съел в жизни, на Колыме. Они вернулись, чтобы съесть меня и моего внука… Прав был этот очкарик-физик: не будет у меня и у него могилы, не смогут нас благословить после смерти близкие люди… Видимо, недостоин я памяти…»
Цанка тихо сидел. На непокрытой его голове, узких плечах и согнутой спине образовались маленькие снежные бугорки. Талая вода с лысой головы стекала за ворот кителя, щекотала впалые ребра. Он уже не плакал. Плач – это тоже жизнь, это борьба за жизнь, а Цанка плакать уже не мог, он ничего не мог, он ничего уже не хотел. Только слышал, как ближе и ближе сопели, вынюхивали и фыркали голодные шакалы. Смертельное кольцо медленно сжималось. Даже слабоватому на слух Цанке стала слышна мелкая поступь хищников. Ему казалось, что это громадные звери, что они велики. Он знал, что бессилен и беспомощен. Что он жалок. Наконец, он почувствовал их запах болотного мха и клопов.
– Нет, нельзя встречать врага сидя. Затопчут, затопчут. Надо встать… Вставай! Встречай врага стоя. Ведь нельзя отдать им тело внука. Нельзя, – проснулся в Цанке, в последний момент, инстинкт жизни.
Он еще жил, еще дышал, просто не мог ничего сделать. Старик чуть встрепенулся, поднял голову. Его глаза встретились с леденящими душу точками. Эти точки – огни были холодными и безжизненными. Они были наглыми, голодными, вызывающими. Цанка собрал все свои хилые силы, чтобы встать, чтобы просто встать. Он еще раз, в последний раз приготовился к борьбе, к борьбе за жизнь. Почувствовав движение, шакалы встрепенулись, насторожились и приготовились к решающему прыжку. Наступила мгновенная пауза. Пауза, после которой затмевается рассудок, и появляется азарт, страсть, жажда насилия, борьбы. Сколько раз у Цанки в жизни были такие мгновения, и вот на решающий поединок не осталось сил… И в этот момент раздался страшный грохот: один, второй, третий, бесчисленное множество из разных орудий. Звериные огоньки потухли, тени с визгом исчезли. Цанка даже не понял, в какую сторону шакалы убежали. Все произошло так неожиданно, быстро. А канонада все продолжалась.
Цанка слышал, как над головой со свистом пролетали снаряды. Они перелетали гору и взрывались за перевалом. Российские войска обстреливали следующее село.
– Хоть одна от вас польза, – сказал тихо старик, оглядываясь по сторонам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































