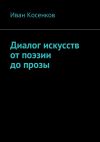Текст книги "Ненормат"

Автор книги: Кат Катов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Вопросник
Был бы клоуном, было бы проще
получать каждый раз по носу.
Тут же водку пьёшь еженощно,
задавая себе вопросы.
Ты какого, простите, хера
ждёшь, что всё обернётся прошлым?
Ври себе, но и знай же меру:
ничего уже нет хорошего.
Вот зачем ты опять повёлся
на намёк, что не всё потеряно?
Сколько было таких же вёсен —
тех, расстреливающих доверие?
Там, напротив, живётся скушно,
там всегда и бездонно правы.
Ты не понял, что ты игрушка?
Мальчик для битья и забавы.
Это с Крымом всё очень просто:
раз – и радость у всех с лихвою.
У тебя ещё есть вопросы?
Зря. Мы можем прийти с конвоем.
А зачем же? За что? Не важно.
Там не спрашивают, там всё просто.
Ты пустая деталь пейзажа,
аппендектовидный отросток.
Ты в расчёт не берёшься вовсе,
зря не тешь себя искушеньем.
У тебя ещё есть вопросы?
Нет. Но нет уже и спасенья.
# # #
Когда зелёным и тревожным
покроется весенний лес,
ты выйдешь в двери осторожно,
чтоб достучаться до небес.
Ты станешь бить во все пределы,
звенеть ключами и вопить.
А никому не будет дела.
И пить. Осталось только пить.
Папироска
Угости, братишка, папиросой сладкой —
мой кисет пустой уже давно.
В госпитале, помню, бился в лихорадке,
а курить хотелось всё равно.
Вот спасибо. Чиркни – мне-то несподручно.
А богатый у тебя «Казбек».
Я был раньше тоже как пила – двуручный,
а теперь из гвардии калек.
Ничего, прорвёмся. Не в окопах, верно?
Сам-то где, летёха, воевал?
Третий Украинский, в роте инженерной?
То редуктор, то, блядь, коленвал?
Ладно, слава богу, третий год мы дома,
третий год, как кончилась война.
Расскажу тебе, товарищ незнакомый,
как приснилась мне моя страна.
Будущее, в общем, год какой, не знаю,
но лет тридцать вроде как прошло.
Веришь, до сих пор там наш товарищ Сталин
истребляет мировое зло.
Сам его не видел, только на портретах
как живой и даже не старик.
Музыка в квартирах – чисто оперетта.
Как сказал однажды мой комбриг…
Ладно, это после. Слышь-ко, а машины!
«Студебеккер» рядом не стоял.
Если бы ты видел, что там в магазинах,
то на раз и пить бы завязал.
Все кругом гвардейцы, даже пионеры —
как так это вышло, не скажу.
Пусть теперь завидуют псы-миллионеры
Запада такому виражу
Родины советской, что сумела сказкой
стать, негнущимся гвоздём.
И там, веришь, новый молодец кавказский,
как я понял, быть готов вождём.
Ну, американцы нам враги, хоть тресни,
те ещё союзнички, ага.
В будущем, ты знаешь, вновь они воскресли
в образе привычного врага.
Давят на Россию, прямо как сегодня,
прямо как и не прошли года.
И Европа эта, мировая сводня,
шурудит, не ведая стыда.
Люди, как и нынче, в том далёком годе
сталинским традициям верны.
Правда, вот не понял: с Украиной вроде
мы там в состоянии войны.
Как-то непонятно, будто с перепою —
век такому в жизни не бывать…
Мало ль что приснится, дело-то такое —
сон же ведь, едрёну твою мать.
В общем, не напрасно мы три года с лишком
защищали родную страну.
Что, уже выходишь? Будь здоров, братишка.
Папироску дай еще одну.
Эпитафное
Вы сдохнете. Ах, вы оскорблены?
Ну хорошо, не сдохнете – помрёте.
В постели, под печальный свет луны,
или на встречной, врезавшись в «тойоту».
Не важно. Мне до вас и дела нет.
Я это к слову – в общем, беспричинно.
Презрев сегодня промискуитет,
задумался случайно о кончине.
Своей, конечно, хрена ль ваша мне?
Так вот, я сдохну рано или поздно.
(Тут надо бы о порванной струне,
о том, что захлебнутся криком звёзды
и прочую фальшивую фигню,
но лень, и скучно, и бесперспективно).
И лишь последних несколько минут
заставят обернуться объективно.
Ну, что? Да ничего, такую жизнь
не принято описывать в романах.
Ага, давай ширей карман держи,
что вдруг найдётся хроникёр гуманный,
биограф твой, посмертный милый друг,
исследователь бытия поэта.
Который понапишет много букв
о том, как приключалось то и это.
Как ты пришёл к вершинам мастерства,
как жил, любил и тяжело работал…
Увы, судьба жестока и черства,
ей похую твои гомозиготы.
Уж лучше сам, покуда полон сил,
покуда не лежу на смертном ложе.
Ну да, я, в общем, милым в детстве был,
что о себе сказать здесь всякий может.
Потом, конечно, стало похужей,
но и не так чтоб стал исчадьем ада.
(Тут запросилась рифма «Фаберже»,
а вслед за ней к чему-то и «помада»).
Умел любить, умел и предавать.
Был на войне не шибко знаменитой.
Залазил к разным женщинам в кровать,
мог в одного приговорить пол-литра.
Чего-то там придумывал в башке,
чего-то даже где-то воплощалось.
Бывало, что и нос был в табаке,
бывало, и рубля не оставалось.
Тщеславием излишним не страдал,
зато страдал излишне по химерам.
Когда за мной приедет катафалк,
то в воздухе слегка запахнет серой.
Не оттого, что близок к сатане —
с «Техуглерода» ветерок повеет…
Страна не пожалеет обо мне.
Лишь графоманы строй сомкнут теснее.
Сонетик
Вы далеки, как прошлогодний снег,
как тихий дождь в жарой звенящий вечер.
Отложенная в будущее встреча
останется несбывшейся навек.
Мы пережили самоих себя,
не став друг другу главным и последним
событием. Придуманные бредни
неслись сквозь нас, терзая и губя.
Всё хорошо. Всё кончилось уже.
И новый неразменянный сюжет
сулит начало жизни окончанья.
Тих и спокоен вечер. Бога нет.
Он знает цену неразумных тщет
слепого и конечного отчаянья.
Звонок
Если верить телефону, то звонит Егор Катугин,
только голоса Егора что-то я не узнаю.
У Егора бас примерный, мы его за это любим,
здесь же – ангельская песня, допустимая в раю.
«Здравствуй, – говорит мне песня. – Это я, Смирнова
Белла.
Помнишь, мы на третьем курсе целовались во дворе?»
Как не помнить, было дело. Было дело, было дело,
было дело, было дело, было дело в октябре.
В октябре мы целовались, биохимию не сдали,
и историю не сдали, и ещё чего-то там.
Потому что улетали в неизведанные дали,
там витали в райских кущах, или проще – по кустам.
А с кустов спадали листья, обнажая суть явлений,
и не только суть явлений, но и нежные соски.
Каждый день дарил нам столько всевозможных
откровений,
что смолчать тут было можно, лишь зажав язык в тиски.
А язык не зажимался, потому что не бывает,
что когда кого-то любишь, ты ему не говоришь,
что всего его ты любишь или всю её ты любишь.
И пусть мир к чертям летает, если просто рядом спишь.
Просыпались, просыпали биохимию всё ту же,
и историю опять же, и шатались по кино.
Только петелька сжималась этим временем всё туже,
и в бокале выдыхалось золотистое вино.
И в зачётах разных химий под декабрьской порошей
что-то где-то потерялось – невозможно, навсегда.
Потому что вдруг услышать: «Ты прости меня, хороший,
ты был очень-очень нужным…» Ну, вы поняли всё, да?
Наступал январь свинцовый, уходил февраль тоскливый,
и лишь в марте, только в марте стало можно вдруг дышать.
И Катугин отряхнулся, стал привычным и ленивым:
сколько можно у соседей остры ножики держать?
А потом всё стало проще, жизнь тянулась незаметно,
без особых потрясений и каких-то страшных бед.
Это трубка телефона, это не Егор, конкретно.
Это просто райский голос…
«Извини, не помню. Нет».
Скрепочка
Пока на амвоне дворцового храма
шуты извивались смешно и нелепо,
в башке короля колотилось упрямо:
«Духовная скрепа, духовная скрепа».
И вроде бы всё, как и прежде, толково —
колышется рожь, умножается репа.
А вот на душе отчего-то хуёво,
там где-то зудится духовная скрепа.
В народе какая-то злобность во взгляде,
толчётся в безверье он глупо и слепо.
Придворные – суки, в правительстве – бляди.
Единственный выход – духовная скрепа.
Духовник кивнул, выражая прискорбность,
зять выпил за тему поллитру с прицепом:
«Король, ну их на, сунь им в жопу соборность
и выверни матку духовною скрепой».
Бездельники, эмо, фейсбук, экстремисты,
певцы безобразья от рока до рэпа,
тусня, бандерлоги и иеговисты —
по каждому плачет духовная скрепа.
И скрепа проснулась. Поправив завивку,
она поднялась, величаво-свирепа,
зевнула – и ёбнула всем по загривку.
Она была строгой, духовная скрепа.
Король рассуждал с бутылём «Цинандали»,
камин разжигая наколотой щепой:
«Ништяк козью морду мы им показали?
Запомнят надолго. Не правда ли, скрепа?»
Бурьян. Колокольни. Казаки. Дружины.
Значок ГТО. Православье. Вертепы.
Герои труда. Справа бронемашина.
На флаге рейхстага – духовная скрепа…
Я был в этом городе. Вечером снежным
стоял он без шуток, без мата, без света.
Рекламой отелей встречали приезжих
мертвецкие склепы, мертвецкие склепы.
Ожог
Бог-курильщик затягивается папиросой
перед тем, как выдохнуть облака,
что ложатся чуть ниже речных утёсов
и слегка качаются. Лишь слегка.
Запах дыма таёжного – запах Бога,
благодатный жар на краю земли.
Так сжигается бережно то немногое,
что сберечь по глупости не смогли.
Выгорают лиственницы и болота,
сухостой и редкие солонцы.
Это просто такая работа —
по живому резать: Бог – публицист.
Докурив, вниз бросая святой окурочек,
насылая народишку глад и мор,
он не в гневе, он строго и мрачно будничен,
как заштатный в районном суде прокурор.
«Как? За что?» Не трудись познанием
неизвестного. Просто знай,
что сгорает безудержно в этом пламени
то, что ад. Но и то, что рай.
А под вечер, когда уже выжжено лишнее,
дождик брызнет, последний пожар поправ.
Бог – курильщик. Он возится с фотовспышкою.
И плевать ему на минздрав.
Хорошие пьески
Башлык
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Сашка, Шура, Саня – студенты журфака.
Таня, Наташа – их сокурсницы.
Корсунский – комсомольский вожак курса.
Галина Петровна – мать Наташи.
Глеб Алексеевич – парторг факультета.
Степан – водитель водовозной машины.
Полковник Чучалин – начальник военной кафедры.
Действие происходит в крупном областном центре и его окрестностях в начале 80-х годов прошлого века.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Большая комната деревенского общежития, плотно заставленная койками. Посередине длинный стол со стоящими вокруг табуретками. По радио хор имени Пятницкого поёт песню «Некому берёзу заломати». В углу на кровати с ногами сидит Сашка, что-то пишет в тетрадь.
Сашка (бормочет): Перепутанный мир в сознании… Перепроданный Бог, переструганный идол… Перечёркнутый круг… Хрень какая-то.
Протирает очки с выпуклыми линзами, встаёт, подходит к столу, наливает чай в эмалированную кружку из большого алюминиевого чайника, выключает радио. На крыльце раздаются шаги, в комнату входят Саня, Шура, Корсунский, Степан, снимают куртки и ватники, рассаживаются за столом.
Шура: Спасибо, Сашка, накормил. Там, кроме макарон, в запасе на кухне нет ничего, что ли?
Сашка: Это ты девчонкам спасибо говори, моё дело воду натаскать да дров нарубить.
Саня: Шура, ты ж с голоду пока не пухнешь? Послезавтра колхоз обещал мяса подогнать, отъедимся.
Корсунский (Сане): Ты, между прочим, как командир, этот вопрос давно уже должен был решить с председателем. У нас студенты нормальным питанием не обеспечены. А это, знаешь, добром может не кончиться.
Саня: Иди в жопу, проглот, на тебя не напасёшься. Правда, одно доброе дело ты сегодня учинил. Экое чудо в перьях притащил! (Все, кроме, Сашки, смеются. Степан неуверенно улыбается, грея руки о кружку с чаем).
Сашка: И чего там такого смешного в клубе приключилось?
Шура: Приключился известный гипнотизёр Валентин Стадниченко. «Товарищи, сегодня я вам расскажу об удивительном действии гипноза на наше подсознание. Прошу выйти на сцену добровольцев, желающих приобщиться к тайнам психики…» Ой, не могу! А Стёпа-то, Стёпа!
Степан: Да ладно вам.
Корсунский: Нормальный мужик, кстати. Он со своими гипнотическими опытами в политехе два дня подряд выступал – в большой аудитории геофака плюнуть негде было. Я в райкоме комсомола его из-под носа у медиков увел.
Саня: Представляешь, выходят на сцену десять наших чувих, тётки там колхозные и Стёпа. Гипнотизёр им говорит: «Сцепите руки на затылке, закройте глаза. Когда я досчитаю до десяти, руки вы разжать не сможете». Досчитал. Тётки руки опустили, плюнули и со сцены ушли. Один Степан стоит, дёргается, тут он его в оборот и взял: подошёл, ладонью в лоб легонько толкнул. «Вы, – говорит, – теперь у нас Наполеон!»
Шура: Стёпа руками махал, маршировал, по-французски что-то кричал. Мы там на пол все сползли от хохота…
Входят Таня и Наташа.
Таня: К вам можно, мальчики? Ржёте, как кони, на другом конце деревни слышно.
Сашка: Чего, скучно на танцах?
Наташа: Скучно. Девчонки сами с собой танцуют, ваши грузчики портвейн пьют в палисаднике. Ты бы, Саня, им внушение сделал какое.
Саня: Не маленькие. Работать не смогут, тогда получат… Погодите, мы сейчас Степана допытаем, чего он там ощущал, когда Наполеоном был. А, Стёпа?
Степан: Да так, видения всякие. Пушки чё-то там стреляли, солдаты бегали, карта какая-то на барабане лежала. Я плохо помню… Может, к Фролихе за самогоном сходить?
Шура: Не надо, у нас есть. Правда, Корсунский?
Таня: И когда ж вы только напьётесь, мальчики-поэты?
Корсунский (доставая бутылку из-под кровати): «Выпьем, бедная подружка доброй юности моей. Выпьем с горя, где же кружка?» Кружка где, говорю? Давай все к столу. (Наливает, выпивают.)
Наташа: Это он ещё фамилию твою, Стёпа, не знал. А так был бы ты послом в Иране и отбивался бы от злобных персов.
Сашка: Кричал бы: «Карету мне, карету!» Вот тебе твой «зилок» бы и подогнали.
Степан: Да его никто, кроме меня, и не заведет ни в жисть… А сколько у Наполеона войск в подчинении было?
Саня: Чёрт его знает. Битва при Бородино, битва при Березине, битва при Ватерлоо – много народу положил.
Степан: Так он нормальный мужик был или навроде Гитлера?
Шура: Ну, ты хватил. Гитлер – это одно, а Наполеон – совсем другое. Бонапарт вроде как поприличнее… Да и хрен с ним, давайте еще по одной. (Выпивают.)
Корсунский: Послезавтра первокурсники приезжают. Надо бы встречу организовать.
Саня: Так у нас всё готово: две большие комнаты на втором этаже, кровати уже стоят. Разместим – и вперед, на трудовой фронт. Экономика должна быть экономной!
Сашка: Мы придем к победе коммунистического труда!
Таня: Партия – наш рулевой!
Корсунский: Алексеева, ты не уподобляйся. И вообще, держись лучше приличных людей, а не этих оболтусов.
Шура: Точно, у приличных людей всегда самогон есть заначенный, а у нас он никогда не задерживается.
Идет к себе на кровать, берет гитару. Таня подсаживается к нему.
Степан: А кто такой Мюрат?
Саня: Да ладно тебе. Давай лучше допьем. (Допивают.)
Шура (поёт): «Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой…»
Сашка: Не мучай инструмент. (Отбирает гитару, играет гораздо более умело. Поют хором «Клён». )
Корсунский: Во сколько машина утром будет, Сань?
Саня: В семь. К вечеру уже первокурсников доставишь.
Корсунский: Вы тут придумайте всё-таки чего-нибудь. Завтра выходной, время есть. Могут люди из райкома приехать – они давно грозились посмотреть, как мы молодежь в свой коллектив принимаем. Сам понимаешь, чтобы не просто мешки в руки – и работать, а как-нибудь творчески. Приём, так сказать, в студенческое журналистское братство. Пусть Шура нарисует стенгазету, что ли, а Сашка стихи приличествующие напишет.
Саня: Не волнуйся, сделаем всё… Стёпа, ты пошёл? К среде воду нам не забудь привезти.
Степан: Когда я забывал?.. А чем гренадёры от уланов отличаются?
Наташа: Они все, Стёпа, были очень-очень красивые… Тань, пойдём – Степан нас до общаги проводит.
Степан: Бывайте здоровы, студенты.
Уходит с Таней и Наташей, по-наполеоновски заложив руку в телогрейку.
Корсунский: Давайте отбиваться, что ли. Вы там, чуваки, потише базлайте. И без вас грохоту будет, когда остальные после танцев заявятся.
Корсунский и Саня укладываются спать. Шура зажигает керосиновую лампу, ставит её на стол, гасит верхний свет. Подсаживается за стол к Сашке.
Шура: Ну, чего накропал за дежурство?
Сашка: Да бред какой-то. Сразу покатило: все строчки с «пере-» начинаются. Сыро всё ещё, но послушай:
Переменный ток, переменная жизнь,
Перемена школьная первая.
Переменный слог, перевёрнутый лист, —
Перевёрнутый напрочь, наверное.
Перекошенный луг, перепаханный лог,
Перепутанный мир в сознании.
Перекупленный друг, перепроданный Бог,
Перепроданный кем-то заранее.
Пережитком дождь переходит грань
Перемены меж ливнем и моросью.
Перманентный вождь предвещает брань
Пересвета с ордынскою волостью.
Перебита кость, перепит сосед,
Переезжена линия встречная.
Переспавший гость поношает вслед
Переростка с вопросами вечными.
Пероральный смог поражает мозг
Перепадами настроения…
Перезревший сок, перегретый воск,
Перебитое поколение.
Перейду на Вы. Переход – ничто,
Переход – пешеходово творчество.
Перехода, увы, не заметит никто.
Одиночество, одиночество.
Фигня, по-моему.
Шура: Зря ты, старый. Отлично, завидую. Как назвал?
Сашка: «Переход».
Шура: Вообще здорово. У меня так никогда не получится.
Сашка: Да брось ты. На гитаре же уже получается…
Шура: А «пероральный» – это что?
Сашка: Медицинский термин. Когда таблетку пьёшь, ты пьёшь её перорально. Per os – через рот. Латынь, брат.
Шура: Бр-р. У меня от латыни и сейчас мурашки по коже. «Barbara non facit philosophum». А тут еще и медицинская… Да Бог с ней. Чего там Юрка говорил про торжественную встречу первокурсников?
Сашка: Что нужно её устроить в трогательном, но строгом студенческом духе. Типа, Gaudeamus им исполнить.
Снаружи доносится гул многих голосов.
О, наши голубчики заявились. Давай укладываться, а то они до утра гужеваться будут. (Задувает лампу.)
СЦЕНА ВТОРАЯ
В университетском кабинете за преподавательским столом сидят Глеб Алексеевич и Корсунский. Напротив стоят Саня, Шура и Сашка. За дверью томятся Таня и Наташа, иногда пытаясь подслушать, о чем идет разговор.
Сашка: Да не так всё было, Глеб Алексеевич! Вы нам лишнего не шейте.
Глеб Алексеевич: Лишнего?! Вы, господа хорошие, устроили самую натуральную идеологическую диверсию, понимаете? Вы покрыли позором стены этого факультета, всего университета! Это, по-вашему, лишнее? Читай дальше, Корсунский.
Корсунский: «…Затем командир сельхозотряда провёл первокурсников в комнату, где висели якобы работы псевдодекабриста Перловича, изображающие, в частности, картину повешения руководителей восстания на Сенатской площади, нарисованных в форме параллелепипедов…»
Глеб Алексеевич: Кому вообще могла прийти в голову эта дикая идея о том, что (смотрит в бумаги) «декабрист, поэт, художник-параллелепедист Лев Давидович Перлович был сослан царским режимом в село Большие Синяки, переименованное впоследствии в Подгорное»? Кто был автором сего глумливого пасквиля?
Саня: Я.
Шура: И я.
Сашка: Это было коллективное творчество.
Глеб Алексеевич: Благородные рыцари. Мушкетёры. Один за всех и все за одного. Ну-ну. (Корсунскому.) Дальше, дальше.
Корсунский: «…После посещения мифического музея организаторы политической провокации повели студентов с зажжёнными факелами почтить несуществующую могилу Льва Перловича с заранее установленным на кладбище гранитным камнем с соответствующей надписью…»
Шура: Не на кладбище, а только к ограде. И скальный обломок этот там всегда лежал. Мы просто его ото мха отскребли и…
Глеб Алексеевич: И ты, как известный рисовальщик, начертал на нём даты рождения и смерти «декабриста Перловича». Вы хоть понимаете всю низость своего некрофильского поступка? А если бы вот так твою фамилию кто-то нарисовал на надгробном камне? Твою, вполне себе здравствующего молодого, хоть и недалёкого ума человека?
Саня: Так не было же никогда никакого Льва Давидовича Перловича, мы его выдумали. Чью память-то здесь кто оскорбил?
Глеб Алексеевич: Историческую память народа. Народ не простит вам глумления над подвигом декабристов. Тем более что к факельному шествию, очень похожему на фашистское, по дороге присоединялись и не подозревающие о гнусной провокации колхозники. Сельские труженики приняли этот идиотский фарс за чистую монету. Мало того, вы на несанкционированном митинге убеждали жителей Подгорного направить письмо в обком партии с коллективной просьбой об увековечивании памяти декабриста Перловича путем переименования села в Перловку. Это откровенный цинизм, товарищи, осквернение идеалов. Несогласные, понимаешь, нашлись. Народ, повторюсь, вам этого не простит.
Саня: Вообще-то, мы хотели как лучше. Пожелание было из райкома комсомола творчески подойти к приему первокурсников. Вот и решили – с юмором, комсомольским задором, нетрадиционно провести мероприятие.
Корсунский: Саня, ты бы хоть посоветовался. Я бы точно не одобрил.
Глеб Алексеевич: С тобой, Корсунский, отдельный разговор будет. Сам, понимаешь, лично привез инструктора на этот шабаш, на эти пляски на костях. Вот и получили сигнал из райкома, с которым сейчас приходится разбираться.
Корсунский: Так я ни сном ни духом…
Глеб Алексеевич: Ладно, нужно уже что-то решать… Нет, вы объясните: откуда взялось вот это вот «Лев Давидович»? Что это за намёки? Вы хоть знаете, что Львом Давидовичем Троцкого звали?.. В общем, исходя из совокупности, будем ставить перед комсомольской организацией факультета вопрос о вашем исключении из рядов. И из университета, соответственно.
Сашка: У нас ни одного «хвоста» нет. Стране уже не нужны грамотные журналисты?
Глеб Алексеевич: Стране в первую очередь нужны политически грамотные журналисты, а не нигилисты с дипломом. А с вами конкретно, молодой человек, вопрос практически решён. Вот докладная из оперотряда политехнического института, где сообщается о вашем задержании на вещевом рынке. За торговлю импортными джинсами и спекуляцию зарубежными пластинками.
Сашка: Знаете что, Глеб Алексеевич, пойду-ка я напишу заявление в милицию о том, что во время моих еженедельных посещений толкучки я регулярно встречал преподавателей нашего факультета, активно спекулирующих армянской обувью фирмы «Масис», а также жевательной резинкой импортного производства. Терять мне уже нечего, а доброе дело для правоохранительных органов сделаю.
Глеб Алексеевич: Ты что себе позволяешь?! Какое имеешь право?! Вон отсюда, наймиты! Вон!
Сашка, Саня и Шура выходят в коридор.
Таня (бросаясь к Шуре): Ну что, выгнали?
Шура: Похоже, да. Зато Сашка обещал всем показать кузькину мать.
Саня: Козью морду.
Шура: Зимующих раков.
Наташа: Это как?
Сашка: Я на толкучке постоянно жену нашего пламенного революционера встречаю. Фарцует, сука, как надо. Шарфом укутается – сразу и не признаешь. Выпрут – обязательно стукну.
Из кабинета выходит Корсунский.
Корсунский: Допрыгались, пораженцы? Говорил вам, дуракам, молчите, башками кивайте, канючьте на жалость. Нет, мы же гордые – развыступались, как идиоты. Вот этот особенно. (Кивает на Сашку.)
Таня: И что теперь?
Корсунский (обнимая Таню за плечи): Теперь будете всем коллективом за меня молиться. Выговор вам с занесением объявим, но в комсомоле оставим. Поручился за убогих умом. Сказал, что на носу фестиваль интернациональной дружбы, а мы без лучших художников и поэтов будем бледно выглядеть.
Сашка: Ага, это он просто забздел, что я его жену сдам. Нужен нашему дуболому твой фестиваль.
Корсунский: Фестиваль нужен, скандал – нет. Пошли, что ли, отметим ваше возрождение из пепла?
Шура: У меня трёха завалялась.
Наташа: И у меня пара рублей есть.
Сашка: Значит, есть на что кутнуть. В общагу или к нам?
Таня: Общага ближе.
Уходят.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Комната в общежитии. Таня и Наташа готовят немудрёную закуску. Шура что-то неуловимо знакомое не слишком умело играет на гитаре, неразборчиво напевая. Саня слушает радио: «…в Джелалабаде. Плотина, построенная с помощью советских специалистов, даст электричество, которое осветит глиняные дома в самых отдалённых кишлаках Народно-демократической республики, вставшей на путь построения социализма. Афганский народ, уставший от братоубийственной войны, сегодня с радостью принимает руку помощи „шурави“. Руку, дающую свет и тепло пуштунским крестьянам, руку, защищающую Афганистан от происков американской военщины. Советские инженеры вместе с воинами-интернационалистами обязательно выполнят наказ партии и правительства, и через несколько лет афганцы будут жить так же счастливо, как и жители Ташкента, Фрунзе, Душанбе».
Московское время 15 часов 30 минут. На волне «Маяка» песни в исполнении хора имени Пятницкого». (Звучит «Некому березу заломати». )
Наташа: Хорошо, что у тебя пельмени оказались, а то чем бы мы их кормили.
Таня: Это Людкины, мы с ней разберемся.
Наташа: Как у вас с Шурой?
Таня: Никак. Ты же знаешь его принцип «жить будем, жениться – никогда». Дурак малахольный, не то что твой.
Наташа: А у нас свадьба перед Новым годом.
Таня: Да ты что! Слушай, я в «Бурде» такое платье подвенечное видела, отпад! Сейчас найду.
Заходят Корсунский и Сашка.
Сашка (выставляет на стол пять бутылок вермута): К вам «Вера Михайловна» пожаловали-с. В количестве пяти штук.
Саня: Опять вермут? Другого ничего взять не могли?
Корсунский: Другого столько не взяли бы. Были б деньги, затарились бы ещё и водкой. В гражданскую войну сыграли бы: три «белых», пять «красных». И таз винегрета.
Наташа: Без винегрета сегодня. Помидоры, огурцы, лук.
Корсунский: И всё?
Таня: И пельмени.
Корсунский с Сашкой: Ура!
Наташа: Всё, давайте за стол. Шура, ты чего там загрустил?
Шура: Я думаю. Пытаюсь думать глаголами – ни фига не выходит. А давайте, кто придумает самое длинное предложение из одних глаголов?
Наташа: Давайте потом, пельмени остывают.
Начинается застолье.
Саня: За то, что всё хорошо закончилось.
Корсунский: Парни, вы меня не подведите. Я обещал, что на всех массовых мероприятиях будете в первых рядах. А то вечно норовите смыться. Вы всё-таки наши.
Сашка: Какие ещё ваши? Мы сами по себе.
Корсунский: Наши, наши – не наговаривай. Обычные советские студенты, не хиппи какие-нибудь. Нужно будет партии, чтобы вы выступили против, скажем, сионизма – и пойдёте как миленькие на митинг. Потому что наши.
Сашка: Мне твоя показуха вот уже где сидит. На хрен кому нужны все эти демонстрации, собрания, подписи за Анджелу Дэвис?
Шура: Какая Анджела Дэвис? Она была, когда мы ещё в школе учились.
Сашка: Без разницы. Не она, так ещё какая-нибудь сионистская военщина, Солженицын, Сахаров, которых нужно непременно всем миром осудить. Соберётся толпа комсомольцев, и все как один осуждают. Вы так скоро книги начнёте на площадях сжигать.
Корсунский: И начнём. Ты думаешь, нет сейчас писателей-пораженцев, шакалов, дующих в вашингтонскую дудку? Сколько угодно. Им только дай волю, они всю молодёжь опутают своими гнилыми идеями.
Саня: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Какая сейчас воля, если мы с октябрят строем ходим? Я бы завтра в Париж с Натахой, к примеру, махнул. Да кто меня пустит.
Наташа: Шурка, ты опять мякиш из хлеба выгрызаешь, а корки оставляешь? Грызун мелкотравчатый, ешь давай всё подряд.
Шура: Давайте лучше всё подряд пить.
Корсунский: Давайте. А ещё давайте не будем вести провокационных разговоров. Сейчас могут и в общагах слушать. (Докладывает в пространство.) Товарищ майор, я этих свободолюбцев лично обрабатываю. Они у меня как миленькие будут строем на наши митинги ходить и книжки неправильные сжигать.
Таня: Перебьёшься.
Саня: Решил пойти купить выпить.
Таня: Тебе мало, что ли?
Саня: Нет, просто предложение из четырёх глаголов.
Шура: Отлично, старик.
Наташа: А мне чего-то Стёпа Грибоедов вспомнился. Жалко мужика, хоть и пил больше всех вас вместе взятых.
Корсунский: Вот и допился до петли.
Наташа: Ну да. Только он, когда нас с Татьяной в деревне провожал последний раз, всё Наполеона вспоминал. Крепко ему, видно, этот гипнотизёр мозги сдвинул.
Сашка: Слушайте шедевр. Из глаголов – правда, с предлогами и союзами:
Пошёл топиться. Не сумел,
а возвращаться не хотелось.
Светало. Грезилось и пелось.
И плакал. Плакал и взрослел.
Все аплодируют, Сашка раскланивается.
Саня: Талантище ты, Сашка. И до сих пор на свободе.
Шура: Да уж, не Бродский.
Корсунский: Ваш Бродский – кретин идиотский.
Сашка: Ты сам кретин.
Корсунский: Мы, конечно, не поэты и даже не тунеядцы, но вас сегодня отмазали от отчисления.
Шура: Да и хрен бы с ним.
Корсунский: Ну и отправились бы прямой дорогой в армию: в Афган вон или в Польшу порядок наводить.
Саня: В Польше немцы порядок наводят. У Сашки от армии отмазка по зрению, а я бы и послужил. Хоть и в Афгане. Кому-то и там служить надо.
Наташа: Я тебе послужу! (Корсунскому.) Спасибо, Юра. Не слушай этих балбесов.
Корсунский: И не слушаю. Можно подумать, мне больше всех надо. Сам наверняка выговор схлопочу за вашу выходку идиотскую. У инструктора в деревне как сразу челюсть отпала, так и не закрывалась до конца, пока Саня не подвёл черту: «Вот так, дорогие товарищи, живём мы и не знаем, какие замечательные люди нашли упокоение в нашей суровой земле, политой потом и кровью декабристов».
Все хохочут.
Сашка (перебрав несколько катушек, ставит кассету на магнитофон): О, нашёл. (Врубает песню «Darling» группы «The Stories». )
Начинаются танцы.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ
На сцене две комнаты, между ними коридор. В левой комнате на кровати под одеялом лежит Таня. Шура в трусах стоит на табурете и пытается прикрутить к стене табличку с указанием адреса «Улица Сакко и Ванцетти, 22».
Комната напротив, собственно, не комната, а маленькая кухня, из которой одна дверь ведёт в коридор, а другая – в спальню. Здесь на электроплите стоит кастрюля, из которой идет пар.
Таня: Шура, ты её зачем с дома свинтил?
Шура: Там она висела без смысла, а у нас с Сашкой будет деталью интерьера. То-то удивится.
Таня: Вот пусть Сашка и прикручивает. Ты один чёрт сейчас или с табуретки свалишься, или руку поранишь. Как обычно.
Шура (засовывая палец в рот и спрыгивая с табуретки): Вот же ты дура! Обязательно под руку каркать нужно?
Таня: Я бы за такого безрукого никогда бы замуж не вышла.
Шура: И не выйдешь. Выйдешь за умного, красивого и серьёзного Корсунского. Нарожаете комсомоляток и купите югославскую стенку по райкомовскому лимиту. Жить будете долго и счастливо. Умрёте в один день, как только построите коммунизм.
Таня: Кстати, приличная перспектива. Я тебя, к примеру, даже учителем не представляю. Ну вот что ты будешь детям рассказывать о лишнем человеке Евгении Онегине?
Шура: Правду. Так и так, жил себе Женька, ни гвоздя забить не мог, ни рубашку погладить. Никто его не понимал, одна Танька Ларина любила. А он, понимаешь, любил думать. И случайно грохнул приятеля – хорошего, в общем, чувака. Потом маялся. А Танька плюнула на него и вышла замуж за генерала… В общем, дети, берите пример не с таких придурков, а с приличных бар (или как их там – баринов, бояр?). Или с комсомольских активистов. Лишние люди всегда всем мешают.
Таня: Иди ко мне, лишний человек.
Шура: Сейчас. (Выключает свет, забирается под одеяло, выбрасывает наружу снятые трусы.)
В соседнюю кухню из комнаты выходит Галина Петровна, открывает крышку кастрюли.
Галина Петровна: Наташа, хлеб нарежь, сварились. Саня, ты куда столько пельменей-то бухнул? Не съедим же.
Наташа (из комнаты): Мама, накладывай, а лишние Саня соседям отдаст.
Галина Петровна: И правильно. Пусть Сашка с Шуркой порадуются домашним-то.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!