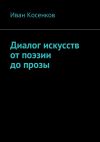Текст книги "Ненормат"

Автор книги: Кат Катов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
ВАЛЕНТИНА (пожимает плечами). А как ещё? Это правда, Валера.
БЕЛОВ. Не верю. Я тебе не верю… У нас всё было. Было счастье – на кончиках пальцев, на каждом вдохе рядом. Я тобой дышал, мне без тебя кислорода не хватало… Помнишь, на лыжах катались в Подлесном? Рябину мороженую ели, на снегирей любовались. Шкуру медвежью у камина горячую помнишь? Ты её ещё тогда шампанским залила. У нас столько с тобой замечательного было. Помнишь, мы…
ВАЛЕНТИНА. У тебя.
БЕЛОВ. Что?
ВАЛЕНТИНА. У тебя много замечательного было, у тебя. Не у нас.
БЕЛОВ. Почему, Валя? Здесь же ничего не придумаешь: словами можно врать, глазами, но не телом. Тебе было хорошо. Ты тоже была счастлива.
ВАЛЕНТИНА (зло смахивая слезы). Да? Что же ты меня тогда замуж не позвал ни разу? Ах да, у тебя же семья, у тебя твоя чудная Евгения Степановна… Как это два года назад красиво звучало: «Всё, Валентина, так больше продолжаться не может. Я устал, я не уйду из семьи. Отпускаю тебя, прощай». Ты не меня на свободу отпускал, ты себя от меня освобождал. Совесть свою нянчил. А я всегда была свободна.
БЕЛОВ. Перестань. Какая свобода, если я гирей висел на твоих ногах? Меня нужно было отрезать, чтобы начать новую жизнь: не мне – тебе. Вокруг крутилось столько мужиков – весёлых, красивых, свободных, – на которых ты даже не смотрела. Я должен был тебя отпустить.
ВАЛЕНТИНА. Белов, ты всерьёз думаешь, что все эти восемь лет был у меня единственным светом в окошке?.. Из этого долбаного Подлесного тогда ты уехал на два дня раньше…
БЕЛОВ. Лёшка заболел.
ВАЛЕНТИНА. А в соседнем домике отдыхал другой Лёшка – Первухин. Он же тогда нас и затащил на эту базу.
БЕЛОВ. И что?
ВАЛЕНТИНА. И всё. И всё продолжалось на той самой медвежьей шкуре оставшиеся два дня. А потом ещё год в городе.
БЕЛОВ (сипло). Нет. Мы же потом не раз встречались вместе – выпивали, шутили, ты песни пела. Я бы увидел.
ВАЛЕНТИНА. Ты ничего не видел – ни Юрку не видел, ни Величко, ни Дерябина. А они были.
БЕЛОВ (наливает в стакан воду, пьёт, ставит обратно на стол рядом с пустым флаконом). Видимо, для этого ты и приехала.
ВАЛЕНТИНА. Да, для этого. Я знала, что ты мне когда-нибудь обязательно позвонишь. Зато теперь я уверена, что это был твой последний звонок. По-след-ний… А ты надеялся, что мы трахнемся в память о лучших днях?
БЕЛОВ. Нет, я должен был сказать… (Сбивается, смотрит на пустой флакон.)
ВАЛЕНТИНА. И что же?
БЕЛОВ (после паузы). Что я никого так не любил, как тебя. Никого. И теперь уже не полюблю.
ВАЛЕНТИНА. Да, Валера, ты меня любил, а я оказалась дрянью. Прости… Пора, домой приеду уже поздно. Ты же знаешь, я теперь мужняя жена, и мне совсем ни к чему лишние подозрения. Тем более в нашем с тобой случае абсолютно беспочвенные.
БЕЛОВ. А не в нашем?
ВАЛЕНТИНА (подкрашивая губы перед зеркалом). А не в нашем… Какая тебе разница?
БЕЛОВ. Действительно, никакой.
ВАЛЕНТИНА. Вот и славно. Проводи меня. Пока. (Чмокает Белова в щёку, он пропускает её на крыльцо, смотрит вслед, придерживая открытую дверь.) Как машина?
БЕЛОВ. Шикарная, очень тебе идёт.
Белов выходит за Валентиной, дверь захлопывается. Шум отъезжающего автомобиля. Гаснет свет, и лишь на пустом флаконе играет пробивающийся сквозь шторы яркий луч заката.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Чуть хриплый голос Валентины под гитару:
Снег уходит по пустому двору
за тобою к полутёмному зданию.
Даже проще, чем прощай говорю —
до свиданья, говорю, до свидания.
Мы бродили, всё равно как вино
Бродит, выхода ища и пристанища.
Нам скитаться до конца суждено —
До скитанья, говорю, до скитания.
Входим в день, как будто в скит, а не в дом.
Мы бездомны и больны и так далее.
А страдание даётся с трудом —
до страданья, говорю, до страдания.
Много дней пройдёт от этого дня,
и преданиями станут свидания.
И в толпе ты не узнаешь меня —
до преданья, говорю, до предания. (*)
Постепенно освещается спальня в квартире Беловых. На открытой дверце платяного шкафа беспорядочно наброшена женская одежда. Спиной к залу смотрит в окно Елена. На ней одна мужская рубашка. Белов, голый по пояс, лежит на двуспальном диване под одеялом. Протягивает руку, выключает магнитофон.
ЕЛЕНА. А она талантливая была.
БЕЛОВ. Почему «была»? Насколько мне известно, Валя и сейчас жива-здорова.
ЕЛЕНА. Она давно не пишет песен. И не поёт.
БЕЛОВ. Откуда ты знаешь?
ЕЛЕНА. Знаю. (Садится к Белову, гладит его волосы.) Я всё про вас всегда знала.
БЕЛОВ. И что?
ЕЛЕНА. Ничего. (Молчит.) И не было бы ничего, если бы не Гольфштейн.
БЕЛОВ. Когда он тебе сказал?
ЕЛЕНА. Вчера. И Женя вчера позвонила, сказала, что они с Лёшкой сегодня на даче будут допоздна. И у меня не осталось выбора.
БЕЛОВ. Решила отдать последний долг?
ЕЛЕНА. Нет, это ты мне был должен.
БЕЛОВ. И когда я успел задолжать?
ЕЛЕНА. Давно. Ты мне должен был Женей уже тогда, когда она нас с тобой познакомила: «Это Валера, мой муж». И ты мне сразу стал должен ею. Потом ты должен был мне Валентиной. Наверное, были и другие бабы, но я про них не знаю – ими ты мне не задолжал. Хотя и ими тоже.
БЕЛОВ. Я не знал.
ЕЛЕНА. И не узнал бы.
БЕЛОВ. Слушай, а как же Юрка? Сколько вы с ним, три года прожили?
ЕЛЕНА. Он был жалким подобием тебя. Но хоть каким-то подобием.
БЕЛОВ. Я не знал.
ЕЛЕНА. Никто не знал. Женя – моя подруга, единственная. Я бы никогда не смогла, если бы… (Отворачивается. Глухим неестественным голосом.) Не умирай, Белов. Зачем ты так со мной?
БЕЛОВ. Я не специально. Прости меня, Леночка. Просто так и бывает: мы любим совсем не тех, нас любят совсем не те. А когда всё становится на свои места, когда становится очень ясной картина твоей жизни, когда срочно нужно что-то исправить, что-то поменять – ничего уже изменить невозможно… Ну почему он так всё запутал?
ЕЛЕНА. Кто?
БЕЛОВ. Не знаю – тот, кто всё это придумал: Творец, Создатель – не знаю. Почему он даёт рецепт жизни лишь после того, как выписал рецепт смерти? Неужели так трудно сразу получить верный шанс на счастье? Чтобы в последний момент ни о чем не жалеть, чтобы точно знать, что за спиной осталась правильная жизнь, что ты никому не принёс горя, что тебе не стыдно… А мне стыдно. Лена, мне так стыдно за свою жизнь…
ЕЛЕНА (обнимает Белова). Не надо, хороший мой, не надо. Ты самый лучший, ты единственный, ты… (Щёлкает замок входной двери.)
БЕЛОВ. Приехали.
ЕЛЕНА (мёртвым голосом). Женя. (Бросается за своей одеждой, срывает её с дверцы, прижимает к груди, обречённо садится на диван в ноги к Белову.)
ЕВГЕНИЯ (из-за двери). Валера, мы вернулись. На выезде такие пробки, что…
Входит Евгения.
…на трассу не выбраться… (Замечает Елену, обессиленно прислоняется к косяку.) Здравствуй.
ЕЛЕНА. Здравствуй, Женя.
ЕВГЕНИЯ. Значит, и ты тоже.
ЕЛЕНА. И я.
БЕЛОВ. Не придумывай, Женя, – ничего у нас никогда с Леной не было. А сегодня она заглянула в гости…
ЕВГЕНИЯ. И ты, по своему обыкновению, затащил её в постель… (Елена встаёт, скрывается за дверцей шкафа, переодевается.) Ты знаешь, подружка, что они с Валентиной чуть ли не десять лет обживали нашу дачу? Я даже старалась там появляться только с ним, чтобы ненароком не угодить в нелепую ситуацию. Боялась, правда, что Лёшка когда-нибудь случайно туда с друзьями нагрянет и застукает отца с тётей Валей… А нелепая ситуация случилась вовсе не на даче, а здесь, на супружеском ложе. И надо же, именно с тобой. И именно тогда, когда… (Смолкает.)
БЕЛОВ. Когда я умираю. Она знает.
ЕВГЕНИЯ. О, тут, оказывается, нешуточные страсти. Неземная любовь. Финальный акт трагедии Шекспира. (Появляется одетая Елена – уже не растерянно-испуганная, а сосредоточенная. Подходит к Евгении.)
ЕЛЕНА. Ты ничего бы не узнала. Жаль, что так получилось. (Пытается дотронуться до плеча Евгении, та, поёжившись, отстраняется. Вновь хлопает входная дверь.)
АЛЕКСЕЙ (из коридора). Мам, куда покупки отнести?
ЕВГЕНИЯ. Оставь в прихожей, я сама. (Елена наклоняется к Белову и прощально целует его в губы. Евгения автоматически закрывает собой дверь спальни и придерживает её за ручку.)
Елена выходит мимо посторонившейся Евгении.
ЕЛЕНА (за дверью). Здравствуй, Лёша.
АЛЕКСЕЙ (там же). Здрасьте. Уже уходите?
ЕЛЕНА (у входной двери). Как видишь. Закрой за мной.
В спальню заходит Алексей.
АЛЕКСЕЙ. Привет, пап. Как настроение? Слушай, я сейчас на стоянку машину отгонял, так меня один баран подрезал…
ЕВГЕНИЯ. Лёша, мы сейчас с отцом досекретничаем, а потом ты всё расскажешь.
АЛЕКСЕЙ (сконфузившись). Да, конечно. Я у себя. (Отцу.) А потом у меня тоже к тебе будет дело.
БЕЛОВ. Мама тебя позовёт, мы уже скоро.
Алексей выходит.
(После паузы.) А он молодец, хорошо держится.
ЕВГЕНИЯ. Да, он молодец. И ты молодец: решил напоследок взять от жизни всё?
БЕЛОВ. Я не хотел, прости. Я правда никак этого не ожидал. Как-то нелепо получилось, несуразно. Глупо очень. Прости.
ЕВГЕНИЯ. Скажи ещё: «Я больше не буду». (Подсаживается к Белову, внимательно смотрит на него.) Получается, что не будешь. Не будет больше у тебя никого. Тебя у меня тоже не будет. И как дальше жить?
БЕЛОВ. Нормально жить. Замуж выходи.
ЕВГЕНИЯ (медленно). Замуж. Замуж. Замуж… Я замужем двадцать три года уже, если помнишь. Я очень верная жена, Валера. И буду верной вдовой. Тебе это трудно понять, но я была бы такой же верной женой Гольфштейна, если бы тогда вышла замуж за него, а не за тебя… Он смешной был: на втором свидании, выйдя из кино, пригласил знакомиться с родителями. Спрашиваю: «Зачем?», а Серёжка: «Должны же они до свадьбы увидеть мою невесту». Невесту… А у меня только ты в голове. Ложусь спать – и мечтаю о твоём голосе, твоих руках, твоих губах… Какое же это было счастье – возвращаться вместе из института, возвращаться к нам с тобой домой. Счастье – видеть, как с каждым годом Лёшка всё больше становится похожим на тебя. Счастье – ждать тебя, грязного и прокопчённого, с рыбалки. И даже если это была не рыбалка – всё равно счастье…
Я не знаю, когда ты меня разлюбил: до Валентины или когда она у тебя появилась. Не понимала – почему? Просто ждала, когда ты вернёшься. Два года назад почувствовала сразу – вернулся. Это уже был совсем не ты, но и ты тоже – из того нашего далёкого безмятежного счастья. И этого кусочка давнего тебя мне бы хватило до самого конца. В общем, и хватило… Замуж, говоришь? Ты знаешь, Валера, если ты бы готовился жить без меня, а я лежала бы на твоём месте, то никогда – понимаешь, никогда! – не пожелала бы тебе счастья с другой. Если любишь, то язык не повернётся – онемеет…
Ничего не отвечай – ещё успеешь. У Лёшки действительно к тебе серьёзный разговор.
БЕЛОВ. Ещё один серьёзный разговор.
ЕВГЕНИЯ. Ну, ты уж потерпи. Таблетки, кстати, пил сегодня?
Уходит. Белов сидит на постели, слегка раскачиваясь и сцепив руки на затылке. Входит Алексей.
АЛЕКСЕЙ (с чуть фальшивой бодростью). При обсуждении завещания, надеюсь, никто не забыл о наследнике?
БЕЛОВ. Экий ты балбес, весь в отца.
АЛЕКСЕЙ. Не сердись, я просто никак не могу поверить, понять не могу…
БЕЛОВ. Ладно, перестань. Просто имей в виду: мы все умрём… О чём хотел поведать предку, пока он в трезвом уме и здравой памяти?
АЛЕКСЕЙ. Ты помнишь, вы пару месяцев назад с дачи приехали, а мы здесь с девушкой сидели?
БЕЛОВ. Помню. Потом чай все вместе пили. Ольга, кажется?
АЛЕКСЕЙ. Ольга. Мы решили пожениться.
БЕЛОВ. Когда?
АЛЕКСЕЙ. Две недели назад отнесли документы в ЗАГС.
БЕЛОВ. Мама знает?
АЛЕКСЕЙ. Она против.
БЕЛОВ. Мамы всегда против.
АЛЕКСЕЙ. А ты?
БЕЛОВ. А я за.
АЛЕКСЕЙ. Я так и знал. Спасибо, пап. Ты у меня молодецкий молодец.
БЕЛОВ. Вы бы в любом случае поступили по-своему, но то, что соблюдаешь ритуал, – уже обнадеживает… Извини, я всё-таки спрошу: ты её любишь?
АЛЕКСЕЙ. Люблю.
БЕЛОВ. А она тебя?
АЛЕКСЕЙ (задумывается). Кажется, тоже. Но мы же никогда не знаем точно, правда?
БЕЛОВ. Мы вообще часто ничего не знаем.
АЛЕКСЕЙ. Ты, кстати, еще не знаешь, что скоро станешь дедом.
БЕЛОВ. Лёшка… Черт, как это всё… Я рад, правда рад – и за тебя, и за Ольгу, и за будущего внука. Или внучку?
АЛЕКСЕЙ. Пока не знаем. Мы сейчас поедем в экспедицию, через месяц вернемся – и сразу свадьба… Ты обязательно там будешь, ты ещё очень хорошо себя чувствуешь. А если плохо – мы на руках тебя с друзьями принесём. Посадим во главу стола: будешь смешные тосты говорить, байки всякие свои рассказывать. Ты же у меня такой… Я очень хочу, чтобы Оля тебя полюбила – успела полюбить. И обязательно – слышишь, обязательно! – дождёшься внука. Мне кажется, что будет сын. Ты должен будешь увидеть своего потомка. Ведь всего-то нужно семь с небольшим месяцев продержаться. Ты продержишься, обещаешь? Всего семь месяцев.
БЕЛОВ. Обещаю. Послушай, сынок… Ты знаешь, ты их люби очень. А пока держись, маме помогай – ей сейчас трудно будет… Мужественным будь, честным… Как-то неожиданно всё… Я очень многое должен тебе сказать. Я подумаю хорошенько… Завтра, давай завтра с тобой ещё поговорим?
АЛЕКСЕЙ. Конечно, поговорим. Успеем – неделя до практики и больше месяца до свадьбы. Еще наговоримся… Так я скажу маме, что получил батюшкино благословение?
БЕЛОВ. Да. Поздравляю тебя, ступай.
Алексей выходит. Белов накрывается с головой одеялом. Кажется, рыдает.
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ
Две трети сцены занимает уже известный интерьер ординаторской, оставшаяся треть – часть спальни Беловых. В ординаторской – нормальная вечерняя жизнь: греется электрочайник, Никулин режет на столе хлеб, колбасу и сало.
В спальне – на знакомом зрителю, но на сей раз не раздвинутом диване – лежит укрытый пледом Белов, читает книгу. Персонажи, находящиеся в двух этих помещениях, существуют параллельно и отдельно, никак не пересекаясь во времени и пространстве.
В ординаторскую входит Гольфштейн. У него в руках шахматы и шахматные часы.
ГОЛЬФШТЕЙН. Корниевский наконец часы отремонтировал. Возвращаемся к блицу.
НИКУЛИН. Я уже и крест на них поставил. А у меня, Серёжа, практически всё готово. Сейчас спиртик разведём, чойсы заварим – и будем ужинать. Замок на всякий случай защёлкни. (Гольфштейн выполняет просьбу. Возвращается к столу, где Никулин заливает кипятком быстрорастворимую китайскую лапшу. Разводит спирт в мензурке.)
ГОЛЬФШТЕЙН. Ты знаешь, Петр Саныч, я вот думаю. Шашлычные есть? Есть. Пирожковые там всякие, блинные, пельменные, хинкальные. А может, тебе чойсную открыть на пенсии? Представляешь, заходит посетитель, садится за стол, к нему подходит официант с меню. На вопрос: «Что порекомендуете?» солидно отвечает: «У нас сегодня удивительно богатый выбор. Попробуйте „Доширак“ – только вчера вечером привезли, прямо из Сычуани. „Кукса“ опять же удивительно свежая». И на ухо, доверительно: «Только для вас, фирменное блюдо – лапша „Биг-бон“. Попрошу, чтобы лично шеф-повар расстарался».
НИКУЛИН. Именно. И чтобы в качестве соусов и специй на столах стояли тарелки с грандиозным выбором разнообразных маленьких целлофановых пакетиков. (Показывает Гольфштейну два таких пакета из упаковки с лапшой, торжественно высыпает их содержимое в миску.) Исключительно для тонких ценителей.
В спальню к Белову заходит Алексей, садится к отцу на диван, берёт его за руку.
ГОЛЬФШТЕЙН (закрывает ладонью горлышко мензурки). Предлагаю начать под холодные закуски, пока готовится основное блюдо.
НИКУЛИН. Может, охладим?
ГОЛЬФШТЕЙН. А когда нас это останавливало? (Разливает спирт по рюмкам, мензурку убирает в морозильную камеру холодильника.) Ну что, Пётр Саныч, за здоровье всех больных! (Чокаются, выпивают.)
К Белову и Алексею присоединяется Евгения. Она стоит, прислонившись к стене, и смотрит на отца с сыном.
НИКУЛИН. Закусывай, Серёжа.
ГОЛЬФШТЕЙН. Обожаю сало твоего производства.
НИКУЛИН (поедая бутерброд с колбасой). А я на него смотреть уже не могу.
ГОЛЬФШТЕЙН. Не примазывайся к нам. Сало он не ест… Этого недостаточно – как минимум нужно иметь подходящую внешность и не менее подходящую фамилию. Я уж не говорю про ум… А ты сало солишь, спирт некошерный пьешь, к арабам индифферентен. Ну какой из тебя, Пётр Саныч, еврей?
НИКУЛИН. Начинающий. (Открывают миски с лапшой, достают из морозилки спирт, разливают по второй.) Доктор сыт – и больному легче. Будь здоров. (Выпивают.)
ГОЛЬФШТЕЙН (расставляя шахматы). Я Корниевскому сегодня три партии проиграл – пятиминутки. Отвык. Давай по десять?
НИКУЛИН (выставляя шахматные часы). По семь. И ни минутой больше.
Белов ласково взлохмачивает волосы Алексея, тот его обнимает, уходит. Евгения садится на диван. Молча смотрят друга на друга.
ГОЛЬФШТЕЙН. Как скажешь. Ещё по одной перед началом?
НИКУЛИН. Обязательно. (Выпивают, закусывают, садятся за шахматы, разыгрывают цвет фигур, переворачивают доску.) Тебе опять чёрными.
ГОЛЬФШТЕЙН. Не страшно, потом – тебе. У нас вся жизнь такая – из чёрно-белых клеток. Делаешь ход – и попадаешь из чёрной клетки на белую. Только жизнь наладилась – опять ходить. И совсем не обязательно, что позиция не ухудшится. Так и играем – до полного и окончательного эндшпиля.
НИКУЛИН. Философ-венеролог, бывает… Кстати, помнишь, к тебе приятель заглядывал, с онкологией? Вот кому не позавидуешь – исключительно чёрный цвет.
Евгения целует Белова в лоб, выходит. Он снова берёт книгу.
ГОЛЬФШТЕЙН. Да, очень неприятная история была. Я к тому же всю его семью когда-то хорошо знал. Чертовски расстроился тогда. Валерка совершенно потерянный был, просил помочь… Ладно, расскажу, но ты, прошу, никому… Наливай, Пётр Саныч. (Никулин разливает спирт, Гольфштейн задумчиво крутит рюмку в руках.)
У Белова книга падает на грудь, голова мёртво сваливается набок.
(Выпивают, закусывают.) Вот, послушай. У тебя был школьный друг, когда-то он тебя спас из аховой ситуации, а потом увёл любимую девушку. И вот он к тебе возвращается из небытия с неоперабельным канцером и просит яду. Ты бы дал?
НИКУЛИН. Нет. Откуда у меня яд?
ГОЛЬФШТЕЙН. Неважно. Допустим, ты можешь выписать ему рецепт на необходимый препарат. Рецепт на смерть – легкую и безболезненную. Без мучений.
НИКУЛИН. Подсудное дело. И самоубийство – смертный грех. Не выписал бы.
ГОЛЬФШТЕЙН. Ну, хорошо, не рецепт. Просто у тебя есть эти таблетки. И он у тебя просит смерти – как милости. Нужно только руку в карман засунуть и выдать ему пропуск в лучший мир.
НИКУЛИН (осторожно). И ты дал?
ГОЛЬФШТЕЙН. Что я, по-твоему, ему дам – серую ртутную мазь? Или у нас тут склад отравляющих веществ?
НИКУЛИН. Ну, склад не склад, а популярная больница. Где, в принципе, что угодно можно найти. Если нужно. (Наполняет рюмки, кивает Гольфштейну, чокаются, выпивают.)
ГОЛЬФШТЕЙН. Я травить пациентов еще не выучился. Дал ему какие-то безвредные пилюли с биодобавками, сказал, что умрёт через несколько дней. Валерка ушел спокойный и довольный.
Белов просыпается, выключает ночник. Встаёт, подходит в трусах и футболке к настенному зеркалу, включает лампу рядом с ним. Смотрит.
НИКУЛИН. Он их выпил?
ГОЛЬФШТЕЙН. А мне почём знать? Я с ним с тех пор не разговаривал… И самое главное: позвонил через неделю Коршунову в клинику, попросил рассказать о состоянии больного Белова. Знаешь, что он мне ответил?.. Он страшно извинялся. Эти грёбаные онкологи Валерке диагноз неверный поставили, представляешь? Рак у вас, говорят. Жить вам, говорят, три месяца осталось… Анализы перепутали. А когда уточнили, – ничего подобного: желчнокаменная болезнь, с которой я уже лет десять себе процветаю.
Белов упирается лбом в зеркало.
НИКУЛИН. А я всегда говорил, что у Коршунова там бардак. Чем дело-то кончилось?
ГОЛЬФШТЕЙН. Ничем. Завлабу объявили выговор, больному принесли искренние соболезнования… (Смотрит на наручные часы.) Что-то мы заболтались. (Нажимает кнопку на шахматных часах.)
Твой ход, Пётр Саныч, твой ход.
Неравномерно и громко щёлкают шахматные часы. Медленно гаснет свет.
КОНЕЦ
ПРИМЕЧАНИЕ
(*) – Стихи Евгения Клюева, музыка Ирины Петровой.
Плохие пьески
Фёдор и Юлия Львовна
Фёдор: Здравствуйте.
Юлия Львовна: А вы кто?
Фёдор: Здравствуйте, говорю.
Юлия Львовна: Здравствуйте. Мне не нужен шампунь.
Фёдор: И мне не нужен. Куда его теперь девать?
Юлия Львовна: А вы к соседке позвоните, Евгении Степановне. Она может купить. У неё экзема и три кошки.
Фёдор: Я кошек не люблю. Купите вы.
Юлия Львовна: Давайте я лучше тельняшку куплю. Она у вас такая импозантная, в полоску.
Фёдор: А давайте (снимает тельняшку). Нате. Сто рублей.
Юлия Львовна: Вот, возьмите. Как пахнет, как пахнет!
Фёдор: Я пойду?
Юлия Львовна: Ступайте, морячок, ступайте. Как пахнет морем, боже мой!
Фёдор и конь
Фёдор: Здравствуйте. Живые есть?
Конь: (молчит)
Фёдор: Чё молчим? Где пальто?
Конь: Иго. Го
Фёдор: Ну проебал и проебал. Я вон квартиру в Медведково проебал и не гундосю. Жрать хочешь?
Конь: (облизывается)
Фёдор: На тебе чернашки. Погодь, солью сыпану.
Конь: (жрёт)
Фёдор: Хозяева-то где, скотина?
Конь: (жрёт, пожимает плечами)
Фёдор: А у меня бабка цыганка была, ты в курсе?
Конь: (косит лиловым глазом)
Фёдор: Ладно, пойдём, красавчик. Нечего тебе тут.
Конь: И. Гого.
Фёдор: Ай, дану-дану-данай, раздану-данай.
(Уходят.)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.