Текст книги "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре"
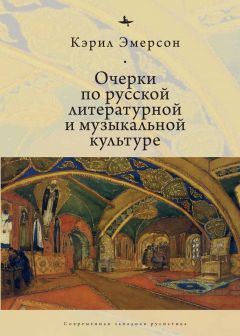
Автор книги: Кэрил Эмерсон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В отличие от большинства прочтений этой заключительной главы, я предполагаю, что в этой точке романа всякое реальное взаимодействие между героем и героиней прекращается. В самом деле, Евгений «не сделался поэтом, / Не умер, не сошел с ума» (8, XXXIX). Однако зима выдалась непростой. Неспособный свести счеты с прошлым или планировать будущее из-за острых потребностей своего настоящего, доведенный до отчаяния отсутствием реакции со стороны Татьяны и вдохновленный месяцами неразборчивого чтения, Онегин совершает единственный поступок, который может направить другим курсом непрерывное настоящее время в его жизни: он воображает себе свой последний визит. Странность этого внезапного визита уже давно была подмечена критиками[93]93
См., например: «Поездка Онегина по Петербургу напоминает сон… [Его] вход в дом Татьяны напоминает вход сказочного принца в заколдованный замок. Он не встречает никого из слуг; дом пуст» [Little 1975: 21].
[Закрыть]. Скорость, с которой Евгений мчится по городу к возлюбленной; не поддающееся объяснению отсутствие кого-либо из челяди у дверей и в комнатах княжеского дома; поразительная легкость, с которой Онегин попадает в будуар Татьяны, – все это интерпретировалось разными авторами как поведение, похожее на сон, подчиняющееся сказочной логике или описываемое повествователем с мягкой иронией. В самом деле, намеки на пространство сна предваряют страстную влюбленность Евгения. В восьмой главе, сразу после того, как он увидел княгиню Татьяну, он думает: «Та девочка… иль это сон?..» (XX; многоточие в оригинале); и далее мы читаем: «Мечтой то грустной, но прелестной / Его встревожен поздний сон» (XXI)[94]94
В своем анализе снов у Пушкина Майкл Кац отмечает «распространенность снов и сновидцев в “Евгении Онегине”», заключая, что Татьяна примиряется с результатом своего выбора и положением, в то время как «Онегин остается рабом своих сновидений [мечты] и совершенно не способен принять реальное положение вещей. Поэтому она должна отвергнуть его» [Katz 1980: 92, 99]. В моем прочтении Татьяна действительно примиряется со своей судьбой или, возможно, даже принимает ее, – но именно осознание Онегиным этого необратимого обстоятельства рождает в нем его финальную мечту или сон-фантазию об их заключительной сцене наедине.
[Закрыть]. Однако как только мы приближаемся к решающему tete-a-tete, мы сталкиваемся с множеством новых фантастических и невероятных деталей, которые указывают на более существенный фазовый переход, причем не только героя, но и повествования в целом.
Первые 35 строф восьмой главы, и в особенности элегическое, квазибиографическое отступление о Музе, которым открывается глава, почти полностью свободны от иронической, уничижительной насмешки повествователя. Затем этот тон возвращается, чтобы подкусить Онегина («мой неисправленный чудак») и за его счет сделать комплимент зрителям: «Куда <…> / стремит Онегин? Вы заране / Уж угадали; точно так» (8, XXXIX–XL). Стремительным темпом, предвещающим недоброе, повествование начинает напоминать erlebte Rede[95]95
Несобственно-прямую речь (нем.). – Примеч. пер.
[Закрыть] или внутренний монолог: «Примчался к ней, к своей Татьяне» – с каких это пор – «своей»? Она была «его» только в реальности его собственной тоски. Никем не замеченный, он проскальзывает в ее личные покои; в конце концов, это мысленное путешествие, которое он репетировал месяцами. Но прежде чем творческая внутренняя фантазия получит возможность развернуться в полной мере, потребуется наличие двух условий. Во-первых, Онегин должен убедиться в том, что он небезразличен Татьяне, что она поглощена мыслями о нем точно так же, как он – мыслями о ней, что она плачет (пусть даже наедине с собой) и что на ее лице есть следы «смятенья, состраданья» и «пятна слез». Во-вторых, он должен убедиться в том, что время обратимо.
Второе условие остается в подвешенном состоянии: действительно ли княгиня Татьяна осталась «прежней Таней» былых лет и можно ли возродить этот образ? До самого конца сцены читателю об этом не сообщается. Зато первое условие вообразить легко, и оно немедленно исполняется. «Неубранная», «бледная», проливающая слезы над страстным письмом раскаявшегося возлюбленного, – обычный прием для описания любимой женщины, которую застали внезапно, нарушив ее одиночество. (Пушкин воспользуется этим приемом для создания очаровательного комического эффекта в «Барышне-крестьянке», последней и самой веселой из его «Повестей Белкина».) Татьяна не отвергает Евгения, но и не поощряет его; она бесстрастна, как тень. Чего добивается Евгений в этой напряженной и статичной сцене? Он по-прежнему не поэт; поэтическая Муза не снизойдет к нему. Но, мне кажется, Татьяна всегда рядом с ним как внутренняя совесть, и это ее голос звучит внутри него и крепнет в ее присутствии.
Интерпретации Татьяны как «фатума» Онегина, «осязаемого выражения груза его совести» в литературе, посвященной этой заключительной сцене, не новы[96]96
См., например, [Clayton 1985: 112].
[Закрыть]. Однако такие трактовки предполагают, что Татьяна в этой сцене – реальная; фальшивыми могут быть только совесть Евгения и характер его любви. Здесь я придерживаюсь противоположного мнения: именно потому, что любовь и страдания Евгения подлинны, потому что в нем произошли настоящие, необъяснимые перемены, вызванные – кто знает? – течением времени или зарождением настоящей любви, физическое присутствие Татьяны становится необязательным. Она может быть вызвана в воображении, что, в конце концов, является подобающим онтологическим состоянием для этической Музы. Нигде в своих черновиках или вариантах восьмой главы Пушкин не указывает, что таковым было его намерение. Но нам известно, что Пушкин беспокоился по поводу окончания романа и экспериментировал с различными способами углубить представление читателей о его герое, в том числе с путевым дневником и салонным альбомом, хотя в конце концов отказался от этих идей. Как замечает по поводу композиции романа Лесли О’Белл: «Развязка давалась туго… Путешествие и Альбом, как и сцена в библиотеке Онегина, были средствами для познания героем самого себя» [O’Bell 1993: 164–165]. Здесь я предлагаю именно такое понимание венчающей роман отповеди Татьяны Онегину – как «познания героем самого себя».
Проницательные читатели давно выражают неудовольствие по поводу этого последнего свидания. Владимир Набоков, выступая против массы «страстных патриотических дифирамбов, превозносящих добродетели Татьяны», настаивает на том, что ее самоотверженный отказ Онегину – это попросту клише из французских, английских и немецких романтических романов; более того, «ее ответ Онегину вовсе не звучит с той величавой бесповоротностью, которую слышат в нем комментаторы» [Набоков 1998: 593]. Т. Э. Литтл высказывается более радикально, настаивая на том, что мы изначально должны воспринимать все любовные отношения между Татьяной и Онегиным в ироническом ключе: молчание Татьяны вполне могло бы быть объяснено не ее нравственной силой или тайными страданиями, но попросту безразличием или негодованием. Сценарий концовки, в которой «сентиментальная героиня встречается с перевоспитавшимся байроническим героем», попросту является «типично пушкинской насмешкой», Татьяна безжалостно глумится над своей жертвой [Little 1975: 19–28]. Р. Грегг, перенося акцент с формы на содержание заключительного монолога Татьяны, находит в нем дюжину неточностей или, если выразиться помягче, субъективных эмоциональных высказываний Татьяны, в которых она возводит напраслину на Евгения [Gregg 1981: 1, б][97]97
Хотя Грегг и проявляет повышенный интерес к этой речи, его не привлекают мои радикальные умозаключения. Он ограничивается тем, что приписывает допущенные Татьяной неточности риторическим приемам и потере контроля над чувствами, задаваясь вопросом: «в какой степени ее замечания соответствуют истине?» – параллельно отмечая, что «искренность, в конце концов, не гарантирует истинности», и допуская, что, хотя «Татьяна не может лгать» (почему? Неужели и Грегг попал под влияние культа?), «в одной важнейшей области своего опыта она – исключительно ненадежный свидетель». Благосклонно восприняв черновой вариант этой статьи, на мой вопрос: «Грегг находится под влиянием культа?» – Грегг ответил: «Еще как».
[Закрыть]. Такие суждения обоснованно мотивируются ощущением, что в этой заключительной сцене что-то не так. Однако я считаю, что они незаслуженно упрощают обоих ее участников, в особенности – героя.
Грегг, разумеется, прав, утверждая, что память подводит Татьяну и что она разговаривает с Евгением крайне резким тоном. Я хотела бы добавить, что ее тон – почти мужской, как будто бы эта неизбежная развязка должна была начинаться с обращения Евгения к части своего «я». Разумеется, в моем сценарии так и происходит. (Татьяна все время называет его «Онегин», так, как называют друг друга мужчины, так, как Евгений обращался к Ленскому.) На самом деле большая часть из того, что она ему говорит, становится понятнее, если ее понимать автореферентно, как исповедь. Татьяна отвергает Онегина – точно так же, как его внутреннее «я», теперь более восприимчивое и отвечающее за свое прошлое, знает, что она должна поступить таким образом. Если теперь Татьяна вспоминает «одну суровость» в реакции Онегина на ее письмо и упрекает его за «взгляд холодный» и «проповедь», мы знаем, что это ошибочная оценка искренности и мягкости его тона в тот день. Однако в нынешних обстоятельствах Онегин вполне простительно желает наказать себя за то, что тогда упустил нечто столь важное теперь. Онегин также знает в душе (и Татьяна откровенно и неоднократно подтверждает это в обращенной к нему речи), что в важнейшие моменты их несинхронизированных объяснений в любви он и в самом деле вел себя благородно, принимая во внимание то, каким он был и что он знал о себе в то время.
Заключительная речь Татьяны примечательна в других отношениях. Если сравнивать ее со взволнованным письмом безнадежно влюбленного Онегина, предъявленным нам в тексте, ответ Татьяны капризен, резок и откровенен в недопустимой, казалось бы, степени для утонченной женщины ее положения. Хотя Евгений и в самом деле питает эротические помыслы по отношению к Татьяне, та совсем не щадит его (по меркам любящей, как она утверждает, женщины): теперь, намекает она, Евгений влюблен в нее прежде всего потому, что она богата, знатна, принята при дворе, замужем за изувеченным на войне князем, который старше нее; любовь Онегина может лишь опозорить ее, принеся ему «соблазнительную честь». Опять-таки, в ситуации, когда такая агрессивная прямота могла бы показаться неподобающей со стороны тактичной, в совершенстве владеющей собой Татьяны (пусть даже на время вернувшейся к своему более невинному деревенскому «я»), Евгений, который с недавних пор начал испытывать угрызения совести по поводу своего прошлого, вполне мог бы питать такие позорные подозрения в свой адрес и сознательно усилить эти угрызения в качестве карающего жеста самоосуждения. Одна из наиболее часто цитируемых строк заключительного монолога – «А счастье было так возможно, / Так близко!..» (8, XLVII), если рассуждать логически, представляет собой лишь то, что мог бы сказать Евгений. Мы не должны забывать, что в те уже далекие времена счастье было «возможно» и «близко» только для него, обладавшего всеми мужскими правами проявлять инициативу в подобных делах. С первой же строки своего отчаянного любовного письма Татьяна рисковала, ей грозили позор и преждевременная любовная связь. Между тем в заключительном монологе Татьяны любовь уже не является главной ценностью. Исчезло это простое байроническое чувство, стержень жизни каждой женщины, для которой «любовь и жизнь – одно». Теперь повторяющимися мотивами становятся те мужские добродетели, которые были так дороги самому Пушкину: упрямство, гордость, честь.
Когда Татьяна поднимается и выходит из комнаты, Евгений остается «как будто громом поражен». Традиционные прочтения этого финала допускают иронию, потрясение, пережитое Евгением из-за нравственного превосходства Татьяны, ее самообладания, из-за приближения ее супруга, а также из-за болезненно смехотворного положения, в котором он оказался. Однако в настоящем контексте мечты поразивший Онегина гром мог бы оказаться громом осознания и внутреннего роста. Не удивительно, что Евгений впечатлен ее речью. Она принадлежит ему, его собственному, лучшему «я», его совести (Муза, теперь обращающаяся к нему изнутри, дарует ему вдохновение и нравственную ориентацию). Евгений по-прежнему не поэт в том смысле, в котором поэтами являются Ленский и повествователь. Однако идеальный внутренний собеседник, которым для него стала Татьяна, мог бы служить многим целям.
И здесь мы могли бы порассуждать о концовке «Онегина» в контексте собственной творческой биографии Пушкина. К 1829 году Пушкин стал присматриваться к другим, более прозаически приземленным музам. Это были музы прозы, истории, возможно, его собственной приближающейся женитьбы. Общим для всех них – и здесь нам следует вспомнить второе условие, к которому Онегин стремился в своей фантазии о Татьяне, то, в котором ему было отказано, – является понимание необратимости времени. Герой обратимого времени был хамелеоноподобным «салонным самозванцем» середины 1820-х годов, типичный пример которого – быстро приспосабливающийся к обстоятельствам, беспечный Дмитрий Самозванец, авантюрист, чьи многочисленные маски одинаково подлинны, что делает поиск своего «подлинного “я”» совершенно невозможным. Со временем в творческом воображении Пушкина на смену этому «обратимому» самозванцу должен был прийти бесконечно более серьезный самозванец Пугачев, который, имея только одну маску, рискует всем и несет реальную историческую ответственность.
«Евгений Онегин» предвосхищает этот переход. Когда Татьяна удаляется, Евгений остается наедине со своим необратимо жаждущим «я», которое ощущает груз событий, разворачивающихся во времени. С одной стороны, доносящийся с порога звон шпор генерала может предвещать скандал, дуэль, бесчестье. Однако такой сценарий уже до боли знаком, в нем задействованы только старые маски. А новизна вот в чем: и Онегин, и читатель озираются по сторонам с тем чувством тоски и внезапной слабости, которое появляется, когда нас застают «на месте преступления» – в разгар важного, глубоко личного, отчасти запретного разговора с кем-то любимым и любящим, чьи откровенные признания о нас самих мы только набираемся мужества услышать.
А что ждет Татьяну? Вопреки вразумлениям Белинского (с которого началась история критического осмысления «Евгения Онегина» и чья задумчивая фигура по-прежнему сохраняет в нем авторитет) и вопреки детским страстям развитой не по годам Марины Цветаевой, столь захваченной той «нелюбовной» сценой на скамейке[98]98
См. размышления Цветаевой о судьбе Татьяны в «Моем Пушкине»: «Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что… это – любовь <…> Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила она, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, она любила, он ушел, она осталась… Татьяна на той скамейке сидит вечно» [Цветаева 1994: 70–71].
[Закрыть], мы не можем беспокоиться по поводу судьбы Татьяны. У муз нет судеб в житейском смысле. Даже задаться подобным вопросом по отношению к этому тексту было бы некорректно. «Евгений Онегин» – не сентиментальный роман XVIII столетия и не реалистический роман в духе Толстого или Достоевского[99]99
Ср. [Лотман 1995:451–462].
[Закрыть]. Скорее, он принадлежит к удачно выделенной одним из критиков группе из двух романов, в которую входят также «Мертвые души», группе одноразовых экспериментов в области формы и жанра романа, осуществленных гениями в переходный период [Franklin 1984: 372]. Ибо, как неустанно повторяют критики, принадлежащие к формальной школе, это – роман в стихах, а стихотворная составляющая постоянно деформирует и форму произведения, и характеры, которые формируются внутри него [Тынянов 1977].
Здесь мы могли бы вспомнить предупреждение одного из самых авторитетных американских пушкинистов Томаса Шоу: не надо переоценивать «прозаичность» романа Пушкина. Хотя его герой не начал писать стихи, «фактически весь роман указывает на важность быть поэтичным. Возможно, главная проблема, положенная в основу романа, это не просто стадии развития, но то, как поэт (или поэтическое в человеке) может развиться, достигнув зрелости, и сохраниться или же снова стать поэтическим» [Shaw 1980: 35][100]100
Шоу усматривает три «фазы» в точке зрения повествователя (юношеская восприимчивость, разочарованность, новая очарованность в зрелости) и замыкает Онегина во второй фазе, когда он созрел для новой очарованности, – хотя, разумеется, Онегин так и не становится поэтом.
[Закрыть]. С учетом этих приоритетов заглавный герой по-прежнему остается героем. Самая высокая оценка Татьяны – как присутствия стиха в произведении, как высококонцентрированной нравственной музы. Она здесь для того, чтобы сделать возможным то, что Шоу называет «зрелым переоколдовыванием» Евгения, тем внутренним процессом, который, едва начавшись, избавляет его от потребности во внешнем повествователе. При таком прочтении «Евгений Онегин» – завершенное произведение, оканчивающееся там, где оно оканчивается, и законченное полностью. Исчезновение повествователя в финале сопряжено с ощущением благодарности, ностальгии и абсолютной невозможности вернуться в прошлое, напоминая описанный несколькими строфами ранее внезапный уход Татьяны, который заставил Евгения очнуться. Резко оборванный конец, таким образом, является еще одной хорошо сконструированной иллюзией, созданной для того, чтобы перенести теперь уже зрелого и отрезвленного героя через неведомый порог, – и мы не можем последовать за ним. В заключительных строфах Пушкин оставляет своих читателей с такой же продуманной открытой концовкой, какую он создает и для неизвестного будущего Онегина. И я бы предположила, что именно поэтичность Татьяны сама по себе сделала возможным появление такого по-настоящему романного героя. Желаю нам всем расставаться с нашими творениями с таким же чувством собственного достоинства.
1995
Источники
Белинский 1955 – Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина // Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 99–579.
Достоевский 1984 – Достоевский Ф. М. Пушкин (Очерк) // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 136–149.
Пушкин 1949 – Пушкин А. С. <Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»> // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 11 / Под общ. ред. В. В. Гиппиуса, Б. В. Томашевского и Б. М. Эйхенбаума. [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1949. С. 41–42.
Цветаева 1994 – Цветаева М. Мой Пушкин // Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 1994. С. 57–91.
Литература
Бицилли 1937 – Бицилли П. Смерть Евгения и Татьяны // Современные записки. 1937. № 44. С. 413–416.
Выготский 1968 – Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968.
Лотман 1980 – Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарии. Л.: Просвещение, 1980.
Лотман 1992 – Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
Лотман 1995 – Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 393–462.
Набоков 1998 – Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПБ; Набоковский фонд, 1998.
Тынянов 1977 – Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» //Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 52–77.
Шкловский 1923 – Шкловский В. «Евгений Онегин»: Пушкин и Стерн // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин: Эпоха, 1923. С. 197–220.
Штильман 1958 – Штильман Л. Н. Проблемы литературных жанров и традиции в «Евгении Онегине» Пушкина // American Contributions to the Fourth International Congress of Slavists. The Hague: Mouton, 1958. P. 321–367.
Clayton 1985 – Clayton J. D. Ice and Flame: Aleksandr Pushkins “Eugene Onegin”. Toronto: University of Toronto Press, 1985.
Clayton 1987 – Clayton J. D. Towards a Feminist Reading of Evgenii Onegin II Canadian Slavonic Papers. 1987. Vol. 29. № 2/3. P. 255–265.
Franklin 1984 – Franklin S. Novels without End: Notes on “Eugene Onegin” and “Dead Souls” // Modern Language Review. 1984. Vol. 79. Pt. 2. P. 372–383.
Garrard 1993 – Garrard J. Corresponding Heroines in Don Juan and Yevgeny Onegin [manuscript].
Gregg 1970 – Gregg R. A. Tatyana’s Two Dreams: The Unwanted Spouse and the Demonic Lover // Slavonic and East European Review. 1970. Vol. 48. P. 492–505.
Gregg 1981 – Gregg R. Rhetoric in Tat’jana’s Last Speech: The Camouflage that Reveals // Slavic and East European Journal. 1981. Vol. 25. № 1. P. 1–12.
Katz 1980 – Katz M. R. Dreams in Pushkin // California Slavic Studies. Vol. 11/ Ed. by N. V. Riasanovsky, G. Struve, T. Eekman. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1980. P. 71–103.
Katz 1984 – Katz M. R. Love and Marriage in Pushkin’s “Evgeny Onegin” II Oxford Slavonic Papers. Vol. 17 / Ed. by J. L. I. Fennell, I. P. Foote. Oxford: Clarendon Press, 1984. P. 77–89.
Kelley 1976 – Kelley G. The Characterization of Tat’jana in Puskin’s “Evgenij Onegin”: Ph. D. dissertation. University of Wisconsin-Madison, 1976.
Little 1975 – Little T. E. Pushkins Tatyana and Onegin: A Study in Irony // New Zealand Slavonic Journal. 1975. № 1. P. 19–28.
Mitchell 1968 – Mitchell S. Tatianas Reading // Forum for Modern Language Studies. 1968. Vol. 4. № 1. P. 1–21.
Muller 1962 – Muller L. Tat’janas Traum // Die Welt der Slaven. 1962. Bd. 7. S. 387–394.
O’Bell 1993 – O’Bell L. Through the Magic Crystal to “Eugene Onegin” // Puskin Today / Ed. by D. M. Bethea. Bloomington: Indiana University Press, 1993. P. 152–170.
Picchio 1976 – Picchio R. Dante and J. Malfilatre as Literary Sources of Tat’jana’s Erotic Dream (Notes on the Third Chapter of Puskin’s Evgenij Onegin // Alexander Puskin: A Symposium on the 175th Anniversary of his Birth / Ed. by A. Kodjak, K. Taranovsky. New York: New York University Press, 1976. P. 42–55.
Richards 1925 – Richards I. A. Principles of Literary Criticism. New York: Harcourt, Brace and World, 1925.
Sandler 1989 – Sandler S. Distant Pleasures: Alexander Pushkin and the Writing of Exile. Stanford: Stanford University Press, 1989.
Santayana 1896 – Santayana G. The Sense of Beauty. New York, 1896.
Scheffler 1968 – Scheffler L. Tat’jana Larina // Scheffler L. Das erotische Sujet in Puskins Dichtung. Miinchen: Fink, 1968. S. 178–200.
Shaw 1980 – Shaw J. T. The Problem of Unity of Author-Narrator’s Stance in Puskin’s Evgenij Onegin // Russian Language Journal. 1980. Vol. 35. P. 25–42.
Todd 1986 – Todd W. M. Ill Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
Wimsatt, Brooks 1957 – Wimsatt W. K., Brooks C. Literary Criticism: A Short History: In 2 vols. Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1957. P. 618–619.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































