Текст книги "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре"
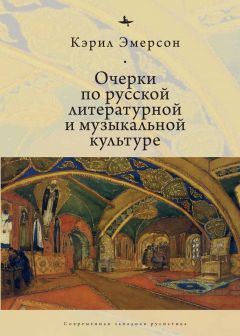
Автор книги: Кэрил Эмерсон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Этот аргумент повторяется в 2004 году менее терпимо. Увидеть или услышать «диалог» и «другость» посредством напечатанной страницы – просто иллюзия, а то и кое-что похуже, именно «форма эгоцентрического самоутверждения», претендующего на то, чтобы воплощать не одно, а два автономных сознания. Голос и слова, зафиксированные в тексте, сами по себе уже не изменяются и никому не отвечают; это мы, читатели, продолжаем говорить, расти, меняться во времени и со временем; поэтому «нам и кажется, что вместе с нами меняется и лежащий перед нами текст – мнимый собеседник». А между тем этот последний – лишь зеркало, наше меняющееся лицо. Бахтин, настаивает Гаспаров, «смотрит в зеркало на свое “Я”, а воображает, что это “Ты”». Такой эгоцентризм исследователя – или любого читателя – может только исказить или подавить самостоятельные следы реальных других, как бы предупреждает нас Гаспаров, особенно когда внимание сосредоточено на «становлении», а не на результате (продукте, «произведении») творческой деятельности. Вывод Гаспарова тот, что трезвая работа филологии, как бы ни обвиняли ее в «некрофилии», – в принципе «уважала Другого больше» [Гаспаров 2004: 10].
По Гаспарову, общение между людьми гораздо труднее, чем нам хотелось бы думать, а Бахтин создает видимость, будто общаться легко и приятно. По сравнению с так понятым Бахтиным Гаспаров выглядит лишенным всяких иллюзий, изощренным мыслителем-скептиком школы Льва Толстого[57]57
Не случайно такой проникновенный исследователь Толстого, как Лидия Гинзбург (тоже скептически относившаяся к пандиалогизму Бахтина), давно уже высказала этот аргумент Гаспарова. Не Достоевский, а как раз Толстой понимает трудности социально дифференцированной словесной коммуникации, утверждает она; в разговорах, которые ведут герои Толстого, мы узнаем дилемму нашего экспрессивного «я». Ср.: «Осознавать же себя по Достоевскому ему (современному человеку. – К. Э.) интереснее, и это каждому заметно» [Гинзбург 1971: 313].
[Закрыть]. Ибо мы только обольщаемся, когда, найдя в тексте некий «след», полагаем, будто этот след может разговаривать с нами. Мы не способны даже просто воспринять живое присутствие чужих и чуждых нам людей и голосов в нашем настоящем. В статье 1995 года «Критика как самоцель» читаем: «Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога <…> Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. С камнями сейчас мало кто разговаривает – по крайней мере, публично, – но с Бодлером или Расином всякий неленивый разговаривает именно как с камнем <…>» [Гаспаров 1993–1994: 8–9].
Если бы Бахтин мог принять и если принял бы гаспаровский вызов – вызов, направленный в такой же мере против «индустрии Бахтина», как и против самого Бахтина, – то он, конечно, сумел бы за себя постоять. Будь он жив, будь он в состоянии вести диалог на условиях Гаспарова, он мог бы, например, сказать, что его оппонент в своих небезынтересных, хотя и несколько односложных монологах о том, что диалога, мол, не существует, сильно завышает реальные возможности и интегральное единство любого конкретного живого «я». Мое «я» не сводится к плоскому и зависимому отражению или изображению его (как это блистательно и показал Бахтин в своих анализах зеркала: ведь он, между прочим, тоже знал толк в зеркальных отражениях и подменах и был, кстати, строгим критиком всех форм симпатического переживания, которое только удваивает чувства другого, а не восполняет и трансформирует его). Зеркала – плохие метафоры. Голос относится к другой категории репрезентации. Никакой субъект, как бы далеко ни отстоял он от нас во времени и пространстве, не обладает силой, цельностью и самоконтролем в такой мере, чтобы самому же инициировать голос. С точки зрения Бахтина, вступить в диалог с письменным текстом означает не самому наделять его голосом, но отвечать на его голос. Этот голос (или комплекс голосов) уже воплощен в слове – слове, которое, по-видимому, способно схватывать, сохранять и питать как содержательные, так и интонационные возможности голоса. Встречаясь с таким удерживающим голос живым словом, я всегда обнаружу в нем больше того, что вложил в него сам написавший его автор, и смысл этого слова будет в чем-то иным, чем тот, который привнесла бы в него я, будь у меня тогда возможность выразить этот смысл своим голосом.
При таком (бахтинском) понимании диалога другой, благодаря своему письменному воплощению, не только и не просто сохраняется, но усиливается, освобождается и возвращается к более полному сознанию. И тогда понятно, что побудило Михаила Бахтина обратиться к изучению романа – первой в мире художественной формы, создаваемой и воспринимаемой в молчании, – как самому свободному из всех жанров. Возможно, это и имел в виду Сергей Бочаров, когда он в 1995 году высказал следующее возражение Гаспарову: культура прошлого вообще недоступна в качестве только мертвого и чужого языка [Бочаров 1995:212].
При всей полемической энергии с обеих сторон не так-то легко преодолеть все то, что разделяет и отчуждает оппонентов: Гаспарова и платоновского «Федра» – с одной стороны, Бахтина и Бочарова – с другой. То, что каждая сторона имеет в виду в своих основополагающих утверждениях, слишком различно и само по себе едва ли поддается верификации, но при этом затрагиваются какие-то кардинальные интуиции нашего опыта межличностных отношений.
Когда литературоведы начинают говорить в понятиях диалога, они, по Гаспарову, умствуют, как «философы»: с профессиональной точки зрения это слово у него совсем не комплимент. Присмотримся к тому, как начинает Гаспаров свое выступление 2004 года «Случай Бахтина»: «М. М. Бахтин был философом. Однако он считается также и филологом – потому что две его книги написаны на материале Достоевского и Рабле. Это причина многих недоразумений. В культуре есть области творческие и области исследовательские. Творчество усложняет картину мира, внося в нее новые ценности. Исследование упрощает картину мира, систематизируя и упорядочивая старые ценности. Философия – область творческая, как и литература. А филология – область исследовательская. Бахтина нужно высоко превознести как творца – но не нужно приписывать ему достижений исследователя. Философ в роли филолога остается творческой натурой, но проявляет он ее очень необычным образом. Он сочиняет новую литературу, как философ – новую систему» [Гаспаров 2004: 8].
Итак, «философы» (и русский способ «философствования») особенно подвергают себя риску, когда пытаются «исследовать» мир. Философам нравится конструировать системы. Но строят они свои системы потому, что ими слишком часто движет не любопытство к миру, а скорее беспокойство, личная воля и – самое опасное, ибо самое замечательное в своем роде и в своем праве, – творческий импульс. Стоит только ученому вообразить себя неким творческим центром, как он сразу же ставит себя в уязвимое положение: ему тогда грозит своего рода двойной соблазн. Один состоит в том, что ученый берет из прошлого только то, что удовлетворяет его собственную потребность. Другой же соблазн в том, что ученый начинает отрицать реальность смерти, воображая, будто он, пусть и ограниченный своим настоящим, способен тем не менее извлечь «живое слово» из литературного следа и сделать так, чтобы все мы жили вечно.
Очень рано начав бдительно отслеживать все относящееся к Бахтину и к его влиянию, Гаспаров, по всей вероятности, решил или заподозрил, что именно Бахтин своими аргументами и идеями непосредственно спровоцировал эти соблазны у неподготовленных и непрофессиональных читателей. Ведь Бахтин (как и его современники-формалисты в Петрограде) побуждает читателей стать авторами и соавторами. По Гаспарову, это значит: Бахтин прививает филологии агрессивные, даже империалистические и колонизаторские, навыки чтения.
Само слово «диалог» благоприятствует именно таким навыкам, утверждал Гаспаров уже в статье 1979 года о Бахтине «в русской культуре XX века». Когда человек вступает в диалог «с вещью», читатель оказывается перед выбором: он «или может подстраиваться к ее контексту, или встраивать ее в свой контекст (диалог – это борьба: кто поддастся?)». В этой борьбе всегда легче и приятнее «встраивать» чужую вещь в наше понимание, чем в нее самому «встраиваться». Для Гаспарова психологические причины этого совершенно ясны и объективны: у нас всегда есть какие-то потребности, а у вещи (текста) – нет.
Понятно, что бинарная модель Гаспарова (либо я подстраиваюсь под текст, либо текст подстраивается под меня) – это довольно хрупкая, хотя и легкодоступная конструкция, в которой вполне узнаваемое жизненное мировоззрение по принципу «кто кого» переносится в область филологического исследования, на взаимоотношения с текстом. По самой своей структуре эти взаимоотношения подразумевают с одной стороны вертикаль власти, с другой – полную покорность этой власти, данную нам априорно раз навсегда. В науке, как и в педагогическом процессе, Гаспаров больше доверяет как бы застывшим вне времени следам слов, чем тому, что со словами на самом деле происходит в исторической жизни вплоть до сегодняшнего дня. Следы лишены собственных интересов. Оставаясь профессионалом и профессором во всем и всегда, Гаспаров выступает против любой методологии, которая дает читателям чрезмерные права на интерпретацию. И это понятно: ведь то, чему может научить такого рода методология, совершенно не поддается стандартизации, унификации – а значит, и не передается в обучении. Следовательно, подобная методология – ловушка. В большевистских 1920-х годах, как считает Гаспаров, именно такие (ненаучные) методы работы с текстом задавали тон. В ту эпоху оппортунизм по отношению к литературе – тенденция превращать произведение искусства в нечто полезное для моей личности, моей творческой деятельности, приспосабливать его для обострения моего восприятия, физических ощущений и впечатлений – был частью бунтующего и самоутверждающегося духа времени. «Личность в настоящем времени» – вот что поставили в центр всего (пусть даже и совсем на разных основаниях) и формалисты, и марксисты, и кружок Бахтина.
Надо сказать, что в 1979 году Гаспаров был как-то шире, великодушнее, чем стал позднее. В то время он еще признавал, что Бахтин – в отличие от своих последователей – относился к этому оппортунизму с полной осознанностью[58]58
В 1979 году Гаспаров писал, что последователи Бахтина «сделали из его программы творчества теорию исследования. А это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы не деформировать его <…>. Как Бахтин призывал собеседников своего поколения брать из культуры прошлого только то, что они считают нужным для себя, так теперь из его собственных работ собеседники нового поколения берут только то, что они считают нужным для себя. Но всегда лучше, чтобы это делалось сознательно, как делалось самим Бахтиным» [Бахтин 20026: 35–36].
[Закрыть].
При всем научном ригоризме Гаспаров ни в одном из своих высказываний о Бахтине между 1979 и 2004 годом, ни в какой-либо другой работе о филологии так и не дал сколько-нибудь точного определения того, что же, по его мнению, следует считать подлинным мотивом филологической деятельности, литературоведческого исследования. Простое любопытство исследователя? Археологические изыскания и реконструкции ради них самих? Позитивистская мечта о том, чтобы не оставить неясным, не оприходованным ни одного живого места, – мечта об истории, в которой все подсчитано, записано на карточку и положено на полочку?.. Допустим даже, что научное исследование обречено «упрощать мир»; но ведь, культивируя упрощения, все равно не избежать каких-то обобщений, генерализаций. А если так, то позволительно спросить: какими же все-таки принципами должно руководствоваться «исследование»?
Гаспаров ничего не говорит нам об этом: история культуры для него – это самоочевидная, объективная ценность. Зато он всячески подчеркивает, что недоверчивое отношение филологов к философам происходит не оттого, что филологи полагают, будто словесный след, написанное слово закрыто в себе и ничего не сообщает. Как раз наоборот. Филологов одушевляет стремление разыскать и восстановить слово. Слово дает ценную информацию. Для историка стиха, каковым преимущественно является Гаспаров, эта информация заключена в формальных элементах слова – ритме, рифме, тропе, фонетической и семантической структурах. Формы повторяются, преломляются, соотносятся – для Гаспарова в этом и состоит жизнь слова. Но отсюда, конечно, никак не следует, что слова могут воскреснуть или что с ними можно вступить в разговор, как с каким-нибудь живым, современным человеком, с другим сознанием. Гаспаров подозревает ценителей и последователей Бахтина в том, что они, вместо научной аргументации, культивируют мистику, выдавая ее за аргументацию. Он обращается критически не к прошлому, но к живым.
Более конкретное сопоставление с «новым историзмом» поможет нам лучше понять, почему, собственно, «диалогическая критика», на взгляд Гаспарова, проблематична. Вот признание, которым открывается знаменитая статья Гринблатта 1988 года, положившая начало дискуссии о «новом историзме»: «Я начал с желания говорить с мертвыми» («I began with the desire to speak with the dead»)11. Гринблатт с обезоруживающей честностью высказывается о статусе «диалогов», которые он хочет осуще– [59]59
См. статью «Распространение социальной энергии», вошедшую в качестве первой главы в его книгу «Социальные взаимоотношения у Шекспира» [Greenblatt 1988: 1]. Гаспаров, по всей вероятности, признает такое желание по-человечески совершенно понятным, но только как соблазн, которому истинный ученый должен противодействовать, а не поддаваться.
[Закрыть] ствить, и о полифонических «резонансах», которые надеется обнаружить – или сконструировать. Он продолжает (там же): «Это мое желание – хорошо знакомый многим из нас, но до сих пор не вполне озвученный мотив литературных исследований; мотив, оказавшийся заорганизованным, запрофессионализиро-ванным, похороненным под толстыми напластованиями бюрократического декорума: ведь профессора литературы – это буржуазные оплачиваемые шаманы. Сам не веря, что мертвые могут слышать меня, и сам зная, что мертвые не могут говорить, – я тем не менее был уверен, что сумею воспроизвести (recreate) разговор с ними. Даже тогда, когда я окончательно понял, что и в моменты предельного напряжения моего слуха все, что я в состоянии услышать, – это мой собственный голос, – даже тогда я не отказался от этого своего желания. Я действительно мог слышать только свой собственный голос, но он был голосом мертвых постольку, поскольку мертвые изобрели способ оставлять о самих себе следы в тексте, и такие следы способны заставить услышать себя в голосах живых <…> Это, конечно, парадоксально – искать волю живых в вымыслах (fictions) там, где живое тело бытия отсутствует в принципе. Но те, кто по-настоящему любят литературу, переживают художественный вымысел (simulations) более интенсивно <…> чем какие-либо другие следы, оставленные в тексте мертвыми. Ведь такого рода вымысел сочиняют при полном сознании того, что жизнь, которую ухитряются в нем представить, на самом деле отсутствует, и потому вымысел может искусно предвосхищать и компенсировать исчезновение реальной жизни, энергии которой и породили его на свет».
Признание Гринблатта красноречиво резюмирует те упреки, которые Гаспаров адресует сегодня профессиональному литературоведению, – многие из его упреков метят (справедливо или несправедливо) в Бахтина. Филолог, гуманитарий-гуманист (the humanist scholar), каким его наполовину всерьез, а наполовину игриво видит Гринблатт, – это «шаман», у которого глубокая психологическая потребность в магии каким-то образом служит оправданием тому, чем он занимается. Такой шаманствующий и, одновременно, исповедывающийся филолог борется с фантазией, а потом вдруг сам же ей отдается, демонстрируя привлекательную широту натуры и прося у читателя снисхождения. Филолог, критик, гуманитарий, тип которого так ярко воплощает Гринблатт и который так явно отталкивает Гаспарова в лице Бахтина, исходит из того, что мертвые могут заговорить с помощью меня, живого современника, – через мой голос и совместно с моим голосом.
Но у такого ученого, согласимся, довольно-таки странная в онтологическом отношении аргументация. Оказывается, художественная литература («вымысел», simulation) для профессиональных читателей – более живое и интенсивное переживание, чем какая бы то ни было реальная жизнь. И это потому, что вымысел, будучи заведомо лживым, предвосхищает утрату, которую нам предстоит пережить, столкнувшись с реальной смертью. Тем самым позиция, которую конструирует Гринблатт и деконструирует Гаспаров, представляет собой смешение научного исследования с собственными потребностями, самотерапией и умственным произволом («формирование “я” в эпоху Ренессанса»).
С точки зрения гаспаровцев, «случай Гринблатта» – поясняющая аналогия к «случаю Бахтина», поскольку сторонники «нового историзма» активно способствовали смещению вкусов и оценок (shift of sensibilities) в американской литературной критике от текста к культурным контекстам – тому же самому смещению, которое питало «американского Бахтина» и подняло его до уровня суперзвезды. Обращение к широкой аудитории; открытость для взаимных, равноправных контактов и «переговоров» (negotiations); способность говорить с другими на их языке; учет фактора случайности; внимание к «резонансам»; наконец, акцент на способности каждого человека стать действующим лицом и оставить после себя след, энергии которого могут высвободить критики последующих поколений, – эти особенности и ориентации «нового историзма» как раз и соответствуют более чем вольным надеждам, возлагаемым на «диалог» и (в чисто литературной плоскости) на «полифонию». Обратимся же теперь к бахтинской полифонии: можно ли снять с нее подозрение Гаспарова в том, что полифония в литературе тоже имеет только «философскую», а не филологическую значимость?
Автор и герой в академической деятельности, II: полифония, одновременность и форма сакрального
Скептиков, пишущих о полифонии в романе, давно уже беспокоит предположение: а не лежит ли в основе динамики полифонического романа как целого некий недопустимый для филологии постулат веры? Энтузиасты и апологеты полифонии утверждают даже, что полифоническое построение приближается к тому удивительному и таинственному моменту реальной действительности, который мы называем обычно «сдвигом сознания». И, конечно же, полифонический диалог – это очень своеобразная творческая деятельность: его итог – не «творение» (созданный герой, артефакт), но другие говорящие люди – лица, личности – существа, сотворенные для того, чтобы творить, причем творить больше словом и в слове, то есть из того же материала, из которого они сами созданы. Для того чтобы звучать правдиво, разговор между такими «сотворенными и творящими» существами должен быть весь проникнут чувством свободы. Именно утверждение, что написанный текст может порождать не имеющую конца и завершения свободу, особенно раздражает тех филологов, которые привыкли работать с давно отложившимися и определившимися, традиционными литературными формами, – к таким филологам, понятно, относится и Гаспаров. Однако по мере развития бахтинистики стали появляться более взвешенные и конкретные определения полифонии, которые постепенно завоевывают признание. Если такие определения и объяснения на самом деле отражают замысел Бахтина, то, возможно, с их помощью удастся более объективно воспринять и более научно оценить «полифоническую форму», умиротворив тем самым даже скептиков гаспаровского типа.
Одним из первых шаг в этом направлении сделал Майкл Холквист. Исследуя бахтинское мышление в связи с проблемой органической формы, он уже давно отстаивает такую модель диалогических и полифонических отношений, которая заключает в себе нечто большее, чем отношения линейности, чередования или колебательного движения. Холквист считает, что в центре теоретических интересов Бахтина, среди которых особенно выделяется своим постоянством проблема органических единств в их отличии от единств механических, находится одновременность — состояние непрерывной обратной связи и «единовременно-сти» между различными необходимыми для жизни феноменами[60]60
См. основные положения Холквиста во вступительном разделе его книги «Диалогизм: Бахтин и его мир» [Holquist 1990:18–20], который называется «Принципиальная роль одновременности», а также его недавнюю работу «Бахтин и задача филологии: статья для Вадима» [Holquist 2000: 56].
[Закрыть]. Отношения, поддерживающие процесс жизни, развиваются и сообщаются не последовательно, не «в ряд» (как мы представляем себе внешний ход диалога), но, скорее, в более глубоком измерении (a field), непрерывно приспосабливаясь к нему. Полифония, понятая как со-существова-ние множества переменных величин, в равной мере живых и способных ответно реагировать и поступать, – это не временная последовательность бытия, но основание бытия.
Эта идея получила совсем недавно неожиданное подтверждение и продолжение в области музыкальной критики. Я имею в виду статью Александра Махова «“Музыка” слова: из истории одной фикции» [Махов 2005]. Махов исследует долгую двустороннюю традицию заимствований терминов между музыкальными и литературными критиками. В конце статьи речь идет о «полифонии» у Бахтина. Махов отмечает, что Бахтина критиковали за то, что он использовал музыкальный термин якобы не точный, допускающий смешение области слов и области звуков, паразитирование одних средств художественного выражения за счет других. Такая критика, по мысли Махова, не адекватна сути дела по двум причинам. Во-первых, термин «полифония» (как и понятие «сонатной формы») впервые появился у средневековых теоретиков музыки под влиянием риторики; Бахтин, так сказать, вернул этот термин в родной дом. А во-вторых, бахтинскую полифонию неправильно отрывали (обычно воспринимая ее в секулярном контексте) от двух других ценностных измерений, которые Бахтин вводит в свою книгу о Достоевском в связи с той же самой проблемой полифонического романа, – таковы понятия «одновременности» и «вечности». Оба этих взаимодополняющих термина находятся в известном напряжении с понятием «диалог» – понятием, которое для многих из нас ассоциируется скорее с динамичностью, линейностью, мирской посюсторонностью, взаимной реактивностью. Диалог в этом смысле – слуга свободы: во всяком случае – постольку, поскольку диалог создает неожиданное и новое. А между тем «одновременность» и «вечность» гармонически сочетаются в средневековой полифонической музыке и более всего соответствуют духу Средневековья. Больше того, в своем историческом контексте сакральная полифония была музыкальным эквивалентом аллегории, то есть мистической одновременности событий Ветхого Завета и их соответствий в Новом Завете. Такое семантическое переплетение, напоминающее палимпсест, конечно, не санкционирует чего-либо абсолютно нового (то есть той благородной задачи, которую выполняет в романах диалогизм); скорее, оно обогащает реальность старого новыми констелляциями одновременности. Только в музыкальной полифонии одновременность может стать бескомпромиссной реальностью, подлинным многоголосием, в пределах которого отдельные голоса, как бы много их ни было и каким бы своеобразием они ни обладали, никогда не вытесняют друг друга и никогда не теряют своего места в гармоническом строе целого. Для осуществления этой задачи музыка имеет в своем распоряжении собственный потенциал и производит резонансы, намного превосходящие семантические возможности словесного высказывания.
Сакральная полифония в этом смысле создает не только многослойное звуковое пространство, но и многослойное смысловое пространство – мощное, спрессованное и контрапунктическое; полифония оправданна и справедлива, потому что побуждает нас к надежде и вере. Парадигма новой эры, которую предлагает Махов, – «Страсти» Баха: здесь ключевые сакральные события встроены и вплетены одно в другое, но при этом не теряют своего напряжения и драматической силы. Разумеется, пространство такой парадигмы вполне телеологично и статично. В нем нет ничего незавершенного, ничего открытого. И все же оно и вправду объясняет то, что можно назвать моментами сияния у Достоевского – моментами, которые не так легко свести к «идеям, развертывающимся в диалоге», – когда вечные вопросы одновременно ставятся, подвергаются испытанию смертью и обнаруживают свое бессилие изменить реальный ход вещей и событий, но одновременно и получают возможность трансцендентного разрешения. Вот некоторые из этих сцен: Раскольников на коленях перед Соней в эпилоге «Преступления и наказания»; Зосима, у которого находятся слова утешения для матери, потерявшей последнего ребенка; Алеша Карамазов на похоронах Плюшечки и его речь у камня.
Трудно сказать, имел ли Бахтин в виду сакральную полифонию средневекового типа в своей книге о Достоевском или (как утверждает большинство исследователей) нечто строго литературное, дисгармоничное и модерное[61]61
Самая последняя гипотеза о происхождении полифонии у Бахтина принадлежит Брайану Пулу, и она не имеет практически ничего общего с гипотезой Махова. Источник Бахтина, согласно Пулу, относится к немецкой философской критике, а именно – к XIX веку: это – немецкий романист и критик Отто Людвиг, которого процитировал в 1923 году теоретик жанра Эрнст Хирт. Речь идет о выражении polyphonischer Dialog, которое встречается в работе Хирта «Закон формы в эпической, драматической и лирической поэзии» («Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen Dichtung»), – выражении, которое, правда, употреблено в контексте истолкования шекспировской драмы. См. [Poole 2001: 119, 131].
[Закрыть].
Однако предлагаемое Маховым прочтение словно подсказано многозначительным замечанием, высказанным на последних страницах монографии о Достоевском (и в первом издании 1929 года, и в переработанном издании 1963-го): «В плане своего религиозно-утопического мировоззрения Достоевский переносит диалог в вечность, мысля ее как вечное со-радование, со-любование, со-гласие. В плане романа это дано как незавершимость диалога, а первоначально – как дурная бесконечность» [Бахтин 1929: 160; 1963: 473].
Здесь, по-видимому, говорится о тех же двух измерениях человеческого существования, которые имеет в виду Махов в своей трактовке полифонии. Первое измерение, или низший уровень, – это диалог: свободно развивающийся, незавершимый, непредрешенный, открытый, неустойчивый, пронизанный теплом и светом личности, – но потенциально трагический. Высший уровень – измерение, где все стабильно, истинно и вечно, а «полифония» имеет прочную и сакральную основу, – это сфера радости и примирения. Если гипотезу Махова принять всерьез, то оборот «полифонический диалог» следует осмыслить заново. Диалог, в смысле линейной последовательности с открытым концом, бесспорно, присутствует в романах Достоевского – и тем вернее приводит к трагедии и боли. Словесный диалог должен строиться в линейном порядке (ведь роман – не либретто, у него нет конвенций для создания ансамбля – ensemble singing, – в котором одновременно говорят все, но при этом каждый голос говорит и выражает что-то совершенно свое, в своем особом ритме и настроении, с расчетом, чтобы слушатели воспринимали голоса каждый в отдельности и все вместе). Но именно поэтому «полифонию», пожалуй, не следует смешивать с «диалогом», как не следует и рассматривать полифонию в качестве предельного случая диалога. Диалог и полифония – это, возможно, два различных и относительно самостоятельных феномена. Если (как считает Махов) полифония началась как риторическая мечта – мечта о том, чтобы очевидные противоречия и разнородный характер мира выразить как некое одновременное, разноголосое, но в то же время и гармоничное целое, – как момент, когда Музыка Сфер наполняет Музыку Души, – тогда мы получаем во всей своей полноте и славе учение старца Зосимы в чистой трансмузыкальной форме. И тогда перед нами – независимо от намерений Бахтина и даже независимо от исповедываемого Бахтиным христианства, – возможно, окажется главное в творчестве Достоевского. Ибо чем же еще является созерцаемое им христианское примирение человека с другим человеком, с действительностью, с Истиной? Достоевский любил этот тройственный образ примирения, но оказалось, что успешно воплотить его – задача очень трудная. Возможно, потому, что слов всегда не хватает, а слова были единственным орудием его ремесла.
Что же имеет предъявить предложенная Маховым реабилитация бахтинской полифонии таким обмирщенным скептикам, как Гаспаров? Очень немного, конечно же, религиозного воодушевления. С точки зрения гаспаровской критики утешение души не относится к существу филологической работы. (Впервые в 2004 году Гаспаров добавил к своей критике Бахтина несколько замечаний о Боге и несуразном, неуместном интересе к Нему Бахтина[62]62
«…Бахтину больше всего хотелось говорить о трансцендентном, т. е. о Боге (о том Боге, который присутствует третьим над всеми людскими диалогами), а о Боге адекватно говорить человеческим языком вообще нельзя, даже и независимо от советских цензурных условий. О Боге можно говорить только парадоксально…» [Гаспаров 2004: 9].
[Закрыть].) Но соображения Махова затрагивают и другое уязвимое место на литературном крыле бахтинистики. Многие критики Бахтина согласны в том, что интерпретации «диалогизма» в произведениях Достоевского уменьшают и ослабляют всеобъединяющую, трансцендентную весть автора. Бахтину в его скорее «формалистической» книге, которую ему пришлось писать о Достоевском в советских условиях, не очень удаются объяснения эпифаний в романных шедеврах, то есть откровений чисто духовных смысловых единств, мгновений вечной истины и других онтологических реальностей у Достоевского – всего того, что, несомненно, должно найти свое законное место в Большом Времени. «Диалогизованное слово» более успешно в качестве инструмента анализа конкретных диалогов в пределах Малого Времени. Однако с помощью концептуальной упаковки, в которую Махов поместил полифонию, можно начать пересмотр великих романов Достоевского: эти романы диалогичны на секулярном уровне, но в то же самое время сакрально-полифоничны на более высоком уровне. Нижняя (диалогическая) плоскость случайна, процессуально-мучительна, вполне допускает сомнения. Верхняя плоскость – средневековая полифоническая структура, – наоборот, полностью контролируется и лишена всякой контингентности, уравновешенна и все время присутствует пространственно – почти в качестве лирического стихотворения. Как это Михаил Гаспаров мог остаться равнодушным к поэту-музыканту, сочинившему такое стихотворение, и к критику-философу, обнаружившему и высветившему его?
Автор и герой в академической деятельности, III: мениппея, Рабле и спорная возможность перехода от культурного артефакта к художественному целому
Статья Гаспарова 2004 года «Случай Бахтина» включает несколько новых полемических аргументов против подсудимого помимо только что упомянутого замечания о Боге. Едва ли не самый резкий из этих новых аргументов направлен против жанра «мениппеи». Мениппея, согласно Гаспарову, – это «новая, небывалая литература, программу которой сочинил Бахтин» [Гаспаров 2004: 8]. Сочинил — а не открыл или исследовал. Филологу-классику, воспитанному на работе с источниками, Гаспарову не по себе оттого, что Бахтин пользуется неким минимумом данных – сохранившимися мелкими или мельчайшими фрагментами, основываясь на которых он конструирует крайне экстравагантные обобщения об истории литературы и условиях человеческого бытия. М. Л. считает такую методологию типичным признаком «философа в роли филолога».
Согласно Гаспарову, Бахтин, во-первых, применяет очень широкое определение жанра к очень небольшому по своему объему документальному материалу. Гаспаров перечисляет множество «основных особенностей» менипповой сатиры, приводимых Бахтиным в четвертой главе второго издания его книги о Достоевском, – в общей сложности 14 признаков, среди которых находим и «смеховой», и «повседневный», и «приключение», и «фантастику», и «авантюрность», и «порог», и «морально-психологическое экспериментирование»; любое сочетание этих особенностей якобы свидетельствует о принадлежности произведения к мениппее [Бахтин 2002в]. Но какое же повествовательное произведение в таком случае не окажется «мениппеей»? И поскольку не все, что существует, непременно подпадает под какую-либо данную аналитическую категорию, в этом случае не функционирующую в качестве категории, – то необходимым становится следующий шаг, который и делает «философ в роли филолога». Это – отбор текстов или фрагментов текстов для анализа того, что просто «нравится лично Бахтину, что он считает хорошим и важным». В англоязычных исследованиях наследия Бахтина и древнего нарратива прозвучали сходные предупреждения об осторожности, хотя и не такие резкие по тону[63]63
«Вместо того, чтобы видеть в этом каталоге специфику древних жанров или жанровых подразделений, возможно, полезнее рассматривать его как попытку Бахтина выделить и обозначить древние ингредиенты традиции карнавализованной прозы – традиции, которая выходит за границы традиционных жанров» [Branham 2005].
[Закрыть].









































