Текст книги "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре"
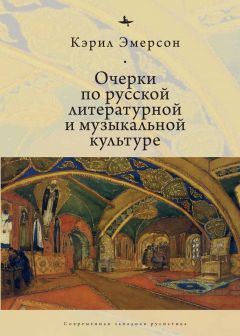
Автор книги: Кэрил Эмерсон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
1. Формалисты
Гоголь, загадка при жизни и революционер стиля, остался пробным камнем для всех последующих поколений критиков. Формалисты оставили две классические работы о нем: одна посвящена анализу внутренней структуры отдельного произведения, вторая – внешним, историко-литературным связям. Первая – работа Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1918) – относится к ранним формалистическим прочтениям художественных нарративов и по своему методу приближается к чтению прозы, как если бы это была поэзия. В петербургской повести о бедном чиновнике, получающем, а затем теряющем свою новую шинель, Эйхенбаум не видит ни человеческой трагедии, ни социального протеста, но лишь стилистические особенности сказа, приема, полностью построенного на подчеркнуто персонализированном нарративе. В «Шинели», утверждает Эйхенбаум, следует видеть прежде всего речевую игру, семантическую ауру и «звуковые жесты» – то преувеличенно комические, то мелодраматические и декламационные. Фарсовые и патетические тона столь произвольно сменяют друг друга в повествовании, что никакая целостная «психология» не в состоянии была бы завершить ни повествователя, ни персонажа. Повесть является шедевром именно благодаря искусности и изобретательности автора: «в нем нет и не может быть места отражению душевной эмпирики» [Эйхенбаум 1986: 59]. Гоголевский сюжет, который технически можно определить как гротескный, наполнен не людьми (всегда представленными автором неполными, второстепенными, случайными и временными) – он построен на звукоречи.
Понятие основанного на звукоречи гротеска было частью борьбы формалистов с легкодоступным визуальным образом. Но оно имело и оборотную сторону. Если Шкловский читал Толстого «глухим» (высокомузыкальная Наташа Ростова воспринимает оперу только через «остраняющие» декорации, но не через опьяняющую музыку), то Эйхенбаум не менее провокационно читает Гоголя слепым. В своем имманентном анализе повести Эйхенбаум интересуется не тем, что за человека мы могли бы увидеть на замерзших петербургских улицах, а лишь тем, что мы слышим от рассказчика, наслаждающегося игрой гротескными формами. Редукция гоголевской «Шинели» до внутренней игры лингвистических и звуковых приемов проистекала из того, что для Эйхенбаума было делом жизни, – из защиты поэтики, сфокусированной на произведении и слове [Any 1994: глава «Guarding the Work-Centered Poetics»].
В формалистских теориях литературной эволюции работа приема определялась несколько шире. Внетекстуальная реальность должна быть внесена в анализ (критик не должен замыкаться во внутренней имманентной структуре отдельного произведения), но, в соответствии с формалистскими научными стандартами, таким материалом могут служить только другие литературные тексты. Каждый прием служил исторической мотивировкой, когда использовался в новой функции. В подобной функционалистской модели жанр являлся не неким лоном сознания со своей органикой, со своими глазами и ушами (как для Бахтина), а, скорее, «историко-референциальной системой», содержащей как доминантные, так и отработанные формы, временно неактуальные, но всегда готовые к возрождению в будущем, новом контексте. Образцом подобной динамики может служить работа Тынянова «Достоевский и Гоголь: К теории пародии» (1921). Как и для большинства культурных теорий 1920-х годов, понятие борьбы первостепенно важно и для Тынянова: борьба с традицией, с предшествующим литературным гением, с соперниками за право наследования. Но «борьба» для формалистов, подобно веселой брани и дракам в бахтинской концепции карнавала 1930-х, не содержит ничего уничижительного по отношению к «врагу», никакого презрения к нему, и даже не всегда направлена на причинение ему боли. Если это «вооруженная» борьба, то даже трудно сказать, чем вооружены противники. Каждый вновь присоединившийся к ней не только не отрицает авторитета предшественника (и тем более не стремится к его разрушению), но изучает его, стремясь стать достойным его наследником, обогатить это наследие каким-то новым возрожденным приемом, который высвечивает старое, славя потенциал нового.
В этом духе, полагал Тынянов, начинающий Достоевский на всех уровнях почтителен в отношении своего романтического предшественника Гоголя, хотя временами он и стремился творчески «исказить» его. Вначале был период увлечения – Достоевский использовал известные гоголевские приемы почти без разбору: типажи, маски, гротескные образы, абсурдные контрасты, синтаксические конструкции, звуковые и фонематические чудачества (особенно в собственных именах). Тынянов называет этот период интенсивной игры «стилизацией», при которой влияние не только не скрывается, но выставляется напоказ. И только когда стилизация комически мотивирована, она превращается в пародию. Этот комический импульс нейтрален и не означает неуважения или насмешки, но лишь «невязку обоих планов, смещение их» [Тынянов 1977: 201], и может действовать в любом направлении: «Пародия вся – в диалектической игре приемом. Если пародией трагедии будет комедия, то пародией комедии может быть трагедия» [Тынянов 1977: 226]. Необходимым условием для подобных переходов является одновременное наличие обоих уровней – и авторитетного оригинала, и новой, проявленной в отношении его интенции (в противном случае остается только комический эффект). Определенные приемы «механизированы», снижены и использованы вторично. Где Достоевский совершил настоящий прорыв в знакомом формалистам поле, так это в использовании вещных типажных гоголевских масок для создания многомерного, развивающегося, ищущего истину персонажа. Хотя гоголевский субстрат с его непоследовательным и ненадежным повествователем остался в прозе Достоевского навсегда.
2. Бахтинский подход
Сам Бахтин о Гоголе в 1920-х годах не писал; лишь в следующее десятилетие он обратится к использованным Гоголем украинским сказкам и карнавальному началу в его творчестве. Однако друг и коллега Бахтина Пумпянский в 1922–1923 годах написал книгу о Гоголе [Пумпянский 2000: 257–342, 706–721]. Как и многие другие работы кружка, эта книга осталась лишь новаторским наброском: изначально подготовленная в форме устного доклада, она была затем переработана и углублена, но так и не завершена в связи со смертью автора (в 1940 году от рака печени) и вышла в свет только в 2000-м. Первые же ее страницы проливают свет на зарождение карнавальной идеи как идеи «праздника», отдыха, свободы от труда и иерархии. Подобные темы не имели, казалось бы, никакого будущего в плановом, дисциплинированном советском обществе и в новой жертвенной большевистской культуре и могли восприниматься лишь ретроспективно. Гипотеза Пумпянского, навеянная классическими греческими сатирическими пьесами, сводилась к тому, что комическое искусство начинается с негации или отказа от целеполагающей активности. Комедия такого рода жизненно необходима, так как здоровье культуры зависит не только от установленных целей (которые, в пределе, могут вести к гипнотической завороженности настоящим), но также и от «слова с оглядкой», то есть от слова, критичного в отношении этих целей. Бесцельность неожиданно нисходит на изнуренного труженика, на глубоко верующего, на погруженного в трагическую скорбь, принося освобождение. Сознание получает возможность остаться вне возвышенной цели и оценить ее.
Пумпянский утверждал, что гоголевский мир по сути своей враждебен царству завершенности. Целенаправленные, просчитанные действия всегда найдут себе оправдание – даже в энергичном вращении вокруг собственной оси. Иное дело – юмор:
Смех, вечно колебля, принципиального выхода не совершает и из развенчания серьезности целей не делает нравственного вывода; смехом отделываются и от целевого мира, и от нравственного, приветствуют поражение целей, но и преувеличивают его, чтобы избавить себя от необходимого вывода. Отсюда страшная трудность понять смех: он есть всегда гипербола; он, как лавина, преувеличивает себя же на своем пути; мы всегда кончаем смех слишком поздно [Пумпянский 2000: 259].
Пумпянский прослеживает бесцельность гоголевского смеха через работу Гоголя с украинскими сказками, комическим и карнавальным эпосом (где проводятся параллели с Пушкиным), в казацком эпосе в «Тарасе Бульбе», в удивительно нежных и чистых комических идиллиях Гоголя и, наконец, в борьбе личности с безумием. Смех безумного означал, что писатель проиграл в борьбе за «социальную значимость», бывшую главной преградой на пути чистого юмора. Пумпянский полагал: «Сопротивление юмору есть не характер, а социальная значимость; дело юмора совершается путем ее изничтожения и улегчения в ничто» [Пумпянский 2000: 327]. Вот почему как герои, так и антигерои очень редко достигают значимого социального статуса в гоголевском мире.
Гоголевский смех – это прием. Но он отличается от технически нейтрального формалистского приема. У Пумпянского он имеет оттенки ницшеанского и символистского характера, где гоголевский смех воспринимался как демонический, нигилистический и дионисийский. Когда Бахтин переработает эту идею космического освобождения от целеполагания в понятие карнавала, она обретет те же светлые оптимистические интонации, какие полифония придала в 1929 году искусству Достоевского.
3. Марксистское и социологическое направления
«Марксистско-социологический Гоголь», с которым мы встречаемся в «Творчестве Гоголя» Переверзева (1914), сильно отличается от Гоголя как Эйхенбаума, так и Пумпянского. Если Пумпянский настаивал на том, что ключом к комическому миру Гоголя является бесцельность, освобождающая мир от предопределенности и рамок, то марксистский подход рисует куда более мрачную картину. В предисловии ко второму изданию книги (1926), озаглавленному «Гоголевская критика за последнее десятилетие», Переверзев так обосновывает свое решение не вносить изменений в оригинальный текст: «новых достижений нет, и моя книга без всяких изменений и исправлений остается теперь такой же новой, как и десять лет назад при первом ее издании» [Переверзев 1926: 17]. Среди псевдоноваторских и ненаучных подходов к Гоголю он выделяет биографический мистицизм символистского толка, психоаналитический редукционизм Ермакова и формалистический подход (наименее абсурдный из всех, по его признанию), кроме эссе Эйхенбаума о «Шинели», которое он называет всего лишь «метафизическим вздором, дающим не понимание, а путаницу понятий» [Переверзев 1926: 8]. Понимание, по Переверзеву, возможно лишь через корреляцию гоголевского стиля (многопланового и невероятно сложного) с социоэкономическими условиями. Образец в этом смысле – «Петербургские повести» (1834–1842) «из жизни чиновного круга» [Переверзев 1926: 40]. Их фрагментарность и разделенность являются результатом гоголевского «разрыва с помещичьей усадьбой, бегства в город» и его столкновения с денежной экономикой, которые расшатали «примитивную гармонию поместной психики» и привели к погружению в мрачные предчувствия экономического краха [Переверзев 1926: 40].
Как эта шокирующая фрагментация воплощена художественно? Сравнения, эпитеты, декламационные обращения, непрестанно отмечаемые всеми критиками, нисколько не уникальны для гоголевского стиля [Переверзев 1926: 49]. Что действительно важно, настаивает Переверзев, так это «умственное убожество, страшная бедность идей» [Переверзев 1926: 52]. Идеи здесь заменены болтовней и игрой слов. Для социологической школы образы были, однако, важнее идей. Но и здесь ей явно недостает видимых зацепок: у Гоголя не только не обнаруживается структурного центра, каковым выступает герой произведения (как, например, у Пушкина, Лермонтова, Толстого), но и наблюдается странная диффузия также и на периферии, где трудно найти человека: «у Гоголя нет героя, но нет и толпы» [Переверзев 1926: 60–61]. Их заменяет набор хотя и точных, но произвольных мелких частей, каждая из которых равно важна и равно сопротивляется гуманизации, поскольку рост здесь – элемент не психологии, но лишь физического расширения. Главы гоголевских текстов не вырастают одна из другой органично, как у Толстого, а «прирастают друг к другу» post factum. Гоголевское произведение вообще является не организмом, в котором «части не имеют жизни вне целого, и целое не может жить без каждой из своих частей», но чем-то больше напоминающим биологическую колонию, где «части срослись внешней механической связью, и потому оторванная часть сохраняет свою жизнь и не разрушает жизни целого» [Переверзев 1926: 63–64]. Подобные операции и автономность частей были бы невозможны у Толстого [Переверзев 1926: 64].
Переверзевский социологизм вовсе не лишен эстетической проницательности, а некоторые социально-экономические мотивации могут быть даже вполне адекватными при анализе гоголевского мира. Формалистов и бахтинистов смутили бы в марксистской имитационной теории искусства не столько наблюдения, сколько объяснения причин и ограничения, налагаемые на творческое воображение и ослабляющие его. Говоря о гоголевских портретах, Переверзев утверждает, что «примитивность и монотонность сами по себе еще не исключают своеобразной мощи и красоты. Но мелкопоместная и чиновная среда дореформенной провинции не допускала появления могучих и красивых людей» [Переверзев 1926: 91]. Детерминированность литературного произведения реальной жизнью подкрепляется таким же детерминизмом относительно социальных предпочтений и классовых привилегий самого автора. С помещиками и чиновниками (в отличие от мыслящей интеллигенции) Гоголь обходится безжалостно, замечает Переверзев. Поскольку гоголевские персонажи все на поверхности, их характеризует страшная бедность внутренних переживаний, интимных размышлений и чувств, которыми так богато, например, творчество Тургенева или, в еще большей степени, Достоевского и Толстого. Литературный гений является продуктом двойного давления: обусловленного средой, идущего извне – и дополняющего его внутреннего, переживаемого автором. Таким образом, Гоголь как сознательный художник оказывается едва ли не случайностью. Сознание могло быть союзником социально-экономического бытия в деле эстетического выражения, хотя такой союз был нисколько не обязателен.
Вероятно, именно в этом состояла одна из причин того, почему Бахтина так мало занимал марксистский проект, по крайней мере в том, что касается его приложения к литературному творчеству[28]28
Что касается более широкого вопроса об идеологической ориентации Бахтина, см. ценное, но неподтвержденное свидетельство С. Г. Бочарова о его беседе с Бахтиным 21 ноября 1974 года: «М. М., может быть, Вы увлекались какое-то время марксизмом? – Нет, никогда. Интересовался, как и многим другим, – фрейдизмом, даже спиритизмом. Но марксистом никогда не был ни в какой мере» [Бочаров 1993:70–71].
[Закрыть]. Хотя сознание, помогавшее борьбе с анархическими эксцессами «стихийности», в целом полагалось большевиками добродетелью, марксистская его интерпретация не предполагала дифференцированного, индивидуализированного, ответственного сознания, то есть именно того, чего искал Бахтин, с одобрением писавший о Достоевском в первом издании своей книги о нем (1929; в главе, снятой при переработке для издания 1963 года): «От первых и до последних страниц своего художественного творчества он руководился принципом: не пользоваться для объективации и завершения чужого сознания ничем, что было бы недоступно самому этому сознанию, что лежало бы вне его кругозора» [Бахтин 1929: 101–102]. Этот принцип не обеспечивал ни приглаженных сюжетов, ни счастливых героев. Бахтин исходил из того, что и способность к ответственному суждению, и ответственность за восприятие этого суждения другими является как бременем, так и правом и автора, и героя. «Сознание, – писал он в записных книжках в 1961 году, – гораздо страшнее всяких бессознательных комплексов» [Бахтин 1979: 313].
4. Психоаналитическое направление
Наш последний методологический пример – психоаналитический – тоже (так уж получается) связан с сознанием. Неизбежно основным текстом здесь должна стать повесть Гоголя «Нос» (1836) и ее прочтение Ермаковым в 1923 году. Как практикующий психоаналитик, с гордостью идущий по следам своего учителя Фрейда, Ермаков использовал литературу одновременно как источник и как иллюстрацию для демонстрации категорий, в которых он описывал свой клинический опыт. Его он с уверенностью прилагал и к литературному творчеству, и к личности творца. Гоголь – при его обсессивном внимании к пищеварению и опорожнению; педантичной тяге к классификациям и скаредности; при его капризах в отношениях с друзьями; чудачествах; перипетиях в отношениях с матерью, которую он стремился контролировать и перед которой в то же время преклонялся, – с легкостью квалифицировался в категориях анального эротизма. Резкие колебания от «самоуничижения» к «самовозвеличиванию» [Ермаков 1999: 267], так же как и привычка выпрашивать сюжеты у своих литературных знакомых, наводили на мысль о подавленной агрессивности, которая не позволяла ему полностью контролировать собственную обидчивость, направленную на чуждые ему взгляды.
Основанное на фрейдистском символизме чтение Ермаковым «Носа» исходит из ряда убедительных примеров. Он был знаком с подходом формалистов к Гоголю и высоко ценил их искусную работу с языком. Его анализ гоголевского текста о странствующем носе майора Ковалева основан на категориях и метафорах фрейдистской теории: нос представлен как фаллический образ, частично стыдливо скрытый, частично бесстыдно экспонируемый, копрофилический (возбуждаемый запахом) и ассоциируемый с поеданием, связанный с фраками и обувью, способный к свободному изменению как своего размера, так и бюрократического статуса и потому вызывающий одновременно унижение и ужас. Анализ дополнен множеством тонких замечаний об отдельных словах, повторяющихся фонемах и этимологии фамилий. Даже вполне ожидаемый вывод о страхе кастрации сопровождается у Ермакова пристальным вниманием к психологическим аспектам рассказа, которые, строго говоря, не являются психологическими (например, тот факт, что ни одно действующее лицо не обнаруживает изумления перед этими невероятными событиями). Это именно то, чего можно ожидать, когда подавленное начало выходит на поверхность. Раздражение, отчаяние и смущение были бы здесь уместны, но никак не удивление.
Исходя из универсалистских и общекультурных претензий фрейдистской экономики, характер ермаковского прочтения «Носа» предсказуем. Что трудно было предсказать (и чем можно было бы резюмировать все четыре критических подхода, рассмотренных в этом практикуме), так это те моменты, в которых «фрейдистские» приоритеты высвечивают (а иногда и усиливают) базовые ценности, которые мы отмечали в трех других направлениях русской литературной теории 1920-х годов. Адресуясь к скептическому русскому читателю молодого, недавно разрушенного и едва восстановленного материалистического революционного государства, Ермаков обосновывает свой подход при помощи нескольких взаимосвязанных аргументов, каждый из которых несет на себе след мысли строгого моралиста и лишенного сантиментов сторонника строгой дисциплины по имени Зигмунд Фрейд.
Прежде всего, творческий процесс определяет и подпитывает огромная сфера бессознательного, наполненная теми «неудобными и нетерпимыми» структурами [Ермаков 1999:262], которые навязали нашей психике цивилизация и общество. Боль, причиняемая социальным прогрессом и трансформациями, реальна, убеждает нас Ермаков, и люди не фантазируют, говоря, что страдают от них. Фантазия сама по себе – иллюзия. На каждом уровне реальность даст почувствовать себя. «Творец черпает материалы для своих произведений из действительности» [Ермаков 1999: 263] и может быть силен и правдив лишь постольку, поскольку он противостоит реальности. Эстетическое выражение являет собой, таким образом, абсолютно реальную когнитивную проблему, «способ познания мира художником» [Ермаков 1999: 263], поскольку он существует объективно. В этом знании нет ни гедонизма, ни замкнутости. Стремление к познанию растет из страха одиночества и, следовательно, сугубо социально. Поскольку бессознательное является движущей силой, а страхи разделяются всеми, они и поняты могут быть всеми: «В темных и богатых силами областях примитивных инстинктов» (а не в окультуренном цивилизацией и сознанием мышлении) «находит художник базу для своего общения с человечеством» [Ермаков 1999: 263]. И наконец, в процессе обуздания этих сил путем направления их вовне, в энергичное «здоровое искусство», создаются новые культурные ценности, которые будут бороться и победят все, что «эгоистично, во имя всечеловеческого» [Ермаков 1999: 263].
Осмысливая эту позицию, понимаешь, что Ермаков едва ли обратил бы внимание на претензии Волошинова к фрейдистскому проекту в 1927 году. Фрейдистский субъект не изолированное, биологически обособленное эго, пораженное умирающим классом и не ищущее от своей ущербной жизни ничего, кроме эротического удовольствия или смерти. Напротив, самоанализ этого субъекта обогатился целым набором возможных моделей: аристотелевским катарсисом; толстовской эстетической теорией заражения; дионисийским культом скифства символистской эпохи; философским монизмом; но прежде всего активистским материалистическим стремлением художника претворить дела в слова, с тем чтобы затем (на противоположном полюсе терапевтической интерпретации творчества) превратить слова в социальный акт.
Подобная двусторонняя операция соответствовала духу этого амбициозного и новаторского десятилетия, хотя доминанты, управлявшие различными направлениями, отличались радикально. Авторы статьи «Наука как прием» в ходе рассмотрения темы «1920-е как интеллектуальный ресурс» заметили, что «ориентация эпохи» так или иначе была «на рациональный контроль над стихийными и естественными силами» [Дмитриев, Левченко 2001: 230]. Принципиально важно, однако, что этот контроль осуществлялся над новым, революционным искусством. Это было уже не абсолютное, совершенное и воскрешенное целое, восходящее к классической модели, но произведение (хотя и автономное), которое рассматривалось во всем многообразии отношений. С воцарением сталинизма, однако, надежд на динамичный «неклассический подход в гуманитарном знании» [Дмитриев, Левченко 2001: 231] не осталось.
* * *
Настоящая глава была посвящена анализу той внутренней борьбы, что определила развитие исследований литературы в Советском Союзе в 1920-х годах. В заключение взглянем на ситуацию в более широкой перспективе. В своем эссе «Почему современная литературная теория произошла из Центральной и Восточной Европы? (И почему она сейчас мертва?)» Галин Тиханов высказал мысль о том, что русский формализм служил тем основанием, на котором зиждились амбиции литературной науки вплоть до 1970-х – «эмансипироваться от большого философского дискурса» [Tihanov 2004: 62]. Однако после кибернетической революции семидесятых по известным нам причинам философия и идеология вернулись, в результате чего занятия литературой «потеряли остроту специфичности и уникальности, а границы между литературными и нелитературными текстами, свято охраняемые со времен формалистов, оказались прозрачными и в конце концов потеряли свою значимость» [Tihanov 2004:62]. Тиханов задается вопросом о том, почему призыв к специфичности прозвучал с такой силой и был столь эффективным именно во время Первой мировой войны в Восточной Европе, и предлагает несколько вариантов ответа. Знакомый мир разваливался. Монолитный философский дискурс распадался. Носители культуры (те, что остались) были многоязыкими эмигрантами-космополитами, говорили все с тяжелым акцентом (Якобсон – лишь самый яркий пример), и для них отклонения от родной нормы совершенно естественны. Велика была потребность в каком-то универсальном переводчике, общем теоретическом знаменателе, трансцендентном и связывающем всю эту поверхность полиглоссии. Литературность, Диалектический материализм, Сознание, Диалог, Бессознательное – каждый имел своих поклонников. Только в 1930-х годах все эти опции упорядочения отступили перед лицом обесценивающего, всеподчиняющего и куда более произвольного организующего принципа – Власти.
2011
Источники
Бахтин 1929 – Бахтин М. Проблемы творчества Достоевского. Л.: Прибой, 1929.
Бахтин 1975 – Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.
Бахтин 1979 – Бахтин М. М. К переработке книги о Достоевском //Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 308–327.
Волошинов 1993 – Волошинов В. Н. Фрейдизм. М.: Лабиринт, 1993. (Бахтин под маской.)
Воронский 1987 – Воронский А. К. Искусство видеть мир: Статьи, портреты. М.: Советский писатель, 1987.
Ермаков 1999 – Ермаков И. Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М.: Новое литературное обозрение, 1999.
Зощенко 2008 – Зощенко М. Перед восходом солнца // Зощенко М. Собр. соч.: В 7 т. / Сост., примеч. И. Н. Сухих. Т. 7. М.: Время, 2008.
Марксизм 2001 – Материалы диспута «Марксизм и формальный метод» / Публ. Д. Устинова // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 247–278.
Медведев 1993 – Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. М.: Лабиринт, 1993.
Переверзев 1926 – Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя. 2-е изд. Иваново-Вознесенск: Основа, 1926.
Переверзев 1928 – Переверзев В. Ф. Необходимые предпосылки марксистского литературоведения // Литературоведение: Сб. ст. / Под ред. В. Переверзева. М.: ГАХН, 1928. С. 9–17.
Пумпянский 2000 – Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы / Под ред. А. П. Чудакова. М.: Языки русской культуры, 2000.
Троцкий 1991 – Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991.
Тынянов 1977 – Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь: К теории пародии // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
Шкловский 1983 – Шкловский В. Искусство как прием // Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983.
Шкловский 2006 – Шкловский В. Несколько слов о книгах ОПОЯЗа //Вопросы литературы. 2006. № 6. С. 315–327.
Эйхенбаум 1922 – Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пб.; Берлин: Изд-во Гржебина, 1922.
Эйхенбаум 1986 – Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя //Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии: Сб. ст. Л.: Художественная литература, 1986. С. 45–63.
Якобсон 1983 – Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии / Пер. А. Н. Журинского // Семиотика: Сб. / Сост., вступ. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983. С. 462–482.
Якобсон 1996 – Якобсон Р. Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996.
Tomashevsky 1928 – Tomashevsky В. La nouvelle ecole d’histoire litte-raire en Russie // Revue des etudes slaves. 1928. № 8. P. 226–240.
Литература
Бочаров 1993 – Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него //Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 70–89.
Дмитриев, Левченко 2001 – Дмитриев А., Левченко Я. Наука как прием: Еще раз о методологическом наследии русского формализма //Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 195–246.
Добренко 1999 – Добренко Е. Формовка советского писателя: Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999.
Ленерт 2000 – Ленерт X. Судьба социологического направления в советской науке о литературе и становление соцреалистического канона: «Переверзевщина» / «Вульгарный социологизм» // Соцреалистический канон: С6. ст. / Под общ. ред. X. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 321–327.
Магуайр 2004 – Магуайр Р. Красная новь: Советская литература 1920-х гг. СПб.: Академический проект, 2004.
Парамонов 1995 – Парамонов Б. Формализм: Метод или мировоззрение? // Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 42–45.
Эрлих 1996 – Эрлих В. Русский формализм: История и теория. СПб.: Академический проект, 1996.
Эткинд 1993 – Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993.
Any 1994 – Any С. Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian Formalist. Stanford: Stanford University Press, 1994.
Bakhtin Circle 2004 – The Bakhtin Circle: In the Master’s Absence I Ed. by C. Brandist, D. Shepherd, G. Tihanov. Manchester: Manchester University Press, 2004.
Brandist 2002 – Brandist C. The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture and Politics. London: Pluto Press, 2002.
Chamberlain 2004 – Chamberlain L. Motherland: A Philosophical History of Russia. London: Atlantic Books, 2004.
Emerson 1997 – Emerson C. The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton: Princeton University Press, 1997.
Emerson 2005 – Emerson C. Mikhail Bakhtin and the Dialogic Word in Literary Art: What Sort of Fiction is This? // Graduate Faculty Philosophy Journal (New School for Social Research). Special Issue on Philosophy of Dialogue. 2005. Vol. 26. № 1.
Ermolaev 1977 – Ermolaev H. Soviet Literary Theories 1917–1934: The Genesis of Socialist Realism. New York: Octagon Books, 1977.
Hirschkop 2001 – Hirschkop K. Bakhtins Linguistic Turn // Dialogism. 2001. № 5–6. R 21–34.
Miller 1985 – Miller M. A. Freudian Theory Under Bolshevik Rule: The Theoretical Controversy During the 1920s // Slavic Review. 1985. Vol. 44. № 4. P. 625–646.
Nikolaev 2004 – Nikolaev N. Lev Pumpianskii and the Nevel School of philosophy // The Bakhtin Circle: In the Masters Absence / Ed. By C. Bran-dist, D. Shepherd, G. Tihanov. Manchester: Manchester University Press, 2004. P. 125–149.
Petrov 2006 – Petrov P. Laying Bare: The Fate of Authorship in Early Soviet Culture: PhD dissertation. University of Pittsburgh, 2006. Part I. Ch. 1.
Shepherd 2004 – Shepherd D. Re-introducing the Bakhtin Circle // The Bakhtin Circle: In the Masters Absence I Ed. by C. Brandist, D. Shepherd, G. Tihanov. Manchester: Manchester University Press, 2004. P. 1–2.
Steiner 1984 – Steiner P. Russian Formalism: A Metapoetics. Ithaca: Cornell University Press, 1984.
Tihanov 2004 – Tihanov G. Why did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern Europe? (And Why Is It Now Dead?) // Common Knowledge. 2004. Vol. 10. № 1. P. 61–81.









































