Текст книги "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре"
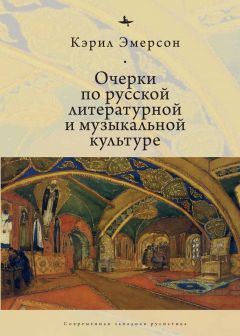
Автор книги: Кэрил Эмерсон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
5. «Борис Годунов»: трагедия, комедия, карнавал и история на сцене[101]101
Впервые: Tragedy, Comedy, Carnival, and History on Stage // The Uncensored Boris Godunov: The Case for Pushkin’s Original “Comedy” I Ed. by C. Dunning. Madison: University of Wisconsin Press, 2006. P. 157–191. Публикуется в сокращении. Ссылки на тексты Пушкина даются с указанием номера тома и страницы по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
[Закрыть](фрагменты статьи)
Тема «Бориса Годунова» в этой книге охватывает тридцать лет, переплетаясь с другими научными интересами. В статье, представленной здесь в сокращенном варианте, анализируется бахтинская идея карнавала применительно к исторической драме Пушкина, которая в соответствии с авторским определением (в первоначальной редакции 1825 года) рассматривается как комедия.
В обычном смысле слова, комедия не имеет смысла. Смысл – это то, с чем комедия играет.
[Williams 1993: 55]
<…> Одно из различий, которые древние делали между высокими эпико-трагическими жанрами и низкими комическими, заключалось в том, что эпос и трагедия должны были нести ответственность: за основание города, за торжество справедливости, за установление истины в достаточной мере, чтобы определить причины события и виновных. Характерным свойством комедии является то, что ее персонажи не отягощены таким бременем. Комические герои во всех жанрах (Фальстаф, Санчо Панса, констебль Локоть, бравый солдат Швейк) имеют право быть несостоятельными как исторические деятели, равнодушными к судьбе, приверженными простым удовольствиям, циничными по отношению к действиям правосудия. Возможно ли в таком случае, чтобы драма, претендующая на добросовестное изображение исторических событий, сочетала в себе трагический и комический миры так, чтобы это сочетание внушало доверие? Для Пушкина комическое имело задачи более серьезные, чем злободневная сатира, то есть унижение напыщенной публичной фигуры или претенциозной идеологии. Не были комические элементы и просто временным отвлечением от трагической развязки – так называемой комической разрядкой, драматическим приемом, который мастерски использовал Шекспир в своих трагедиях и «проблемных» комедиях («Гамлет», «Макбет», «Король Лир», «Мера за меру»), а также в восхитительных комико-эротических сценах в хрониках и исторических драмах. Пушкин ценил такую разрядку, как и важнейшее для ее достижения словесное остроумие, создавая в этом духе целые сцены. Однако в целом комическое поведение в произведениях Пушкина не выполняет функции терапевтического средства ни для действующих лиц, ни для публики. Комическое поведение становится действующей силой истории.
Идея была радикальной. Театральная сцена XIX века почти не знала «исторически значимых» комических эпизодов. Красноречивым подтверждением этому может послужить история создания оперы «Борис Годунов», написанной примерно через три десятилетия после смерти Пушкина. В июле 1870 года, в промежутке между созданием двух редакций «Бориса», Мусоргский играл часть только что сочиненных им «сцен с крестьянами» на музыкальном собрании на даче Владимира Стасова в Парголово. Из рассказа Мусоргского неясно, какие именно сцены он исполнил, но, скорее всего, среди них был вступительный общий хор во дворе Новодевичьего монастыря. Поразительно «шекспировская» хоровая драматургия оперы, безусловно, была очевидна: стилизованная хоровая песня или хоровой плач, пронизанный циничными, индивидуализированными голосами в самоироничном контрапункте. Это должно было производить комический эффект. Однако в то же время эти крестьяне выносили непочтительные суждения о властях предержащих в государстве Московском, как это происходит в соответствующей сцене у Пушкина. Подобные суждения были потенциальной исторической силой. В тот же вечер Мусоргский поделился с Николаем Римским-Корсаковым своей озабоченностью тем, как были восприняты эти сцены. «Дважды находился в Парголове, и вчера производил свои шалости при многочисленной аудитории, – писал он. – По поводу мужиков в “Борисе” одни нашли, что это буф (!), другие же увидели трагизм»[102]102
Письмо от 23 июля 1870 года [Мусоргский 1971: 117].
[Закрыть]. Важное значение имеет восклицательный знак. Простолюдины, столпившиеся на площади, могли иметь двоякий смысл: они либо воплощали традиционный торжественный хор (торжественный, но не имеющий исторического значения), либо символизировали решенную судьбу народа и государства как носители оставшейся в далеком прошлом мудрости греческого трагического хора. Невозможно было не указать, что именно имелось в виду. Мусоргский прекрасно осознавал, что дал повод к противоречивым интерпретациям и что только трагедия несет в себе груз исторического смысла. Серьезное смешение трагедии и комедии в исторической драме, как и в музыкальной исторической драме – преследующее цели более глубокие, чем комическая разрядка или сатира, – могло лишь привести к двусмысленности относительно судьбы нации и способности ее героев определить эту судьбу.
Кроме смешения жанров, возникали и более насущные проблемы. На протяжении всего XIX столетия трагедия и комедия имели свои собственные сферы интересов, свои собственные языковые регистры и стилистические нормы. Внутренняя архитектура императорских театров в период русского романтизма не способствовала гибкому сочетанию этих двух модусов. Если древняя трагедия создавалась для арены, театра, в котором зрители размещались вокруг сцены, а классицистическая трагедия – объект особого раздражения Пушкина – для плоской, вытянутой от авансцены коробки, то «Борис Годунов» точно задумывался в духе елизаветинского театра с его выдвинутой в зрительный зал авансценой, с несколькими уровнями, которые смело выдаются в пространство зрительного зала и позволяют показать накладывающиеся друг на друга массовые и камерные сцены. Как нам известно из резкого комментария Пушкина, в 1826 году он не находил, что построенные в стиле классицизма императорские театры отвечают потребностям постановки такого драматического спектакля, как «Борис»[103]103
См. его набросок статьи о «Борисе Годунове», написанный в 1828 году (предназначавшийся редактору «Московского вестника», но так и не отосланный): «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе Отца нашего – Шекспира…» [Пушкин 11:66]. Далее Пушкин с вызовом перечисляет все свои отступления от классицистических единств и формул.
[Закрыть]. Возможно, ему мог воздать должное общедоступный театр, однако «Борис» не был ни водевилем, ни опереттой, ни фарсом. Это была серьезная комедия, но в быстром темпе, с одновременными выходами и входами, радикальным переключением внимания аудитории и плавным перетеканием одной сцены в другую – всеми отличительными чертами Пушкина-драматурга. Ибо комедия – не только жанр. Это поле действий, темп, свежий взгляд на происходящие события и отклик на них, который по природе своей враждебен помпезности и героическому эгоцентризму, чертам, которые ассоциируются со старостью. Обычно комический дух поднимает на смех любую медлительность в действиях или речи. Пушкин с ранней юности чувствовал себя в этом мире как дома. Для него комедия выходила за рамки жанра и эпохи. Не переставая критиковать классицистическую трагедию, на протяжении всей своей жизни Пушкин с большим энтузиазмом относился к классицистической стихотворной комедии. К числу его наиболее ранних лицейских опытов в области драматургии относится пятиактная комедия[104]104
А. Д. Илличевский – П. Н. Фуссу, 16 января 1816 года: «Кстати о Пушкине: он пишет теперь комедию в пяти действиях, в стихах, под названием “Философ”. План довольно удачен и начало, т. е. первое действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее; стихи – и говорить нечего, а острых слов – сколько хочешь! <…> Дай только Бог ему терпения и постоянства, что редко бывает в молодых писателях…» [Вересаев 1936: 81].
[Закрыть].
В последнее время ведущие умы в области литературной критики (например, Андрей Синявский в «Прогулках с Пушкиным») находили в комедийной легкости, стремительности и отсутствии единого центра в пушкинских текстах образец всех тех ценностей, которыми наиболее дорожил поэт: случай, благодарность, щедрость, суеверие и радостная покорность судьбе[105]105
«Расчетливый у Пушкина – деспот, мятежник, Алеко. Узурпатор Борис Годунов. Карманник Германн. Расчетливый, всё рассчитав, спотыкается и падает, ничего не понимая, потому что всегда недоволен (дуется на судьбу). В десятках вариаций повествует Пушкин о том, как у супротивника рока обламываются рога <…>»; «В пушкинских созвучиях есть что-то провиденциальное: разбежавшаяся без оглядки в разные стороны речь с удивлением вдруг замечает, что находится в кольце, под замком – по соглашению судьбы и свободы» [Синявский 1989: 39–40, 41].
[Закрыть]. Действительно, комическое до такой степени распространено у Пушкина, что трудно составить исчерпывающий перечень использованных им приемов. Л. И. Вольперт начинает свою статью 1979 года о Пушкине и французской комедии XVIII века с такой оговорки: «Уяснение значения и места комедийного жанра в творческой эволюции Пушкина – важная и все еще не решенная в нашем литературоведении проблема. Недостаточная изученность этой проблемы может быть объяснима парадоксальным, на первый взгляд, положением: ни одной законченной комедии Пушкин не написал, но все его творчество проникнуто яркой комедийностью» [Вольперт 1979: 168].
И все-таки в 1825 году Пушкин завершил одно крупное произведение, которое он назвал комедией. Однако в литературоведении принято работать с более поздним каноническим текстом, анализируя его под другим ярлыком как «романтическую» (то есть не классицистическую) трагедию. Сам Пушкин чаще всего защищал свою драму аргументацией от обратного, с точки зрения того, чем она не является, подчеркивая оригинальность и радостное возбуждение, возникшие благодаря нарушению классических единств. Для него подлинный романтизм всегда заключал в себе элемент неожиданности, обычно достигавшийся за счет сопоставления различных точек зрения под неожиданными углами. Трагедия, подвергшаяся «романтическому» импульсу, должна была узаконить более свободный сюжет, более свободную форму (как в трагедиях Шекспира), где уделяется больше внимания естественному диалогу и индивидуализированной психологии. Для тех относительно малочисленных исследователей, которые серьезно подошли к эволюции гибридного жанра этой пьесы, трагедия привычно завершается определяющей и определенной ситуацией. Однако некоторые остановились на этой проблеме подробнее. В качестве свежего примера можно привести монографию Дагласа Клэйтона «Тень Димитрия: Опыт прочтения пушкинского “Бориса Годунова”» (2004).
Клэйтон отмечает, что чувство комического у Пушкина такое же, как и в трех знаковых пьесах, которые определяли жанр при его жизни: «Липецких водах» Шаховского, «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизоре» Гоголя [Клэйтон 2007: 47][106]106
В главе 2 («Борис Годунов и театр») монографии Клэйтона дается великолепный анализ интереса Пушкина к современным ему французским спорам относительно достоинств классицистической и романтической драмы (толчком для дискуссии послужили работы Августа фон Шлегеля на эту тему), которые стали контекстом для многих отвергнутых Пушкиным предисловий к «Борису» в духе «театральных» или «драматических манифестов», полемического жанра, вдохновленного Виктором Гюго [Клэйтон 2007: 51–56]. Более спорным, однако, представляется общий тезис монографии Клэйтона о том, что к 1825 году общественные взгляды и религиозные убеждения Пушкина уже были консервативными и что эта идеология нашла свое выражение в драме.
[Закрыть]. Во всех трех (как и в более поздних великих комедиях Тургенева и Чехова) подрывается западная модель комедии. Любовные треугольники кривы и непредсказуемы, сценическое действие не завершается свадьбой молодой четы, старость не обязательно высмеивается по сравнению с молодой жизнью, а место традиционного эротического завершения может занимать немая сцена (или момент общего потрясения). «Русские комедии – серьезные, “черные”, но именно благодаря этой своей жанровой новизне они занимают уникальное место в мировой традиции», – утверждает Клэйтон [Клэйтон 2007: 47]. Он указывает на «явный сдвиг <…> в собственном восприятии Пушкиным своего творения – от момента его написания в Михайловском до момента получения окончательного разрешения на его публикацию», усматривая во все более частых авторских упоминаниях этого произведения как трагедии сближение с «шекспировской традицией» [Клэйтон 2007: 64–65]. Изменения в тексте включали избавление от вопиющих архаизмов, сокращение по-средневековому громоздкого названия «Драматическая повесть, Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» (у Шекспира подобные заглавия служат маркером комической ситуации) до имени главного героя, как это было в шекспировских трагедиях и исторических драмах, и переработку всего текста в нерифмованные пятистопные ямбы – или упразднение тех сцен, которые не соответствовали этому размеру [Клэйтон 2007: 65]. Тем не менее многие важнейшие сцены в пьесе Пушкина остаются столь же расиновскими, сколь и шекспировскими. Клэйтон приходит к заключению, что в целом канонический «Борис» – произведение трагическое, а не комическое, хотя как трагедия оно подверглось значительному воздействию романтизма и Шекспира.
Существует и третье, наименее распространенное жанровое определение для драмы, в которой комическое и в самом деле воспринимается очень серьезно. Оно вошло в пушкинистику XX столетия на заре захлестнувшего весь мир интереса литературоведов к Бахтину и карнавалу. Одним из побочных эффектов карнавального бума стало смещение центра внимания в сторону исходной версии драмы Пушкина. Может ли это новое видение конкурировать с романтическим и трагическим в раскрытии богатства пушкинской «Комедии»?
«Борис Годунов» как карнавал: pro et contra
Сергей Фомичев рассматривает как сильные, так и слабые стороны тезиса о карнавале [Fomichev 2006]. По его мнению, действие «Комедии» 1825 года происходит в «смеховом мире», царстве карнавала. Для сторонника карнавальной теории та энергия, которую Синявский чувствовал в личности Пушкина, – его легкость, яркость, скорость, невесомая эфирность поэзии, противопоставленные педантизму и жалости к себе, – проявляется в определенных установках самой русской средневековой культуры. В своем прочтении Фомичев опирается на гипотезы выдающихся ученых-медиевистов и фольклористов Дмитрия Лихачева и Александра Панченко, высказанные в книге «Смеховой мир Древней Руси» (1976) [Лихачев, Панченко 1976] и ее расширенном варианте «Смех в Древней Руси» (1984), созданном при участии Натальи Понырко [ЛЛП 1984]. Вдохновленная предложенной Бахтиным блестящей интерпретацией французской площадной культуры в романах Франсуа Рабле, эта замечательная группа исследователей искала – и обнаружила – в равной мере зрелые, прогрессивные культурные формы в русском позднем Средневековье. Центральное место среди них принадлежит дерзкому скомороху – бродячему певцу, гонимому православной церковью за неуместное веселье и непристойные песни; юродивому – блаженному дурачку, чьи публичные выходки анализируются здесь не столько как проявление личного смирения, сколько как провокационный публичный спектакль (со смелым политическим подтекстом); и лубку – комической ксилографии, столь выразительно запечатлевшей тревоги и стойкость простонародья перед лицом катастрофических социальных перемен. Проводится тонкий анализ амбивалентного – или черного – юмора таких крупных личностей допетровской эпохи, как Иван Грозный и протопоп Аввакум. Эти две монографии стали научной сенсацией. Казалось, карнавал занял свое место.
Однако вскоре выяснилось, что концепция Лихачева и Панченко, несмотря на лежащий в ее основе бахтинский импульс, имела мало общего с утопической смесью западного быта и славянского фольклора, составляющей карнавальное исследование о Рабле у Бахтина. Раблезианский «смеховой мир» – выраженно персоналистичный. Органичный, бесстрашный, одобрительно воспринимающий асимметричное и гротескное тело, этот мир наделен Бахтиным инкарнационными, евхаристическими качествами. Модель Лихачева – Панченко, напротив, демонстрирует гораздо больше структурных ограничений – и гораздо меньше возможностей для прозрения или неожиданного духовного просветления. (В целом в позднесоветскую эпоху официальные сторонники концепции средневекового «смехового мира» демонстрируют свое материалистическое воспитание, приглушая религиозную составляющую предмета исследования, его искупительную и экстатическую стороны, и формируя образ, который был бы неприемлем и для Пушкина, и для Бахтина – и немыслим для Рабле.) Концепция Лихачева – Панченко носит надличностный характер и в семиотическом духе построена на эффектной бинарной оппозиции. Она представляет средневековое русское мировоззрение как строго дуалистическое.
«Вселенная делится на мир настоящий, организованный, мир культуры – и мир не настоящий, не организованный, отрицательный, мир “антикультуры”, – пишет Лихачев в первой главе книги. – В первом мире господствует благополучие и упорядоченность знаковой системы, во втором – нищета, голод, пьянство и полная спутанность всех значений» [ЛЛП 1984: 13]. Обитатели второго мира не занимают в нем стабильного положения. Это им не дано, поскольку этот второй мир – именуемый по-разному: «антимир», «небыль», «мир кромешный» или «изнаночный мир» – сам по себе не является реальным; это выдумка, семиотическая инверсия. Его главная задача – напоминать людям о том, что ему противоположно: «кабак заменяет им церковь, тюремный двор – монастырь, пьянство – аскетические подвиги и т. д. Все знаки отличают нечто противоположное тому, что они означают в “нормальном” мире» [ЛЛП 1984: 13]. Как и в праздничной комедии Шекспира, факт удвоения или зеркального отражения (идея антимира) сам по себе воспринимается как комическое.
Эта биполярная модель мира, аккуратно (если не сказать – слишком схематично) разделяющая средневековую русскую культуру на сакральное и демоническое, представляет собой любопытную смесь свободы и несвободы, оптимизма и отчаяния. Зло в ней не имманентное и постоянное, но преходящее. Из средневековых текстов слышится смех умный, раскрепощающий, здоровый, несущий силу. «Смех направлен не на других, – утверждает Лихачев, повторяя глубоко бахтинское положение о карнавале, – а на себя и на ситуацию, создающуюся внутри самого произведения» [ЛЯП 1984: 11]. В книге 1984 года повсюду подчеркивается бунтарский и очистительный потенциал смеховых форм. В главе Лихачева «Смех как “мировоззрение”» делается акцент на «бунте кромешного мира», тогда как глава Панченко «Смех как зрелище» завершается разделом «Юродство как общественный протест».
Поскольку подрыв и дестабилизация системы ценностей столь же незаменимы для постмодернистской риторики, сколь они были для господствующей коммунистической доктрины, парадигма Лихачева – Панченко завоевала популярность и на Востоке, и на Западе. Из русской классики особенно привлекательным оказался «Борис Годунов» Пушкина. Панченко с признательностью цитирует замечание Пушкина о том, что «драма родилась на площади» [ЛЛП 1984: 84]. Обращается внимание на запоминающиеся средневековые образы в драме: юродивого, поэта-скомороха и честолюбивого злого чернеца (две последние фигуры встречаются только в оригинале 1825 года). Все – бунтовщики. О Николке Железном Колпаке читаем: «У Пушкина обижаемый детьми юродивый – смелый и безнаказанный обличитель детоубийцы Бориса Годунова. Если народ в драме Пушкина безмолвствует, то за него говорит юродивый – и говорит бесстрашно» [ЛЛП 1984: 116]. Карнавальный протест и карнавальная смелость универсальны, но каждая культура воплощает эту энергию по-своему. Таким образом, социальнопрогрессивное прочтение пушкинского «народ безмолвствует» Белинским как знака не только возмездия, но и политического оптимизма по прошествии 150 лет было подхвачено советскими медиевистами в рамках очередной попытки вписать русскую национальную историю в европейский контекст.
Картина смеющегося, охваченного карнавальным духом русского Средневековья, созданная Лихачевым и Панченко, была признана не всеми. Она встретила наибольшее сопротивление со стороны Юрия Лотмана и семиотиков тартуской школы, что могло бы показаться весьма неожиданным. Неожиданным потому, что многое в модели Лихачева должно было показаться лотмановской группе теоретиков-новаторов абсолютно верным: двойственная природа русской традиционной культуры и семиотическая устойчивость ее миров. Сомнения, возникшие у тартуских ученых, касались природы средневекового смеха и благодушной, преходящей «нереальности» кромешного мира. В важной рецензии, опубликованной в «Вопросах литературы» (1977), Лотман и его коллега Борис Успенский уважительно изложили свои возражения по поводу результатов группы Лихачева [Лотман, Успенский 1977]. Их смущало то обстоятельство, что доказательства в своей совокупности были взяты из литературы, тогда как речь шла о культуре, где письменные свидетельства были скудны и искажены запретами. Они настаивали на том, что прославление Бахтиным амбивалентного, открытого, совместного смеха у Рабле – смеха, который побеждал страх и приостанавливал вынесение человеческих суждений, создавая своего рода «чистилище» между двумя вечными абсолютами, – не подлежало распространению на средневековую русскую культуру, которая (как предполагала сама модель, построенная Лихачевым и Панченко) четко разделялась на сакральное и демоническое. Площадь была в такой же мере местом для пыток и казней, как и местом для веселья (о чем свидетельствует ряд сцен из пушкинского «Бориса Годунова»). На площади смех не воспринимался как раскрепощающий; он был богохульством, наущением сатаны. Поэтому нельзя сказать, что для средневекового русского человека смеяться больше означало бояться меньше. Подобное совмещение установок могло случиться только в конце XVII века, под влиянием западных текстов и моделей поведения. В традиционном сознании человека Древней Руси поведение юродивых не было ни чудесным (конвенциональными отношениями, надежными и удобными), ни комическим или связанным с ростками демократии; оно было странным, зеркальным, предназначенным для того, чтобы вызывать у публики страх или благоговейный трепет. В предостерегающей сноске Лотман и Успенский говорят об опасности неоправданного или механического распространения идей Бахтина «на области, где само их применение должно бы было явиться предметом специального исследования» [Лотман, Успенский 1977: 152, примеч. 2].
Литературоведение привычно наследует пену прилива и то, что остается на берегу после теорий, использующих профессиональный язык более строго контролируемых дисциплин. Спор о карнавале не стал исключением. Спустя много времени после того, как социологи прониклись подозрением к этой теории, а историки указали на ее расхождение с документально зафиксированным опытом, карнавальная парадигма Бахтина как интерпретационный инструмент сохраняла свою популярность среди гуманитариев-литературоведов. Поскольку на последних страницах книги о Рабле Бахтин процитировал сцену из «Бориса Годунова», поддержать карнавальные трактовки образов всех этих шутов-монахов, юродивых и толп на площадях было несложно. Однако любая попытка подвести все компоненты пьесы под эту рубрику сталкивается с серьезными препятствиями.
Образцом такого столкновения является статья Фомичева о «Комедии» Пушкина, написанная в середине 1990-х годов и вошедшая в его книгу «Праздник жизни. Этюды о Пушкине» (1995). В ней десятилетия неопределенности относительно соотношения трагического и комического в драме Пушкина в конце концов оказались сведены к уклончивому среднему значению [Фомичев 1995]. Освободившись от идеологических формул коммунистической эпохи, Фомичев делает множество тонких наблюдений. Он отмечает буйное обилие персонажей и разнообразие литературных форм в версии 1825 года (избыток действующих лиц, пренебрежение завершенностью драматических эпизодов, преобладание прозы в комических вставках и выбивающийся из общего ряда метрический рисунок сцены со «Злым чернецом»). Фомичев сопротивляется какой бы то ни было «героической» интерпретации народа в духе Белинского, указывая все те места, где толпа, не важно, сгрудившаяся на сцене или просто возникшая в воображении ее вожаков, показана как распущенная, неблагодарная и непоследовательная в своих политических оценках [Фомичев 1995: 96–97]. Цитируя Лихачева по поводу «смеховой культуры», Фомичев отмечает сложности, которые испытывали режиссеры-постановщики, пытавшиеся возложить на эти толпы нечто вроде ведущей роли в истории; народный смех «как бы возвращает миру его изначальную хаотичность» [Фомичев 1995: 97]. Смех, утверждает Фомичев, это смеховой фон всей пьесы. Это здоровый смех в бахтинском понимании: умеренный, не направленный ни на кого конкретно, безразличный к власти. Хотя люди насмехаются над властью, они достаточно разумны, чтобы не желать ее для себя. «Вот этот “хаос”, смуту, инстинктивное сопротивление системе и воплощает в себе народ в пушкинской драме, – пишет Фомичев. – В том же случае, когда он вынужден подчиняться этой системе, он обращает свой смех на себя» [Фомичев 1995: 98]. В этот анархичный и жизнерадостно-самоуничижительный контекст Фомичев вписывает две соперничающие политические фигуры, Бориса и Дмитрия. Царь Борис – «истинно трагический, сильный, волевой, посягнувший на высшую власть, но нарушивший нравственный закон… представлен одолеваемым муками совести, трагической вины»; судьба подвергает его очистительному катарсису [Фомичев 1995: 100–101]. С другой стороны, Дмитрий служит комическому принципу. Как эманация или призрак с того света, он не имеет трагической задачи. Карнавальный народ – который тоже не имеет задачи – интуитивно предрасположен к выбору этого карнавального короля, представляющего собой «исторический фантом».
В такой оптике политические отношения между царем, народом и претендентом на престол оказываются в первую очередь символическими. Фомичев отдает дань личности царя Бориса, но в основном рассматривает его как пример трагической ошибки и антигероя. Когда он касается проблемы реальной истории и реальных исторических отношений в драме, он видит в них мощные, но эфемерные метафоры, местный колорит в более масштабной «комической инструментовке» [Фомичев 1995: 95]. Вслед за большинством предшествующих исследований драмы Фомичев уделяет истории меньше внимания, чем Пушкин. «“Да здравствует царь Димитрий Иванович!” – пишет Фомичев. – Мог ли Пушкин трактовать такую сцену всерьез? Конечно, нет» [Фомичев 1995: 95]. Поскольку задача данного исследования заключается в доказательстве целостности оригинальной версии, а также состоятельности Пушкина как историка и точности его изображения исторических событий, такие упущения требуют тщательного рассмотрения. Не слишком ли сильно карнавальная мистика сказалась на обеих интерпретациях, предложенных Фомичевым в 1995 и затем в 2006 году [Fomichev 2006]? Или, если ставить вопрос более широко: возможно, карнавал – не лучший способ понять смысл комедийного элемента в этой пьесе?
Складывается впечатление, что карнавальные прочтения «Бориса Годунова» не могут дать полного впечатления о целом по крайней мере в трех областях. Во-первых, поэтика литературного карнавала, вдохновленная бахтинским прочтением Рабле, не обладает сложной, хорошо разработанной моделью языка. Общение во время карнавала, которое, конечно же, может быть радостным и интенсивным, происходит не столько посредством слов, сколько посредством жестов, большинство которых связано с «телесным низом» и касается не только таких отверстий, как глаза и рот. Высказывания, если они есть, как правило, представляют собой короткие ругательства, всегда исключительно выразительные и по преимуществу непристойные. Это, бесспорно, диалог, но не сложный вербальный диалог, который заслуживает анализа в произведении великого поэта. По этой причине карнавальные интерпретации «Бориса Годунова» имеют тенденцию основываться на его более широком понимании, на грубых энергичных движениях, прикрытых словесным покровом: умеренно шокирующим эпитетом, комической песенкой, точно рассчитанным оскорблением. Некоторые критики (следуя методологии исследования Бахтина о Рабле) полностью игнорируют стилистические нюансы текста. Но, безусловно, наиболее откровенно комические сцены в «Борисе Годунове», как и в пьесах Шекспира, представляют собой красочное сочетание физической жизненной силы и словесного остроумия: три языка вперемешку в забавной сцене «Равнина близ Новгорода-Север-ского» с участием наемников, капитанов Маржерета и Розена, или, через сцену после нее, в сцене «Севск», где Пленник и Лях обмениваются оскорблениями, частично выраженными словами, частично – показыванием кулака. Такие комические выступления, подкрепленные энергичным физическим жестом, являются подлинно карнавальными, но лингвистически они могут существовать в пьесе только как отдельные моменты, а не как норма. Нормой является повествовательная поэзия и на уровне слова, и на уровне смысла. Как заметил в своей классической статье о языке Пушкина Григорий Винокур, выдающееся достижение «Бориса Годунова» как драмы для театра заключается в том, что «поэт в Пушкине постоянно побеждает стилизатора» [Винокур 1959: 314]; источники, написанные архаичным языком, преобразуются в «конкретно лирический язык» [Винокур 1959: 317], состоящий из реплик, которыми и в самом деле в вольном изложении стихотворных строк Пушкина, не выходя за пределы мировоззрения XVI века, могли в нормальном темпе обмениваться живые люди, слушающие друг друга. Подобная языковая организация полностью совместима с комедией. Однако она не является неотъемлемой частью карнавального мира; на самом деле она даже может стать препятствием для него.
Второй и связанный с первым недостаток карнавальной интерпретации заключается в том, что карнавальные персонажи не могут удовлетворительно справиться с чувством вины. Карнавал не отягощен бременем памяти, которая так важна для совести; тот факт, что для карнавала достаточно настоящего времени, является одним из главных источников его мощи и гибкости. Но что же в таком случае делать с царем Борисом? В исследованиях «Годунова» прослеживается авторитетная, подкрепленная множеством работ линия, согласно которой несчастный царь не был повинен в смерти Дмитрия Угличского – и некоторые современники Пушкина, в особенности историк Михаил Погодин, советовали поэту отказаться от «карамзинских» предположений по этому поводу. Если царь Борис и не приказывал убить Дмитрия и даже на самом деле не желал его смерти, то все равно он оказался в выигрыше от этого трагического события, и этот факт сам по себе должен был породить у него чувство вины. Сколько бы мы ни спорили о возможных вариантах развития исторических событий, невозможно просто так стереть «пятно», оставшееся на совести Бориса, и те муки, которые оно причиняет ему (в обоих вариантах драмы). Слишком много важных последствий вытекает из этой ситуации. Те критики, которые отождествляют вину царя с основополагающим принципом пьесы, с неизбежностью видят в этом сочинении полномасштабную трагедию, пусть и особого, духовного рода. Так, Ольга Аране интерпретирует «Бориса Годунова» как «христианскую трагедию», в которой Пушкин исследует поразительно новую идею, преступление, совершенное в помыслах, в качестве альтернативы классическому преступлению, совершенному в реальности [Аране 1984]. Такое преступление влечет за собой радикально новые способы установления истины и наказания. Подобные прочтения, в центре которых находится фигура Бориса, серьезно рассматривающие способность драмы рассказывать историю, не обращаясь к единому морализирующему голосу, также не раскрывают всей правды о Пушкине. Но такие интерпретации – неотъемлемая ее часть, и уроки, которые они преподносят, возвышенны, а не принижены в карнавальном духе.
Эти две оговорки готовят нас к самой серьезной проблеме, связанной с карнавалом как оптикой для интерпретации пушкинской драмы. Карнавал – и, более того, «карнавальный смех» – нельзя сделать исторически достоверным. Он слишком сильно напоминает игру, то есть человеческое поведение вне сферы необходимости и целесообразности, которое освобождает от ответственности за последствия поступков. В своей статье «Бахтин, смех, христианская культура» Сергей Аверинцев высказывает мысль о том, что смеховая утопия Бахтина – слабый авторитет для любого исторически обоснованного проекта [Аверинцев 1992]. Даже если признать, что средневековый народ был движим смехом (а здесь мы можем выбирать между открыто-оптимистической концепцией Лихачева – Панченко и демонически-пессимистической Лотмана – Успенского), Аверинцев напоминает нам, что в модели Бахтина смех трансцендентен, это «не смех как эмпирическая, конкретная, осязаемая данность, но гипостазированная и крайне идеализированная сущность смеха или, как выражается он сам, “правда смеха”…» [Аверинцев 1992: 12]. Аверинцев рассуждает как историк культуры, для которого формулировки Бахтина о смеховых культурах вознесены «на такие высоты абстрактно-всеобщего, что всякий переспрос, всякий вопрос о верификации сам собой становится невозможным» [Аверинцев 1992: 11]. Проблема, на которую указывает Аверинцев, в 1990-х годах начала вызывать активный интерес у добросовестных западных историков России начала Нового времени. Они были обеспокоены склонностью некоторых специалистов в сфере социальных наук, чьей областью исследований была Россия, воспринимать находки литературно-духовных мифографов как прямой исторический факт, обращаясь (как выразился один из их представителей) к «Братьям Карамазовым» за богословием и к структурализму и семиотике за удобной бинарной оппозицией[107]107
См. фундаментальное издание [Baron, Kollman 1997]. Деликатное предостережение относительно трудов семиотиков культуры, обобщенно названных «структуралистами», в качестве источников исторической мысли см. в [Frick 1997: 152–154].
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































