Текст книги "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре"
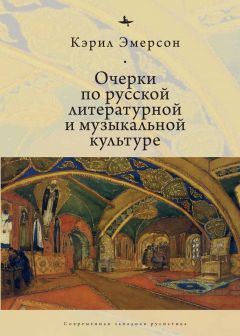
Автор книги: Кэрил Эмерсон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Часть II
Парадоксы осмысления русской классики
4. Татьяна[70]70
Впервые: Pushkin’s Tatiana // A Plot of Her Own. The Female Protagonist in Russian Literature / Ed. by S. S. Hoisington. Evanston: Northwestern University Press, 1995. P. 6–20.
[Закрыть]
[Татьяна], как известно, помимо незадачливой партнерши Онегина и хладнокровной жены генерала, являлась личной Музой Пушкина и исполнила эту роль лучше всех прочих женщин. Я даже думаю, что она для того и не связалась с Онегиным и соблюла верность нелюбимому мужу, чтобы у нее оставалось больше свободного времени перечитывать Пушкина и томиться по нем. Пушкин ее, так сказать, сохранял для себя.
А. Терц. Прогулки с Пушкиным
Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою.
Повествователь. «Евгений Онегин» (4, XXIV)
Героиня «Евгения Онегина» Пушкина носит самое знаменитое, обманчиво сложное женское имя во всей русской литературе. Ее образ, который в той или иной степени сочетает в себе подражательность, импульсивность, наивность, самоотречение, пассивность, потрясающее самообладание и необъяснимую верность, изобилует парадоксами. Начиная с повествователя, рассказывающего ее историю, и кончая многими сменяющимися поколениями критиков, почти каждый, кто прикасается к этому образу, влюбляется в него – или в его нереализованный потенциал. Можно было бы утверждать, что Татьяна и ее изящно «обойденная молчанием» личная судьба послужили единым могучим источником вдохновения при создании героинь русской литературы, в том числе и в течение значительной части XX столетия.
Мотивом для написания этой статьи послужило недоумение, которое вызывает у меня культ Татьяны. Что сделало эту комбинацию женских качеств – сентиментальную, уязвимую, упрямую, по большей части молчаливую – такой устойчивой и неотразимой? Силы и добродетели Татьяны значительно преувеличиваются как ее критиками, так и поклонниками. В одном из самых ранних портретов Татьяны Виссарион Белинский, покоренный этой героиней, но протестующий против судьбы, уготованной ей Пушкиным, сожалел о том, что она не смогла вырваться на свободу и зажить собственной жизнью[71]71
О восприятии Татьяны Белинским см. [Белинский 1955], в особенности статью девятую [Белинский 1955: 473–504].
[Закрыть]. Достоевский в своей Пушкинской речи 1880 года, впадая в другую крайность, возвысил ее судьбу до агиографического уровня, наделив Татьяну всеми мыслимыми естественными и сверхъестественными добродетелями и в конечном счете подняв ее супружескую верность до космического уровня вызова, брошенного Иваном Карамазовым несправедливому миру[72]72
В «Речи о Пушкине» (1880) Достоевский заявил: «Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина… <…> ей предназначил поэт высказать мысль поэмы…» [Достоевский 1984: 140].
[Закрыть]. Кроме того, меня беспокоит, что превознесение Татьяны обычно сопровождается принижением Евгения. Он становится «лишним» не только в пределах своей жизни и эпохи, но и в пределах романа, названного его именем; его честные и благородные поступки по отношению к некстати навязывающей ему себя деревенской барышне воспринимаются как проявления душевной черствости, легкомыслия, даже развращенности[73]73
Любопытно, что именно Белинский в восьмой статье о Пушкине (1844) защищает Онегина на фоне зарождающегося культа Татьяны. «Сердце имеет свои законы, – пишет Белинский. – <…> Поэтому Онегин имел полное право без всякого опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-девушки и полюбить Татьяну-женщину. В том и другом случае он поступил равно ни нравственно, ни безнравственно. <…> Онегин – характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность» [Белинский 1955:460–461,469].
[Закрыть]. (Достаточно вспомнить, что в 1879 году Чайковский, перерабатывая роман в оперу, внес замечательный нюанс, определив ее как «лирические сцены», которые, вероятно, следовало бы назвать «Татьяна» и которые сыграли ключевую роль в окончательном оформлении ее культа.) Конечно же, некоторые выдающиеся пушкинисты (в советский период – Гуковский, Бонди, Слонимский и Макогоненко) пытались реабилитировать Евгения. Однако эти шаги часто были связаны с внетекстовой, политически мотивированной гипотезой, сформировавшейся на основе намеков, которые содержатся во фрагментах десятой главы: поскольку Евгений «превращался в декабриста», он заслуживал поддержки Татьяны и читательской симпатии[74]74
Исследование слабых и сильных сторон образа Татьяны, сложившегося в критике к началу 1970-х годов, см. в [Kelley 1976: часть 1].
[Закрыть].
Более серьезное значение, чем указанные факты рецепции или транспонирования, возможно, имеет неровный образ Татьяны, складывающийся в самом тексте. Есть несколько очевидных камней преткновения: например, Татьяна создается из элементов, заимствованных у писателей-сентименталистов, но при этом, на основании того, что ей приснился ночной кошмар, в котором содержались элементы фольклора, а также ее любви к зиме она представляется «русской душою»; или то, что моменты наиболее глубокого преображения Татьяны скрыты от нас словоохотливым и ревнивым повествователем. Однако есть и еще более радикальные несоответствия. Самым вопиющим из них является высокомерный, назидательный, благочестивопоказной тон, которым Татьяна напоследок отчитывает Онегина в восьмой главе: ниже я высказываю предположение, что Татьяна никоим образом не могла прочесть Онегину лекцию в той форме, в которой излагает ее Пушкин[75]75
Среди критиков, нашедших неубедительной сцену последней встречи сраженного любовью Онегина и княгини Татьяны, для моего прочтения особое значение будут иметь трое: Набоков, Литтл и Грегг (см. далее). Я не рассматриваю знаменитое предположение Виктора Шкловского о том, что отношение повествователя к Татьяне на протяжении всего романа – фактически, его отношение к сюжету в целом – является пародийным. Два обстоятельства требуют осторожности: 1) Татьяна (подобно всем героиням Пушкина, созданным начиная с середины 1820-х годов) тоньше и умнее, чем сюжет, в котором она оказалась, и ей не нужна твердая рука стороннего комментатора, который помог бы ей перерасти ее окружение; и 2) ранний полемичный Шкловский склонен усматривать пародию во всем; для него произведение часто служит оправданием приема, а не наоборот. См. [Шкловский 1923]. Подход Шкловского извратил образы и героя, и героини. Вспомним небольшую статью, написанную к отмечавшемуся в 1937 году пушкинскому юбилею ученым-эмигрантом Петром Бицилли, в которой доказывается, что Татьяна никогда – ни до, ни после – не понимала Онегина, несправедливо оклеветала его в конце и на деле «убила Онегина, обратила его из живого человека в “препарат”, “тип” – и то, что она сделала с ним, другие сделали с нею» [Бицилли 1937].
[Закрыть]. В этой статье я предлагаю альтернативный вариант прочтения роли Татьяны в романе, который предполагает признание ее исключительной решительности и силы, но делает эту роль скорее эстетической, чем нравственной, и – вот она, кощунственная, направленная против культа мысль, – рассматривает эту силу преимущественно как достижение Онегина.
Влюбленность в Татьяну: четыре гипотезы
Все три созидателя в романе (Пушкин, повествователь и Евгений как заглавный герой) рано или поздно влюбляются в Татьяну, каждый по своим собственным причинам. Хотя каждый из этих поклонников выражает свою любовь в разных планах, которые часто накладываются друг на друга, можно выделить следующие мотивации для Эроса. Во-первых, это «запретный плод», в основном ассоциирующийся, я бы сказала, со сферой Евгения. Повествователь не сомневается в той власти, которую «запретный плод» имеет над героем и над людьми в целом, как он говорит нам в знаменитых строках из восьмой главы, XXVII строфы:
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.
Мы не должны забывать, кто изрекает эти мудрые слова. Сам глубоко влюбленный в Татьяну, повествователь имеет собственные причины недооценивать возможность чего-то вроде подлинного роста или приверженности духовному со стороны своего соперника Онегина, от чьей внезапной страсти к Татьяне он предпочел бы отмахнуться, как от прихоти. Однако даже если это так, то нам придется допустить, что запретность всегда придавала отношениям Татьяны и Онегина огромную эротическую энергию. Теперь она ему нравится, потому что стала недосягаема; в деревне же она была в его власти, и поэтому он, в духе Байрона, зевал и отворачивался. Портрет Онегина по возвращении из путешествия (8, XII–XIII) предполагает, что вплоть до финала романа его образ жизни – кратковременное возбуждение и беспокойство, сменяющиеся новым периодом апатии, – остался прежним. Изменит его только запретная любовь. Интересно отметить, что это в равной мере относится и к нему, и к ней; ранее отчужденность и недоступность Онегина так же распаляли любовь Татьяны. Как сказано в ее роковом письме, она, возможно, довольствовалась бы редкими встречами в обществе, но вступить в контакт с «нелюдимом» Онегиным можно лишь таким тайным, сокровенным, крайне рискованным эпистолярным путем. Письмо до времени закрепляет существующее положение вещей, демонстрирует беспомощность героини и вместе с тем накаляет обстановку.
Динамика жизни Татьяны развивается в этой тайной зоне. Ричард Грегг предложил убедительное прочтение ее сна в духе цитированных выше строк, интерпретируя привидевшиеся в нем «фаллические формы» и «приапические существа», его вызывающую содрогание кульминацию как наказание, которому Татьяна подвергает себя за недозволенную страсть [Gregg 1970]. «Становится ясно, почему Ольга первой набрасывается на потенциальных влюбленных: ее неглубокая, заурядная и откровенно проявляемая любовь отличается от глубокой, потаенной страсти к “демоническому” Онегину» [Gregg 1970: 502]. И няня, и мать Татьяны вышли замуж без любви, сестра тоже собирается благополучно выйти замуж; но подобные браки не являются «раем» для таких, как Онегин или Татьяна. Им суждено испытать нечто более глубокое. «Погибнешь, милая, – пророчествует повествователь, – но прежде / Ты в ослепительной надежде / Блаженство темное зовешь…» (3, XV). Это пророчество сбывается лишь отчасти. Татьяна не погибает, как погибают сраженные смертельной болезнью героини сентиментальных романов Юлия, Кларисса и Дельфина, служившие ей примером для подражания, и к этой теме мы еще вернемся. Пока же отметим только, что на протяжении всего романа тайное и недозволенное усиливают эротическое притяжение между Татьяной и Евгением.
Есть и вторая причина влюбленности в Татьяну, связанная с Пушкиным как автором. 1820-е годы, десятилетие, прошедшее под знаком «Евгения Онегина», отмечено все большим тяготением Пушкина к прозе, национальной истории, генеалогии и семье – и омрачено беспокойством по поводу собственного общественного положения и ранга. В этих обстоятельствах исключительной притягательностью для Пушкина обладал образ замужней Татьяны, ставшей княгиней, связанные с ним в этом контексте умеряющие пыл, возвышающие эпитеты: покойна, вольна, равнодушна, смела, неприступная богиня роскошной, царственной Невы (8, XXII–XXVII). Высказывались предположения о том, что, вознеся Татьяну на вершину светского общества, где нет места кокетству, основному средству холостяка Пушкина («его не терпит высший свет» – 8, XXXI), Пушкин выразил свои собственные чаяния. Ведя в 1829 году переговоры о женитьбе, Пушкин хотел верить в то, что было полностью противоположно его собственному бешеному успеху в соблазнении чужих жен: в возможность женской верности в браке[76]76
Анализ эволюции отношения к браку по мере развития романа (мишень для насмешек – почтенное дело) приводится в [Scheffler 1968]. «В первых шести главах о браке говорится уничижительно, – отмечает Шеффлер. – Только после шестой главы происходит смещение акцента… В восьмой книге эта тема закрывается по умолчанию… [Здесь] полностью отсутствует та ирония, которую Пушкин поначалу демонстрировал по отношению к Татьяне» [Scheffler 1968: 194].
[Закрыть]. А еще у поэта были собственные социальные амбиции. Даглас Клэйтон, один из лучших пристальных читателей Пушкина, предположил, что изящество и отточенные светские манеры замужней Татьяны явились воплощением личных фантазий Пушкина о будущем. «Пушкин – почти отверженный, недооцененный, еретик… – превратился в героиню, а не героя его поэмы, – отмечает исследователь. – Признание Татьяны двором, ее блеск, нежность, страстность и твердость убеждений – всем этим Пушкин стремился обладать лично» [Clayton 1987: 261][77]77
См. также главу 1 «Criticism of Eugene Onegin» в [Clayton 1985: в особенности 57], где приводится социобиографическое советское толкование образа зрелой Татьяны, в котором сочетаются мотивы супружества и аристократичности.
[Закрыть].
Но даже если не учитывать ту зависть, которую поэт питал к судьбе своей собственной героини, ставшая княгиней Татьяна внешне достигла огромного успеха. К концу романа она полностью овладела тем, что превыше всего ценилось салонным обществом начала XIX века, – умением с легкостью играть любую приличествующую роль во имя сохранения гармонии в обществе. Именно в этом смысле Уильям Миллз Тодд говорит о завершении «культурного созревания» Татьяны, когда она становится хозяйкой престижного петербургского салона, что было, как он напоминает нам, «высшей формой творческой деятельности, доступной в те времена для женщины», – деятельности, которая позволяла ей устанавливать в реальности то, «что в ее эпоху считалось эстетическим законом» [Todd 1986: 129][78]78
Помимо главы 3, посвященной «Евгению Онегину», см. главу 1 «А Russian Ideology».
[Закрыть].
Соображения эстетического характера подводят нас к третьему аргументу, побуждавшему влюбляться в Татьяну, возможно наиболее основательному и на этот раз связанному с личностью повествователя. В отличие от своего приятеля Онегина, повествователь – поэт. Однако, в отличие от поэта Пушкина, чей стилизованный образ он представляет, повествователь может быть многословным, неловким, сентиментальным. Как подобает «романисту» (даже такому, который пишет роман стихами), повествователь мог бы восприниматься как воплощение некоторых аспектов Пушкина на рубеже десятилетий, поэта, стоящего на грани перехода к прозе, поскольку роман – как нам известно из знаменитого остроумного замечания, адресованного Пушкиным Бестужеву, – роман требует прежде всего болтовни. Единство голоса повествователя на протяжении тех девяти лет, в течение которых создавался «Онегин», проблематично [Shaw 1980]. Однако в одном отношении – своей любви к Татьяне – повествователь проявляет неколебимое постоянство. Начиная с ее первого представления, он поклоняется ей как чему-то, что невозможно описать, как качеству, которое не может быть выражено словами, как тому, что вдохновляет нас, но не поддается точной фиксации. Повествователь упоминает об этой неуловимой сущности как о своей Музе. Впервые мы слышим об этой Музе – дарующей поэту голос только после того, как его покидает «безумная тревога» любви, – в конце первой главы. В начале восьмой главы она персонифицируется, отождествляется с хронологической последовательностью литературных героинь Пушкина и, наконец, «представляется» петербургскому обществу точно так же, как достигшая совершеннолетия и вышедшая в свет Татьяна. Каким же образом повествователь представляет Татьяну и возлюбленной, и Музой?
Впервые мы встречаемся с Татьяной во второй главе. Одной из наиболее примечательных черт ее портрета при знакомстве с ней, конечно же, является его лаконичность. В ее начальном описании содержится немало отрицательного: «Ни красотой сестры своей, / Ни свежестью ее румяной / Не привлекла б она очей» (2, XXV). В отличие от героинь ее любимых сентиментальных романов, а также в отличие от Ольги, Ленского и Онегина в романе Пушкина, Татьяна лишена конкретных черт внешности: повествователь ничего не сообщает ни о цвете ее глаз или волос, ни об одежде, ни о ее любимых вещах, ни о музыкальных вкусах, ни о домашних занятиях. (Мы лишь предполагаем, что она была темноволосой, поскольку ее сестра была блондинкой.) Начиная с раннего детства, главной характерной чертой Татьяны была отрешенность от окружения. Она не ластилась к отцу или матери, не резвилась с другими детьми, не играла в куклы и не проявляла интереса к новостям или моде. Ее чувства глубоки, но, в отличие от героинь ее любимых книг, у нее нет привычки использовать эти чувства, чтобы манипулировать поведением других. Она не млеет и не падает в обмороки, не плачет на людях, не молится напоказ, не стремится к общению с миром[79]79
«Минималистичность» портрета Татьяны и примеры ее отрешенности и замкнутости рассматриваются в части 1 «Narrated Characterization» работы [Kelley 1976: 27–57]. Также, по моему мнению, важен запоминающийся, квазииллюстративный набросок коленопреклоненной женской фигуры (обращенной лицом или спиной? одетой или нагой?) на черновом наброске письма Татьяны Онегину, датируемом 1824 годом (воспроизводится в [Clayton 1985: 137]).
[Закрыть]. Можно было бы сказать, что Татьяна видит скорее внутреннюю сторону вещей, чем внешнюю.
Это свойство вкупе с замкнутостью продолжают характеризовать Татьяну даже в те минуты, когда она наиболее открыта, и за это мы должны благодарить ее ревнивого ментора и самого горячего защитника – повествователя. Он скрывает от нас значительные части ее жизни, сохраняет их для себя, а нам передает только в переводе. Любовное письмо Татьяны Онегину на самом деле было написано по-французски, но мы видим лишь его более сдержанную русскую версию (тогда как письмо Онегина, напротив, доступно всем полностью: кому интересно – пожалуйста, читайте, вот оно, от первого слова до последнего, «точь-в-точь»). После того как Татьяна переезжает из деревни в столицу и становится княгиней, мы чувствуем, что она превращается в некое чудо. Но повествователь не находит русских слов для ее описания: она «comme il faut», она не «vulgar» (8, XIV, XV), и эти иностранные слова передают не столько ее физический облик, сколько характер поведения, ощущение безупречности ее манер, того, что она никогда не допускает неловкостей или ошибок. Подобно чадре, скрывающей лицо звезды гарема от взглядов случайных прохожих, они скрывают от нас ее важнейшие достоинства. И повествователь бесхитростно извиняется за это: «Не знаю, как перевести», «Не могу…» (8, XIV, XV).
В самом деле он и не должен «переводить» ее. Татьяна сидит у окна, ждет, наблюдает и воспринимает; повествователь лишь изредка поверяет нам ее мысли. Я бы сказала, что он не в состоянии сделать это, потому что Татьяна – это поэтическое вдохновение, которое, согласно вдохновенному определению самого Пушкина, не является ни восторженным излиянием чувств, ни застывшим достижением, будучи чем-то более интимным, индивидуальным, подчиненным дисциплине и одновременно творческим: способностью воспринимать возможности. Или, как чеканно выразился поэт, вдохновение – это «расположение души к живейшему принятию впечатлений, следст.<венно>, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных» [Пушкин 1949:41][80]80
Неопубликованный черновик ответа Пушкина на напечатанную в 1824 году в «Мнемозине» статью его друга Вильгельма Кюхельбекера, в которой автор заявлял, что для всякой истинной поэзии необходимы «сила, свобода, вдохновение», и отождествлял вдохновение с восторгом; Пушкин не соглашался с ним.
[Закрыть]. Татьяна вбирает впечатления, осмысляет и упорядочивает их, но (за исключением единственного очень выразительного примера, ее страстного письма) не растрачивает. И вот – четвертая гипотеза: как читатели мы любим Татьяну, потому что она воплощает энергию (и знание), заключенную в определенном виде поэзии.
Татьяна как результат синэстезии
«Неотъемлемая привилегия красоты, – пишет Сантаяна, – заключается в таком синтезировании и фокусировке различных импульсов “я”, таком их сведении в единый образ, чтобы во всем охваченном волнением царстве наступил великий покой» [Santayana 1896: 235–236][81]81
Цит. по [Wimsatt, Brooks 1957:618–619], где в главе «I. A. Richards: A Poetics of Tension» дается прекрасный обзор и разбор эстетических идей А. А. Ричардса.
[Закрыть]. Татьяна из восьмой главы производит именно такое воздействие на живой темп и суетливое разнообразие «Евгения Онегина» – даже если не на его воспламененного и восхищенного героя, – и именно ее резким, внезапным уходом завершается роман. Как мы могли бы понять экономику внутренней жизни Татьяны? Явная героиня романа, она, что имеет важное значение, также героиня в стихах; и как таковая, по моему мнению, она представляет собой нечто большее, чем простое сочетание характера и сюжета. Она также – эстетика.
Эпоха романтизма знала разнообразные дионисийские теории поэзии: поэзия как высвобождение эмоций, как безумие, как Божественная спонтанность. Однако были и противоположные точки зрения, согласно которым поэзия понималась либо как то, что остается, когда проходит мгновение экстаза (повествователь в «Евгении Онегине» Пушкина разделяет знаменитую формулу поэзии Вордсворта: «спонтанное излияние чувств, припомненных в состоянии покоя»), либо, более консервативно, как то, что в некотором роде подобно сдерживаемой страсти, изливающейся в «форму разрешенных напряжений». Учитывая его выраженное тяготение к классицизму, Пушкина, конечно же, должна была привлекать подобная «поэтика напряженности». В более близкое нам время эта эстетика нашла оригинальное выражение у английского критика и поэта А. А. Ричардса.
По мнению Ричардса, существуют два принципиально различных вида стихотворений, основанных на двух видах организации импульсов: их включении (синэстезия) или исключении [Richards 1925: 239–253, в особенности 249–252][82]82
Комментарии Ричардса по поводу относительной ценности эмоций (меньшей) и отношений (большей) к любому конкретному опыту напоминают различие, которое Пушкин делал между экстазом и подлинным вдохновением: «Ценность сознательному опыту придает не его интенсивность, не острота ощущений, не удовольствие и не пикантность, – пишет Ричардс, – но организация его импульсов, устремляющих к свободе и полноте жизни. Множество экстатических мгновений не имеют ценности» [Richards 1925: 132].
[Закрыть]. Наиболее впечатляющие и устойчивые стихотворения – те, которые менее всего подвержены разрушению посредством иронии, – относятся к первой из названных синэстетических категорий; то есть выдерживают максимально большое количество противоположных, гетерогенных импульсов, не позволяя им нарушить строгое равновесие. Затем между «устойчивыми равновесиями» устанавливаются ассоциации, которые выстраивают и приводят в действие память[83]83
«Представьте себе, – пишет Ричардс в главе 14, – энергетическую систему потрясающей сложности и с крайне тонкой организацией, обладающую бесконечным числом устойчивых равновесий. Представьте, что ее с невероятной легкостью перебрасывают из одного равновесия в другое и при этом каждое равновесие является результирующей всех энергий данной системы… Такая система должна была бы продемонстрировать явление памяти: но она бы не вела записей, хотя казалось бы, что она их ведет. Это впечатление возникло бы исключительно из-за предельной точности и чувствительности системы и хрупкости равновесий внутри нее» [Richards 1925: 104].
[Закрыть]. Подобное словесное искусство открывает колоссальные возможности, но особым, эстетически беспристрастным, практически архитектурным образом. Мы начинаем видеть вещи «со всех сторон», в более широком и спокойном контексте, поскольку «чем меньше какой-либо конкретный интерес необходим, тем более отрешенным становится наше отношение… Возможно, не подлежит сомнению только одно: этот процесс прямо противоположен тупику, ибо, по сравнению с опытом великой поэзии, любое другое состояние ума – состояние безвыходности» [Richards 1925: 252].
Можно было бы утверждать, что в конце романа Татьяна выступает как исполненное напряжения, тщательно уравновешенное, стабильное и до боли яркое синэстетическое стихотворение. Может ли такая аналогия помочь нам понять ее ослепляющее воздействие на Онегина, закоренелого прозаициста, который начинает испытывать по отношению к ней самую настоящую страсть? Несколько очевидных факторов маркируют ее как синэстетическую Музу: ее автономность и отрешенность от непосредственного окружения, ее литературность, цепкость ее памяти, живость ее воображения, обращенного на внутренний мир. (Если воспользоваться любопытной дополнительной аналогией из области акустики, Татьяна и тип поэтической напряженности, которую она представляет, могли бы рассматриваться как «стоячая волна», сложное разрешение внутренних противоречий, возникающих в замкнутой колонне воздуха или в задетой и вибрирующей струне, которая только в данной ситуации и как часть своей собственной задачи излучает во внешний мир энергию в форме музыки[84]84
Когда прямая волна, результат потрясения, прикосновения или другого воздействия, распространяющаяся в одном направлении, накладывается на свое отражение, распространяющееся в другую сторону, между двумя фиксированными узлами образуется поперечная стоячая волна. Внутри этой колонны спады и пики, пульсирующие с равными интервалами, генерируют сложную матрицу основных частот, обертонов и гармонических колебаний. На удивление продуктивной в этой аналогии оказывается степень внутренней концентрации, требуемая для разрешения этих противоречий, и тот факт, что побочным продуктом этого разрешения оказывается изысканное «излучение» звука – гораздо более сложное, чем может оценить наш слуховой аппарат, который искажает и упорядочивает улетучивающуюся энергию ауры в угоду своим собственным, довольно примитивным «коммуникативным» задачам. Сама по себе волна, полностью поглощенная своими внутренними задачами, безразлична к какому бы то ни было своему порождающему музыку воздействию на внешний воздух. Благодарю моего отца Дэвида Гепперта (профессора теории и композиции в Музыкальной школе Истмена, ныне на пенсии) за эту красноречивую аналогию с эстетикой Татьяны.
[Закрыть].) После начального «прикосновения», или воздействия, Евгения напряженность Татьяны в вопросах любви по сути своей является результатом самовозбуждения и не зависит от последующих внешних событий. Эта погруженность в себя и состояние покоя являются ключевыми для стабильности ее образа.
Например, было много исследований по поводу особых текстуальных связей между Татьяной и ее любимыми героинями: Юлией Руссо, Клариссой Ричардсона [Штильман 1958; Katz 1984; Mitchell 1968]. Однако мы должны отметить, что сраженная любовью пушкинская героиня использует эти заимствованные мотивы в своем письме без достаточных на то оснований. Как здраво отметил один их летописцев судьбы Татьяны, у Руссо Юлия взывает к чести Сен-Пре, пытаясь сдержать его любовный пыл, но у Татьяны «нет нужды защищаться от страсти Онегина» [Kelley 1976: 129–130]. Онегин не давал ей реальных оснований, чтобы считать его, даже потенциально, «коварным искусителем»[85]85
В защиту Татьяны я цитирую Ричарда Грегга, который сочувственно отнесся к этой статье, отметив, в частности: «Можно утверждать, что для Татьяны Онегин – коварный искуситель в том же смысле, в каком бурбон является искусителем для алкоголика. С точки зрения этики напиток не виноват. Но все равно он предательски искушает».
[Закрыть]. Если в этом романе кто-то и искушает, то это сама Татьяна: она прекрасно знает, что сама переступает черту и наделяет почти незнакомого человека ни на чем не основывающимися функциями (ангел-хранитель, искуситель)[86]86
Делались попытки смягчить «неприятие» Онегиным несвоевременного признания Татьяны. Так, Людольф Мюллер в статье о сне Татьяны отмечает: заснеженный пейзаж прочитывается как одиночество Татьяны, в душе ожидающей любви; услужливый медведь – как сексуальность («темный зов любви», которая избавит ее от одиночества); сам Онегин – как единственный человек, который может приручить страшных чудовищ, которыми полна избушка потенциальной сексуальной жизни; но «брачные отношения не осуществлены. Отсутствие интереса со стороны Онегина не должно подвергаться осуждению: мы видели, что в глубине души он на самом деле любит ее, а более длительное благонамеренное общение по-соседски могло бы пробудить в нем этот росток любви» [Muller 1962: 393].
[Закрыть]. Такое понимание автономной, уже полностью оформившейся любви Татьяны, за которую она принимает на себя полную и мучительную ответственность, подтверждает мнение Джона Гаррарда о том, что в знаменитой триаде литературных прототипов Татьяны – «Клариссе, Юлии, Дельфине» (3, XI) – «Юлия», о которой идет речь, – не сентиментальная и слезливая Юлия, но скорее Донна Юлия из Песни I «Дон Жуана» Байрона [Garrard 1993][87]87
Гаррард отмечает, что французский перевод «Дон Жуана», выполненный прозой Амеде Пишо, смягчил сарказм Байрона и способствовал переносу фокуса текста на Юлию; он также отмечает, что эпизод с письмом Юлии является одним из очень немногих фрагментов текста Байрона, лишенных едкой повествовательной иронии (эта интонация не нравилась Пушкину, и его повествователь полностью отказывается от нее в восьмой главе).
[Закрыть]. Донна Юлия – женщина с чувственным опытом, глубоко пораженная страстной и злосчастной любовью к юному Жуану. После разразившегося скандала и заточения в монастырь она пишет ему потрясающее любовное письмо, отказываясь от своих прав на него, что бедный юноша едва ли сможет понять.
Давайте проследим подтекст Байрона. «В судьбе мужчин любовь не основное, / Для женщины любовь и жизнь – одно <…> / Прости меня! Люби меня! Не верь / Моим словам: все кончено теперь!» (Песнь 1,194–195, пер. Т. Гнедич): эти знаменитые строки из письма Донны Юлии Дону Жуану и в самом деле наталкивают на мысль о той же опьяняющей смеси живой страсти, самоотречения, покорности судьбе, воспоминаний о былом и примирения с настоящим, которая столь напоминает заключительную высоконравственную сцену Татьяны с Онегиным[88]88
Стефани Сандлер предложила лучшее прочтение восьмой главы и всего романа как «текста об отречении и текста о продолжающемся влечении» [Sandler 1989: 207].
[Закрыть]. Однако, если смотреть с точки зрения экономики синэстетического романа, который уравновешивает противоположные точки напряжения, но не растрачивает их энергии, это можно назвать самоотречением только в особом смысле. Его нельзя понимать полностью как жертву или личную утрату. Сама Татьяна не утруждает себя объяснениями, подобными тем, которые дает Байрон относительно донны Юлии, или тем, какие точно предоставили бы сентимен-талистские предшественницы Татьяны. Она объясняет и оправдывает свои поступки только в пределах своего единственного мощного заявления, адресованного Евгению, и рамка, окружающая ее заключительный монолог, практически лишена каких бы то ни было повествовательных комментариев. Она попросту уходит. И если мы не должны ретроспективно вписывать Татьяну в ряд слишком решительных героинь XVIII столетия, то следует сопротивляться и желанию модернизировать ее. Я считаю, что нельзя видеть в ней реалистическую героиню тургеневского или толстовского типа, с выстроенной биографией и полностью психологизированным содержанием.
Некоторые в высшей степени неортодоксальные выводы будут извлечены из этой идеи в конце статьи; однако сейчас вернемся к зрелой Татьяне как Музе. Предлагаю оценивать ее не как трагическую героиню или самоотрекающийся объект, но как особого вида динамический поэтический принцип, заслуживающий внимания ввиду своей яркости, способности поддерживать в нетронутом виде все свои составляющие вопреки оказываемому на них воздействию и ввиду желания не расходовать себя под влиянием порыва только для того, чтобы подытожить внешний, открыто явленный сюжет. В таком прочтении есть нечто общее с увлекательной гипотезой, выдвинутой великим советским специалистом по физиологии развития Львом Выготским. Десятая глава в созданной им в молодые годы работе «Психология искусства» (1925) содержит неожиданное прочтение «Евгения Онегина» [Выготский 1968:282–288][89]89
В главе 9 «Искусство как катарсис» Выготский выражает неудовлетворенность по поводу большинства объяснений эстетического отклика, поскольку в них игнорируются теория воображения и теория действительных чувств – двух компонентов, которые всегда взаимодействуют в нашем отклике на искусство, ввиду чего художественное воздействие намного больше, чем «иллюзия». Подойти к этим теориям непросто, допускает он, поскольку критики (в отличие от таких психологов, как он) работают на уровне анализа; у них нет прямого выхода на первичный художественный синтез.
[Закрыть]. Поскольку, утверждает Выготский, мы предрасположены испытывать подозрительность по отношению к статическим протагонистам в этой стремительно развертывающейся стихотворной повести, Пушкин легко сбивает нас с толку своими вводящими в заблуждение симметриями. Все любовные увлечения, любовные письма и параллельные столкновения, так аккуратно отражающие друг друга, отвлекают нас от возможности того, что к концу романа и герой, и героиня достигли подлинной зрелости. Выготский серьезно воспринимает около дюжины вопросов, которые нагромождаются друг на друга в строфах VII и VIII восьмой главы: «Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он?.. Все тот же ль он иль усмирился? Знаком он вам? – И да и нет…» (многоточие в оригинале). Эти вопросы важны, утверждает Выготский, поскольку подлинные внутренние изменения никогда не отражаются полностью во внешнем облике. В первой половине романа повествователь, столь захваченный описаниями суетной, наполненной событиями жизни Онегина, действительно создает впечатление подробного жизнеописания, но это происходит потому, что у обоих любовь начинается с искусственного конструкта. Онегин определяется как носитель черт, «которые делают его невозможным для романа героя трагической любви», Татьяна – как девушка, которая влюбляется в плод своего воображения и должна погибнуть. Но затем, утверждает Выготский, «Пушкин дает ложное направление своему роману». Он вводит подлинную драму – которую, вопреки ожидаемым, фиксированным результатам сентиментализма или трагедии, всегда характеризует открытость. По Выготскому, величайшее искусство всегда готовит нас к такому типу катарсиса. То, что мы видим в великом драматическом искусстве, представляет собой только одно временное разрешение; и чем более ясным и непринужденным является это разрешение, тем больше оно свидетельствует о множественности других возможных разрешений, скрывающихся за ним. Выготский утверждает, что поэзия Пушкина всегда содержит в себе как минимум два противоречивых чувства; когда эти противоположные импульсы сталкиваются, мы испытываем эстетическое удовольствие[90]90
В своей последней книге Юрий Лотман рассматривает понимание концепции вдохновения у Пушкина именно сквозь призму подобных столкновений: см. [Лотман 1992: 35–43] и, в особенности, заключительную главу «Феномен искусства».
[Закрыть].
Концовка: может, этого не было?
Заключительная часть эссе будет написана в духе психологии развития Выготского. На протяжении всего «Евгения Онегина» повествователь поет хвалу идеально размеренной и предсказуемой жизни: «Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел» (8, X). Совет хороший, поскольку сюжет романа – одна большая иллюстрация несчастливых результатов несвоевременного развития и упущенных возможностей. Однако с этой ценностью сопоставлен другой образ, в котором воспет открытый, неопределенный процесс: магический кристалл и смутно угадываемый в нем «свободный роман». Эти две ценности наиболее четко предстают в конфликте между письмом Онегина и убийственно отсроченным ответом Татьяны, который и заставляет его броситься к ее ногам.
Во время этого последнего свидания Татьяна в совершенстве владеет собой и сдерживает свои страсти. Что бы она ни значила, она не растратит это значение в настоящем времени романа; уходя, она уносит с собой свою уравновешенную энергию. Напротив, один из наиболее дискредитирующих аспектов письма сраженного любовью Онегина – это то, с какой расточительностью он изливает в нем свои чувства. Он полностью живет настоящим, в котором должно быть обещание ее присутствия: «Я утром должен быть уверен, / Что с вами днем увижусь я». Теперь Евгений воображает, что настал конец его жизни. Словно вспоминая предупреждение повествователя: «Но жалок тот, кто все предвидит» (4, LI), Онегин начинает свое письмо к Татьяне на безнадежной ноте: «Предвижу все» (8, XXXII). Мы вспоминаем, как он легко предсказал катастрофу брака в своей начальной отповеди Татьяне по поводу ее письма; теперь он видит мрачную сторону именно такого подхода к жизни, который не оставляет места неожиданности или обновлению. Не то чтобы Онегин был нечестен. Совсем наоборот: как отмечали некоторые критики и как я упоминала выше, в своем письме к Татьяне Онегин более честен в воспоминаниях об их общем прошлом, чем Татьяна в своей реконструкции событий во время их последней встречи. Онегин вполне честен; его проблема заключается в том, что он утратил контроль над временем, все ощущение богатства и непредсказуемости времени, и тем самым оказался не в состоянии изменить или обуздать себя. И именно в этом месте повествователь резко обрывает рассказ, не завершая сюжет ни браком, ни смертью (на что сетовали друзья Пушкина), оставляя Татьяну исполненной самообладания, Онегина – полностью уязвимым. Подобные элегантные инверсии и симметрии позволили некоторым проницательным пушкинистам увидеть в «Онегине» вариант мифа об Эхо и Нарциссе [Picchio 1976][91]91
Это отмечалось и в докладе Марины Воронцофф (Йельский университет) «The Tale of Echo and Narcissus, Retold: Pushkins Tatjana and Eugene», прочитанном на Ежегодном собрании Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) в Торонто в декабре 1993 года.
[Закрыть]. Но если ход развития повествования и прихотливо-пародийное искусство Пушкина и побуждают нас к чему-то, то именно к недоверию полной иллюзии зеркального отражения. Что, если это симметричное с точки зрения поэтики окончание раскрывается в обладающий перспективой линейный тип нарратива, калейдоскопически сложный и богатый возможностями – по-видимому, исключительно ценный в оптике «магического кристалла» романа?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к альтернативному прочтению восьмой главы. Если в качестве ключа воспользоваться открывающим ее отступлением (одновременно являющимся запоздалым вступлением), то эта заключительная глава будет о Музе, о том, как она – сияющая, ветреная, ласковая, дикая – являлась поэту-повествователю в важные моменты жизни. Предчувствуя недоброе, теперь поэт впервые приводит свою Музу «на светский раут» (8, VI). Но в своем конечном воплощении она не вызывает никаких тревог: почитая иерархию и порядок, она овладела правилами салонного поведения и ведет себя безупречно[92]92
К этому можно было бы добавить комментарий Лотмана к стихам 1–4 VII строфы восьмой главы, в котором он чуть ли не извиняется за терпимость Татьяны к «порядку стройному» и «смеси чинов и лет» в аристократическом салоне [Лотман 1980]. Лотман убеждает своих читателей в том, что такая «положительная оценка света» героиней, представляющей русские национальные добродетели, и в самом деле звучит странно в романе, столь насыщенном социальной сатирой. Однако если мы предположим, как в моем прочтении предлагает нам сделать Пушкин, что Татьяна – не дух русских добродетелей, но Муза поэзии, то нет ничего более естественного для этого гибридного романа в стихах, чем восхищение «порядком стройным» и «смесью чинов и лет».
[Закрыть]. Муза – это Татьяна, и это ее последнее вдохновляющее преображение.
А что Онегин? Он всегда был более агрессивно упрям и своеволен, зевал, когда следовало аплодировать, предвидел все, противопоставлял себя поэтам. Пережив этот необычный, необъяснимый приступ любви, он сначала полностью лишен инструментария для обработки его последствий. Однако стоит отметить этапы его пробуждения. Если прежде изысканный облик Онегина отражался в различных зеркалах, он поверхностно реагировал на события, мало или вовсе не заботился о памяти и развлекался на различных праздниках жизни, то теперь прошлое начинает выстраиваться в согласованные структуры и тем самым – преследовать его. Попытки признаться Татьяне в этой внутренней перемене отвергнуты. Человеку, который всегда отдавал предпочтение модным замкнутым формам разочарования и отчаяния, было бы так удобно разыграть из себя романтического героя, который может напропалую растрачиваться, отдавать себя на милость возлюбленной – и довольно; а затем вернуться в то привычное состояние, в котором события вновь начинаются за здравие, а завершаются за упокой и в жизни нет никаких тайн, потому что всегда «хандра ждала его на страже» (2, LIV). Однако если провинциальная барышня Татьяна была склонна впечатляться байроническими позами, то Татьяна – взрослая, творческая Муза равнодушна к такому потворству слабостям. Теперь она сохраняет свою энергию, подобно стоячей волне, не теряет самообладания и настроена в резонанс, и ей больше не требуется стороннее воздействие. Онегин ищет признаки смятения, сострадания, следы слез на ее лице, но ничего не находит: «Их нет, их нет!» (8, XXXIII). Словно тень, Онегин начинает «подстраиваться» под Татьяну, дублировать ее судьбу в романе. Он уединяется, бледнеет, начинает читать запоем. Но он не может отогнать от себя ее образ; в ее стихии, стихии, которая скорее поглощает и перерабатывает, чем отражает, – рождаются воспоминания; начинает заявлять о себе прошлое Евгения, он вынужден признать глупость и жестокость поступков, совершенных им в юности; как декорацию к этому рождению подлинной биографии, сквозь строки читаемых им книг, он видит деревенский дом, «И у окна / Сидит она… и все она!» (8, XXXVII).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































