Текст книги "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре"
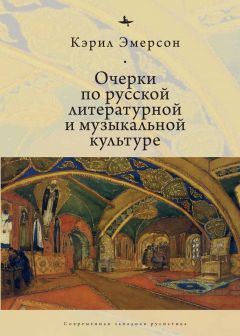
Автор книги: Кэрил Эмерсон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Гаспаров признает необходимость работы с фрагментами. История древней литературы – фрагментарная наука. Но это обстоятельство требует от филолога больше, а не меньше осторожности и самодисциплины. Из-за Бахтина с рецепцией мениппеи произошло как раз обратное. В этом несчастном недоразумении есть вина и самого Бахтина. Почему он игнорирует великие, освященные традицией произведения античной литературы – например, комедии Аристофана? Потому, отвечает Гаспаров на свой же вопрос, что величие и цельность этих произведений Бахтину мешают, «потому что Аристофан слишком политизирован, слишком целенаправленно-сатиричен, слишком не-хаотичен, а в конечном счете просто потому, что он существует – как текст, а не как домысел» [Гаспаров 2004: 9]. Целостный текст навязывает свои собственные структуры и свои собственные истины, которые смиряют читателей и ограничивают свободу их творческой активности. Поскольку философы предпочитают развивать свои собственные мысли, а не анализировать объективные данные внешнего мира, то они, собственно, ничем объективно не связаны и занимаются лишь миниатюрными фрагментами, которые для них тем самым оказываются не эстетическими единствами, но бессвязными стимулами для возбуждения их, философов, собственной произвольной фантазии. Гаспаров намекает, что именно таковы до странности нефилологические качества исследования Бахтина о Рабле (где там, в самом деле, Рабле-автор? в чем цельность его романа или романов? почему у Бахтина так много «культурного окружения» – площадности и народных ритуалов, – но так мало внимания уделяется литературному стилю или возвышающейся над прочим христианской символике?). Фрагмент вместо целого, анекдот или грубый жест вместо целостного духовного видения – вот что, по Гаспарову, является общим для «творчества» Бахтина. Такова книга о Достоевском (отчасти), книга о Рабле (по большей части) и все, что написано о мениппее. Ибо такова вообще этика философствования: определяющим фактором здесь является «не система, а процесс».
Гаспарову не по себе оттого, что жанровая категория «серьезно-смехового», для мениппеи определяющая, практически неизвестна историкам европейской литературы – неизвестна даже тем, кто создавал эту литературу. «Но об этом обычно забывают, потому что исследованием идей Бахтина занимаются не историки, а теоретики литературы». Для этих теоретиков авторитетно слово Бахтина, а не дошедшие до нас факты истории литературы; признанием пользуются не эти последние, но имя Бахтина: он ведь предоставил на потребу простые, годные для чего угодно категории, подстегивающие и как бы оправдывающие интеллектуальную смелость в ущерб тщательной предварительной работе.
К месту будет заметить, что в этом последнем пункте аргументация М. Л. напоминает те возражения, которые были выдвинуты американскими историками русской средневековой культуры в адрес ослепительных парадигм, популяризированных школой Лотмана – Успенского[64]64
См. пионерский сборник статей «Религия и культура в России и Украине» [Religion 1997]. О том, что пользоваться работами семиотиков культуры в деле исторического мышления следует с большой осторожностью и тактом, см. статью в том же сборнике: [Frick 1997: 152–154]. Автор безоговорочно причисляет семиотиков культуры к «структуралистам».
[Закрыть]. А еще больше эта аргументация напоминает упреки скептически настроенных критиков «нового историзма».
Эти упреки направлены в первую очередь против того приоритета, который получает «пространство культуры» (cultural field) перед отдельным произведением искусства, а «среда» (environment) – перед индивидуальным автором произведения. Бахтинские терминологические новации, отразившиеся в первом, ставшем бестселлером, сборнике его статей в переводе на английский («The Dialogic Imagination», «Диалогическое воображение», 1981), зачастую фигурируют в критических разборах этих статей – и отнюдь не с доброжелательной интонацией. Ведь «диалог», в широком смысле этого слова, – одна из основных метафор исследовательского метода, который основывается на «обращении к широкой аудитории и открытости для дискуссии» (circulation and exchange); диалог в этом смысле стремится не только к словесной, но, можно сказать, к телесной коммуникации. Во всяком случае, именно так понимает и определяет диалог «новый историзм». Он считает старый историзм «монологическим», отмечает в этой связи Эдвард Пехтер в своей статье «Новый историзм и недовольство им»: «Гринблатт склонен рассматривать познание литературы и познание культуры как составные части одного и того же процесса интерпретации – части, имманентно взаимооживляющие» [Pech-ter 1987: 293].
В какой-то мере, конечно, то, о чем здесь идет речь, – это старый, даже старомодный вопрос о контекстуализации, о влияниях общества на текст и текста на общество. Но автор цитируемой статьи имеет в виду нечто иное, и тут его неудовлетворенность «новым историзмом» начинает напоминать реакцию некоторых известных раблезистов на книгу Бахтина о Рабле. «Ход мысли здесь, – пишет Пехтер, – явно односторонний: от текста культуры – к литературному тексту; и в результате текст культуры оказывается в привилегированном положении в качестве единственно устойчивой и определяющей точки отсчета» [Pech-ter 1987: 296]. Раньше таким устойчивым центром предполагался автор; теперь им стало «пространство» – место, в котором действующими силами являются не личности, но «власть» и «дискурс». А между тем означенные «пространства» не обладают стабильностью в такой мере, как это свойственно авторским художественным произведениям, – не обладают детерминацией и интенцией. Но именно поэтому устойчивым центром любого текста оказывается сам литературный критик.
На этом критическом основании возникают все прочие сомнения и возражения в духе Гаспарова. Анекдот, искусственно приспособленный к личному вкусу критика, приравнивается по значению заключенной в нем информации к какому-нибудь произведению Шекспира. Конечно, Шекспир остается исходным объектом почитания и исследования. Однако для последователей «нового историзма» основополагающая функция искусства все же заключается в создании «резонанса и удивления». Джон Ли отмечает в этой связи, что у Гринблатта «чувство “удивления” совсем бесчувственно к тому вызову, который исходит от цельных произведений искусства. Художественные произведения вызывают удовольствие и изумление – и только»; в результате Гринблатт «выводит происхождение удивления из культа чудесного <…> Новый историзм на самом деле положил в свое основание анекдоты как метонимическое средство, контролирующее критическую практику: анекдот делает возможным inventio и придает форму dispositio» [Lee 1995: 297–299][65]65
Ли здесь очень сердитый, такой же сердитый и нетерпимый, каким стал Гаспаров в 2004 году по отношению к методологическим ошибкам и произвольным фантазиям бахтинистов: оба, американский критик и русский ученый, придерживаются того мнения, что их оппоненты подрывают честность филологической науки. «Гринблатта часто восхваляли за человечность (humanism) его творческой деятельности, – пишет Ли. – Куда больше бросается в глаза его напор, тяга к господству и власти, а также готовность для достижения этого сделать из прошлого то, что ему хочется».
[Закрыть]. Куски и фрагменты легко собрать и персонифицировать, поскольку критик держит в своих руках и располагает по-своему все необходимые соединительные нити. Анекдоты и слухи по природе своей не поддаются верификации. Поэтому они становятся материалом, с помощью которого сочиняют выдумки – вроде той (скажет нам Гаспаров), которую Бахтин рассказывает про «мениппею».
Гаспаровская критика такого типа, как мы убедились, до крайности резкая – настолько, насколько Гаспаров может быть резким. Ценность такой принципиальной критики всегда состоит в том, чтобы выставить на всеобщее обозрение и разоблачить возможные эксцессы веры – всякой веры. Ибо то, что называется «критикой» (critique) – если заниматься ею честно, – не может не вовлекать в свою серьезную игру и не навлекать на себя ответные, равнодостойные удары контркритики. И так всегда совершалась, обогащалась и развивалась история литературной критики.
Что касается «нового историзма», то скептическая общественная реакция против него достигла, похоже, своего предела у Пола Стивенса в его статье 2002 года «Притворяясь реальностью: Стивен Гринблатт и наследие экзистенциализма-для-всех» [Stevens 2002]. Стивенса интересует терпкое соединение личной активности и объективного бессилия в наиболее влиятельном произведении Гринблатта. Весть, которую несет нам Гринблатт, по мнению его критика, двусмысленна: с одной стороны – да, я в состоянии что-то изменить в этом мире (ведь по отношению к истории, которая анекдотична, я тоже – анекдот); с другой стороны – нет, за вычетом лучших мгновений диалога я не в состоянии изменить общественно-политическую реальность, ибо объективные силы, царящие в мире, формируют и меня самого. Единственный механизм, способный соединить эти две истины, – случайность, контингентность. Значит, история пишется так же, как и жизнь критика: она складывается от случая к случаю; моменты познания или моменты встреч – это просто то, что случилось или приключилось со мною. Предлагаемый Гринблаттом рецепт отношения к миру – эгоцентрический и пораженческий с точки зрения активного политического действия, но лично для Гринблатта терапевтический и к тому же отлично читаемый – квалифицируется Стивенсом как экзистенциализм, так сказать овладевший массами, – «экзистенциализм-для-всех» («popular existentialism»).
Что говорить: такой экзистенциализм производит очень тяжелое впечатление как на марксистских критиков, так и на более традиционных гуманитариев, работающих исключительно с текстом. Гаспаров, по всей вероятности, отнес бы Бахтина и его последователей тоже к «экзистенциалистам-для-всех».
Вместо заключения: о парадоксах, романтической иронии и неувядающем достоинстве русской литературно-критической традиции
Выше мы попутно отметили, что среди парадоксов, заключенных в предмете данной статьи, имеет место и то обстоятельство, что как раз в качестве людей науки оба, Гаспаров и Бахтин, имеют много общего. Оба они – филологи-классики, полиглоты, книжные черви, люди глубокой личной порядочности и скромности, чувствующие себя на своем месте скорее в библиотеке и в учебной аудитории, чем на политических сходках, и не склонные выставлять напоказ собственные антипатии или внутренние конфликты. Блестящий мемуарист, Гаспаров, однако, предпочитает в этом жанре суховатые, иронически-игривые интонации, а Бахтин, как известно, говорил, что вообще не желает писать воспоминания[66]66
См. [Бахтин 2002а: 295]: «Дувакин: <…> Вы писать воспоминания не собираетесь? —
Бахтин: Не собираюсь совершенно».
[Закрыть]. Бахтин и Гаспаров всегда отделяли свой приватный жизненный опыт от научной работы. Поэтому оба этих русских ученых так сильно отличаются от блестяще исповедального Гринблатта, личная биография которого часто сознательно становится исходным пунктом профессиональной деятельности. В этом отношении Гринблатт – типичный американец, критик в духе Виктора Шкловского. Как же тогда оценивать вердикт Гаспарова по «делу», или «случаю» (case), Бахтина?
Этот вердикт еще нуждается в подлинном обсуждении и прояснении. Но один предварительный вывод все-таки можно сделать. Вот в чем Гаспаров несомненно прав: Бахтин с самого начала определял себя в качестве философа и в конце пути утверждал, что он оставался философом всегда. Источник разногласий не столько Бахтин, сколько философия. По Гаспарову, та или иная научная дисциплина познается по ее плодам, то есть по реальным результатам ее деятельности: «философия» – плод творческого воображения, а «филология» (путь истинного ученого) вырабатывает чистое знание, формализованное и позитивистское. Те же самые феномены Бахтин видит и понимает совсем по-другому. Он вполне признает, что «чужое слово как предмет познания» допускает двоякий подход «в пределах гуманитарных наук (и в пределах филологии в узком смысле)»[67]67
«У филологии специфические цели и подходы к своему предмету – говорящему человеку и его слову <…> Однако в пределах гуманитарных наук (и в пределах филологии в узком смысле) возможен двоякий подход к чужому слову как предмету познания» [Бахтин 1975: 164].
[Закрыть]. Чужое слово можно рассматривать как вещь: в этом случае понимание будет абстрактным и обескуражит тех, кто хочет с таким словом вступить в разговор. Но к чужому слову можно подойти иначе – «диалогически»: в этом случае в нем обязательно откроются новые аспекты значения. Отметим, что Бахтина здесь интересует нечто иное, чем сами по себе абстрактные понятия истины и лжи, добра и зла, правильного и неправильного, – ему важна не систематизация результатов. Диалогический подход (установленный на ориентацию, а не на результат, и тем самым – на вопрос и на ответ одновременно) имеет одну задачу, которую он не может не осуществлять, – она заключается в открытии чего-то нового. Филология, по Бахтину, должна посвящать себя этой задаче: «диалогическое проникновение обязательно в филологии» (там же).
Идея филологии как «проникновения», помимо явных резонансов Православия, больше обязана, конечно, Йенскому романтизму, Anschauung Фихте, поэтической интуиции Новалиса, возможно, даже спинозистскому (и гётеанскому) понятию объединяющей природу и человеческое сознание единой субстанции, чем платоническим формам и запретам в мире Гаспарова. Мышление Бахтина было спекулятивным, этическим, космически беспредельным и окрашенным в тона немецкого романтизма. В большевистских 1920-х годах он любил не Фрейда или Маркса, но Шеллинга: вместе с Пумпянским и Марией Юдиной он обсуждал философию Шеллинга на протяжении нескольких месяцев подряд и знал его, по собственному свидетельству, «вдоль и поперек» [Бахтин 2002а: 271–273]. По существу, Бахтин никогда не стремился ни к созданию «научной дисциплины», ни к сохранению ее самодостаточной чистоты. Быть может, он и не обязан поэтому отвечать за плоды специализации. Тем более если вспомнить – ив этом я вижу почти комизм истории рецепции Бахтина в мире, – что его работы стали достоянием современности спустя десятилетия после того, как они были написаны, а в иных случаях – уже после того, как автор считал их давным-давно утраченными.
По мнению добросовестных и преданных Бахтину исследователей его творчества – тех, кто шаг за шагом возвращают сейчас из забвения утраченные реальные контексты опубликованных бахтинских текстов, – Бахтин был не философом в обычном смысле этого слова и не традиционным филологом, а скорее мыслителем особого, пограничного типа. По словам одной такой исследовательницы, исследовательские интересы Бахтина связаны с «философскими основаниями гуманитарных наук и границами науки и философии в гуманитарном исследовании» [Попова 2004: ЮЗ][68]68
По мнению Ирины Поповой, которая очень взвешенно анализирует данную проблему в своей статье, то, что зачастую представляется «отсутствием методологии» у Бахтина, обусловлено постоянным смещением и перемещением точки зрения.
[Закрыть].
Подытоживая наши размышления, можно сказать так: Гаспаров тоже признает необходимость не только одного типа филологии и не только одного типа критики (и он к тому же разнообразнее и свободнее пользуется жанрами критики, чем Бахтин в свое время). В коротком выступлении 2002 года под названием «Как писать историю литературы» Гаспаров продемонстрировал значительную широту, перечислив типы исследования, которые, на его взгляд, должна включать будущая история литературы: тут и история литературных форм, и история читателя, и история переводов, и история рецепции[69]69
Это выступление первоначально было зачитано на «Тыняновских чтениях» 2002 года, а год спустя напечатано в «Новом литературном обозрении» [Гаспаров 2003].
[Закрыть]. Все перечисленные Гаспаровым «истории» имеют значение и нужны, потому что все они способствуют «систематизации наших знаний». А как насчет альтернативных историй? Тех, для которых источником вдохновения был бы скорее Бахтин (или даже «новый историзм») и которые имеют своей целью освободить нас от навязываемых нам со всех сторон теоретизированных и идеологизированных систем путем поисков всегда нового в каждом индивидуальном жесте сознания? Вопросы такого рода не столько даже сердят Гаспарова, сколько оставляют его равнодушным: «А история литературы, изготовленная не как средство систематизации наших знаний, а как средство нашего духовного самоутверждения, пусть будет какая угодно. Такие истории читаются от моды до моды».
Такие истории, как бы говорит Гаспаров, имеют право на существование и всегда будут существовать. Но, рожденные сегодняшним днем, они умрут вместе с ним. Гаспаров идет дальше: он считает полезным делом (и здесь мы чувствуем влияние особенно близкого ему Бориса Ярхо) взглянуть и на современность глазами прошлого: «В сказках живая вода действует только после мертвой».
Бахтина куда меньше задевают истории, которые живут «от моды до моды», потому что для него основанием была не позитивистская инвентаризация знания ради самого знания, но реальность незавершенного движения. Бахтин также не проявлял особого интереса к границе между жизнью и смертью. В силу этих причин он был склонен смотреть на прошлое глазами настоящего, или, вернее, с точки зрения возможностей настоящего, потенциала современности. Бахтин считал, что у жизни всегда найдется «лазейка», что убить окончательно, безвозвратно, пожалуй, можно, хотя и трудно; не смерть, но оживление было для него естественным состоянием мира, а слово говорящего человека – только лучшим носителем этого принципа.
Естественно, что такой склад мышления должен представляться многим ученым неясным и ненаучным. Это отметили и подчеркнули в 2005 году три члена редакции «НЛО» – журнала, который трудно заподозрить в особых симпатиях к Бахтину, – в «антиюбилейном подношении» Гаспарову: «случай Бахтина» постоянно и назойливо просвечивает сквозь поверхность этого текста. Умные и провокативные соображения, высказанные на форуме «НЛО», с точки зрения целей моей статьи удобным образом соединяют 25-летие гаспаровского антибахтинианства и 70-летие со дня рождения Гаспарова, а значит, могут удачно завершить мои собственные размышления по поводу бахтино-гаспаровского раздора. Статья из 73-го выпуска «НЛО», о которой пойдет речь, побуждает присмотреться также и к мифологическим представлениям, окружающим того и другого великого русского ученого в XXI веке.
Члены редакции «НЛО» распределяют творческие достижения Гаспарова в гуманитарных науках за многие десятилетия по пяти рубрикам: «Энциклопедизм», «Предназначение (социальная функция) филологии», «Интерпретация», «Личность» и, наконец, «Быт филологический» – филология как способ (повседневной) жизни. В этой классификации поражает вот что: как легко и уместно эти «ценностные категории» можно применить к Бахтину. Однако в «случае Гаспарова» акценты расставлены иначе, чем в «случае Бахтина», разграничительная линия между обоими учеными проводится в другом месте, и, как следствие, происходит небольшое локальное колебание почвы, обнаруживающее подспудное недовольство и беспокойство.
Я остановлюсь только на трех таких эмоциональных выплесках, начав с самого громкого. Авторы из редакции «НЛО» считают, что «известная критичность Гаспарова в адрес Бахтина рождается не только и не столько из-за того, что тот, по мнению Гаспарова, интеллектуально принадлежал революции-взрыву, а не наследию-преемственности, а потому, что в той ситуации, где Бахтин, по мнению Гаспарова, культивировал эзотеризм и произвольность, сам он стремится и призывает других к открытости и рациональности» [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005: 172].
«Эзотеризм» / «открытость», «произвольность» / «рациональность»: в этих непримиримых оппозициях, уверяют нас, – научная суть спора и раздора. Однако вслед за тем возникает сравнение научного творчества Гаспарова с «идеологически более радикальными» исследованиями его знаменитого коллеги Сергея Аверинцева [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005: 173], и тогда постепенно начинаешь понимать, что за этими оппозициями авторы из «НЛО» подразумевают и намеренно обостряют и другую оппозицию: духовное / светское. То, что импонирует в Гаспарове, – это его решительный «секуляризм» (буквально: «борьба за независимую от церкви школу»); то, что обескураживает в Бахтине, – это его открытость, так сказать, более духовным аспектам гуманитарных наук (не составляющим, по мнению Гаспарова и «НЛО», «предназначения» филологии). «Энциклопедизм» знания не включает этих аспектов, тем более что они сплошь и рядом вырождаются в мистику и даже суеверие.
Во-вторых, вспомним то, что выше говорилось в связи с платоновским «Федром»: Бахтин, судя по его смелым идеям о полифоническом устройстве, убежден, что написанное слово способно сохранять и питать сознание личности, тогда как Сократ (а вслед за ним и Гаспаров), напротив, убежден, что оно на это не способно: такие слова, когда мы к ним обратимся с вопросом, лишь «всегда отвечают одно и то же». Члены редколлегии «НЛО» расширяют и уточняют этот аргумент. Гаспаров, заявляют они, и сам глубоко убежден в особой «жизненности» письменного слова, но практикуемые им прочтения текстов отдельных авторов принципиально отличаются от других подходов («от бахтинского, например», добавляют они): «За наивным и будто бы упрямо позитивистским настоянием на правах текста – как он есть сам по себе – встает личное герменевтическое усилие интерпретатора, его культурно-этический поступок: спасение текста от группового или индивидуального читательского произвола» [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005: 176]. Здесь, таким образом, дихотомия Гаспаров / Бахтин тоже оказывается фундаментальной, вопросом принципов: если научная деятельность Гаспарова имеет целью «спасти» текст от безразличия или от произвола читателей, то Бахтин, в противоположность этому, с самого начала рассматривает литературный текст как многоголосый, полицентричный и разносмысленный в такой преизбыточно-щедрой степени, что тексту как будто и не грозит опасность быть разрушенным отдельным прочтением или искажающими прочтениями. Это убеждение – составная часть карнавального духа, которым, на взгляд Бахтина, проникнут наш мир. Но ведь, опять-таки, тот же самый карнавальный дух проявляется и в Гаспарове «при всей нелюбви М. Л. Гаспарова к работам Бахтина» [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005:178] – факт, который охотно признают и члены редакции «НЛО». Но Гаспаров обращает свои страсти и пристрастия вовне – на аудиторию. Он выработал чрезвычайно привлекательный публичный имидж автора «Записей и выписок» – тогда как Бахтина, похоже, вообще мало интересовала его собственная биография, как и его собственные пародийно-иронические автобиографии. В этом отношении Бахтин был исключительно скромен. Всю свою мудрость он воспринял из прочитанных им текстов – этого оказалось достаточно для формирования его личности.
Это последнее биобиблиографическое наблюдение приводит меня к самому деликатному – поскольку самому личному и не поддающемуся сравнению – аспекту нашего сопоставления Гаспарова и Бахтина. Постоянный упрек Гаспарова и гаспаровцев по адресу Бахтина касается значения научной сдержанности, или скромности, в профессиональной работе. Мы видели, насколько отсутствует такая сдержанность у представителей «нового историзма», особенно у Стивена Гринблатта с его доведенной до профессионального блеска исповедальной мотивацией литературного исследования. Мы видели, что прочтения и в бахтинском духе дали повод для аналогичного отпора. И еще одной устойчивой темой критики Бахтина с гаспаровских позиций является отсутствие у него, как пишут в «НЛО», «готовности к самопересмотру своих установок» по отношению к миру [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005:176].
Но справедливый ли это упрек? Я думаю, несправедливый. О Бахтине-человеке мало что известно – о его сомнениях, срывах и тупиках. Хотя в нашем распоряжении немалое (и все возрастающее) число воспоминаний и свидетельств о жизни Бахтина, но, если к ним присмотреться и вдуматься, Бахтин больше внимательно слушал, чем говорил о себе или своих идеях. В беседах с Виктором Дувакиным лишь незначительно приоткрывается личность мыслителя. Если Гаспаров стал активным создателем своего публичного образа, а тем самым – участником собственной мифологизации, то у Бахтина для этого было куда меньше возможностей и еще меньше – желания и сил. Таким образом, когда авторы из редакции «НЛО» подытоживают в своем юбилейном выступлении, в чем, по их мнению, заключаются права и реалии личности [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005: 177], то предлагаемый ими кодекс личности звучит, во всяком случае для меня, совершенно в духе бахтинского кредо: «Личность исследователя неотменима, но ее обязанность не переоценивать ее (выделено в тексте. – К. Э.). Она не более ценна и интересна, чем личность других людей, которые имеют полное право быть чуждыми и непривычными» [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005: 177].
На этот счет Гаспаров и Бахтин, несомненно, согласились бы друг с другом. Они оба верили, что наша жизнь не ограничивается временем и пространством настоящего момента и что право выбирать место нашего жительства из всех возможных исторических эпох дано нам через слово. Оба всегда героически отказывались считать себя жертвами; в том и другом случае трудные условия только увеличивали их требования к себе, и достойный «филологический быт» был ответом на вызов времени.
2006
Литература
Бахтин 1929 – Бахтин М. Проблемы творчества Достоевского. Л.: Прибой, 1929.
Бахтин 1963 – Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963.
Бахтин 1975 – Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 72–233.
Бахтин 2002а – Бахтин М. М. Беседы с В. Д. Дувакиным. М.: Согласие, 2002.
Бахтин 20026 – Михаил Бахтин: Pro et Contra: В 2 т. / Под ред. К. Г. Исупова. Т. II. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 2002.
Бахтин 2002в – Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002.
Бочаров 1995 – Бочаров С. Событие бытия. О Михаиле Михайловиче Бахтине // Новый мир. 1995. № 11. С. 211–221.
Брагинская 2004 – Брагинская Н. В. Славянское возрождение античности // Русская теория: 1920-1930-е годы / Сост. и отв. ред. С. Зенкин. М.: РГГУ, 2004. С. 49–80.
Гаспаров 1979 – Гаспаров М. Л. Филология как нравственность //Литературное обозрение. 1979. № 10. С. 26–27.
Гаспаров 1993–1994 – Гаспаров М. Л. Критика как самоцель // Новое литературное обозрение. 1993–1994. № 6. С. 6–9.
Гаспаров 1997 – Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Гаспаров М. Л. Избранные труды: В 3 т. Т. II. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 494–496.
Гаспаров 2001 – Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 99–100.
Гаспаров 2003 – Гаспаров М. Л. Как писать историю литературы //Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 142–146.
Гаспаров 2004 – Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения. Материалы Международной научной конференции 10–11 ноября 2004 года. М.: Изд-во МГУ 2004. С. 8–10.
Гинзбург 1971 – Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971.
Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005 – Дмитриев А., Кукулин И., Майофис М. Занимательный М. Л. Гаспаров: академик-еретик («Анти-юбилейное приношение» редакции «НЛО») // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 170–178.
Махов 2005 – Махов А. Е. «Музыка» слова: из истории одной фикции // Вопросы литературы. 2005. № 5. С. 101–123.
Платон 1993 – Платон. Собрание сочинений: В 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. Т. II. М.: Мысль, 1993.
Попова 2004 – Попова И. О границах литературоведения и философии в работах М. М. Бахтина // Русская теория: 1920-1930-е годы / Сост. и отв. ред. С. Зенкин. М.: РГГУ, 2004. С. 103–114.
Bakhtin Circle 2004 – The Bakhtin Circle: In the Masters Absence / Ed. by C. Brandist, D. Shepherd, G. Tihanov. Manchester: Manchester University Press, 2004.
Brandist 2002 – Brandist C. The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture, and Politics. London: Pluto Press, 2002.
Branham 2005 – Branham R. B. The Poetics of Genre: Bakhtin, Me-nippus, Petronius // The Bakhtin Circle and Ancient Narrative I Ed. by R. B. Branham. Groningen: Barkuis Publishing & Groningen University Library, 2005. P. 3–31.
Frick 1997 – Frick D. A. Misrepresentations, Misunderstandings, and Silences: Problems of Seventeenth-Cetury Ruthenian and Muscovite Cultural History II Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine I Ed. by S. H. Baron and N. S. Kollman. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1997. P. 149–168.
Gearhart 1997 – Gearhart S. The Taming of Michel Foucault: New Historicism, Psychoanalysis, and the Subversion of Power // New Literary History. 1997. Vol. 28. № 3. P. 457–480.
Greenblatt 1988 – Greenblatt S. Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley: CA, University of California Press, 1988.
Greenblatt 1990 – Greenblatt S. Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture. New York and London: Routledge, 1990.
Greenblatt 1997 – Greenblatt S. What Is the History of Literature? // Critical Inquiry. 1997. Vol. 23. № 3. P. 460–481.
Holquist 1990 – Holquist M. Dialogism: Bakhtin and His World. London; New York: Routledge, 1990.
Holquist 2000 – Holquist M. Bakhtin and the Task of Philology: An Essay for Vadim // Indiana Slavic Studies. 2000. Vol. 11. In Other Words: Studies to Honor Vadim Liapunov I Ed. by S. H. Blackwell et al. P. 55–67.
Lee 1995 – Lee J. The Man Who Mistook His Hat: Stephen Greenblatt and the Anecdote // Essays in Criticism. 1995. Vol. XLV. № 4. P. 285–300.
Pechter 1987 – Pechter E. The New Historicism and Its Discontents: Politicizing Renaissance Drama // PMLA. 1987. Vol. 102. № 3. P. 292–303.
Poole 2001 – Poole B. From Phenomenology to dialogue: Max Scheiers phenomenological tradition and Mikhail Bakhtin’s development from “Toward a philosophy of the act” to his study of Dostoevsky // Bakhtin and Cultural Theory I Ed. by K. Hirschkop. Manchester: Manchester University Press, 2001. P. 109–135.
Religion 1997 – Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine I Ed. by S. H. Baron and N. S. Kollman. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1997.
Stevens 2002 – Stevens P. Pretending to be Real: Stephen Greenblatt and the Legacy of Popular Existentialism // New Literary History. 2002. Vol. 33. № 3.P. 491–519.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































