Читать книгу "Река"
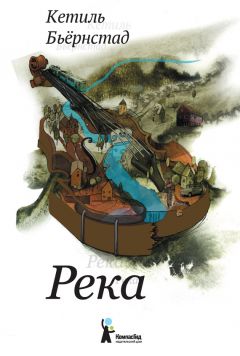
Автор книги: Кетиль Бьёрнстад
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Примирение и зачатие
Я прихожу в себя от того, что Сельма Люнге стоит надо мной с влажной тряпкой и стонет:
– Аксель! Аксель! Что случилось? Что с нами будет?
Я бормочу что-то невнятное и пытаюсь встать на ноги. У меня дрожат колени, но первым делом я должен убрать свою блевотину. Она желтая, кислая и ужасно пахнет. Сельма пытается помочь мне. У нее две тряпки. Я хватаю обе. Кровь из носа больше не идет.
– Прости, я виноват, – говорю я, меня душит чувство вины, словно я хотел ей навредить.
Тогда она тоже начинает плакать. Сельма Люнге рыдает! На это больно смотреть. Она не привыкла плакать. И пытается скрыть слезы. Пытается улыбнуться. Рястягивает губы. Из-за этого она кажется беспомощной. Но Сельма Люнге не должна быть беспомощной! Если она не будет сильной, мой мир рухнет, думаю я. Она все еще не в себе от того, что случилось. То, как она поступила со мной, может оказаться фатальным. Она это хорошо понимает. Но в чем моя вина перед ней? Кошка из угла выжидающе смотрит на нас. Ее имя – тайна, его знает только Сельма и сама кошка. Для всех остальных она просто Кошка. Я со страхом смотрю на Сельму, пытаюсь понять, что творится у нее в душе. Хотя однажды она и назвала себя темпераментной немкой, я подозреваю, что у нее в жилах течет испанская кровь, и сцена, которая только что разыгралась в гостиной, наверное, для нее обычна. Это меня утешает. Должно быть, я особенно важен для нее, я – избранный.
Пока я вытираю пол, она гладит меня по спине. Потом идет за мной, сначала в уборную, где я выливаю ведро, потом – на кухню, где я, показывая ей, какой я чистоплотный, споласкиваю обе тряпки в горячей воде, потом снова кладу в теплую и добавляю зеленого мыла. Дверь в прихожую открывается. Сельма этого не слышит. Но я оглядываюсь. Это Турфинн Люнге. Он со страхом смотрит на меня, волосы у него торчат в разные стороны, глаза вылезли из орбит на десять сантиметров. Я делаю вид, что ничего не заметил. Забываю, что у меня все лицо в крови. Если он слышал крики Сельмы, мне уже нечего к этому добавить. Здесь все нормально. У меня возникает сильное желание защитить Сельму, профессор не должен узнать, что минуту назад произошло в гостиной. Я уверен, что Сельме тоже хотелось бы сохранить это от него в тайне. Когда дверь за ним закрывается и мы остаемся одни, я заканчиваю стирать тряпки. Пока я выжимаю их, вешаю на кран и прячу ведро в шкаф, Сельма стоит, словно в трансе. Я боюсь, что теперь она потеряет сознание, потому что она как-то подозрительно покачивается. Но только я вымыл руки туалетным мылом и вытер их, она обнимает меня. Горячо, требовательно, с отчаянием, словно хочет убедиться, что она не потеряла меня, что я по-прежнему принадлежу ей. Я тоже обнимаю ее, инстинктивно, по-мужски, чувствую ее прижатую ко мне грудь, ее опьяняющий аромат, черные волосы, которые щекочут мне шею. Она очень привлекательна, но я никогда не осмеливался фантазировать о ней так, как фантазирую о женщинах, встреченных на улице, хотя меня и волнует мысль о том, что, возможно, у Сельмы есть молодой любовник – виолончелист из Филармонического оркестра. Словно угадав мои мысли, она быстро отстраняется от меня и уходит в гостиную. Наконец мы справились со своими слезами. Одинаково растерянные и дрожащие, мы стоим посреди гостиной. Только тут она видит мое лицо.
– Господи, Аксель, что у тебя с лицом! Тебе надо смыть кровь! Иди скорее в ванную!
Я подчиняюсь, несмотря на то, что ноги едва держат меня и голова кружится – у Сельмы тяжелая рука.
Турфинн Люнге ждет меня в прихожей. Взгляд у него еще более безумный, чем всегда, если только это возможно.
– Что случилось? – шепотом спрашивает он и тычет одним пальцем в сторону гостиной, а другим – мне в лицо.
– Ничего, – тоже шепотом отвечаю я. – Просто у меня носом пошла кровь.
Он взвизгивает, как собака, испуганно и оторопело смотрит на меня. Потом бежит по лестнице в свой кабинет, причитая уже в полный голос.
Когда я, умывшись, возвращаюсь в гостиную, Сельма Люнге сидит ссутулившись и ждет меня. Раньше она никогда не сутулилась. Увидев меня, она выпрямляет спину и пытается принять обычный вид.
– Нам надо поговорить, – говорит она.
– Да, надо. – Я боюсь того, что она скажет. Может быть, это конец. Может, она откажет мне. Как раз сейчас я этого боюсь. Я больше не выдержу ни одного удара.
– Я так радовалась, что снова увижу тебя, – говорит она. – Все лето я строила для тебя большие планы.
– Ты всегда была очень внимательна ко мне, – бормочу я.
– Большие планы, Аксель.
Я киваю, глотаю слюну, пью чай.
– Помни, уж если ты играешь, то надо, чтобы в твоей игре была глубина. Сейчас в твоей игре не было глубины. И почти никакой техники. Когда ты играл Шопена, ты обнаружил нечто очень важное. Подумай, сколько тысяч пианистов играли до тебя эти этюды, пытались справиться с этими невозможно трудными техническими задачами. Для одних это было форменное наказание. Но для лучших, для избранных, это была музыка. Фантастическая музыка, с множеством подтекстов. Поэтому Шопен – это Шопен, а Черни – это Черни. Но ты предпочел играть этюды Шопена так же послушно и бесталанно, как тысячи пианистов играли их до тебя. К тому же у тебя плохая техника. Но плохая техника не извиняет того, что ты даже не пытался интерпретировать, не пытался хоть что-то выразить. Ты об этом просто забыл, занятый только техникой. Ты думал, что меня тоже волнует только техника. Ты не понял, что, когда я пересела поближе к роялю, я сделала это, чтобы услышать музыку, независимо от твоих достижений в технике. Неужели ты так и не понял того, что я все время пыталась тебе внушить? Помнишь свое детство? Ты был такой же, как все дети. Как и они, бежал к ближайшей луже. Снова и снова. Все дети любят лужи. Почему Бог так недобр? Почему позволяет, чтобы все родившиеся на земле дети любили грязь? Почему в детстве мы не стремимся к чистоте? Да. Не стремимся. Мы созданы так, что нам надо выпачкаться в грязи. И, вместе с тем, мы – люди. У нас есть воля. Мы знаем, что когда-то умрем. Нам не разрешают лезть в лужи. Мы плачем от отчаяния и кричим: «Несправедливо!» Но это ничего не меняет. Взрослые, те, кто до нас прошел этот путь, объясняют нам: то, что нам инстинктивно хочется делать в первые годы нашей жизни, неправильно. Мы рождаемся с любовью к грязи, нам хочется вываляться в ней. В лучшем случае мы понимаем, что инстинкт – не всегда наш друг. И тем не менее. Множество людей по самым различным причинам так этого и не понимают. Ты мог неоднократно это наблюдать. Есть люди, которые не стирают свою одежду, пока им кто-нибудь не скажет, что это необходимо. Они ходят грязные, на них неприятно смотреть, у них жирные волосы и спина покрыта перхотью. У них грязные, неухоженные руки, и мне страшно подумать, как пахнет от их одежды. Но они этим даже гордятся! Так же, как маленькие дети гордятся своими дурными выходками, не понимая, что упрямство такого рода опасно для них самих. Оно не переделает общества, как его переделало упрямство Ленина. Оно может только навредить им самим. Собственно, им хотелось бы вернуться к той стадии своей жизни, когда они играли в песочнице, валялись в грязи или бросались камнями в своих товарищей. Став взрослыми, они становятся неумёхами, неспособными найти полезное дело, не видящими разницы между теплым и холодным, кислым и сладким, правым и левым. Тебе приходилось бывать в ванных, где горячий кран находится на месте холодного и наоборот? В конце жизни такие люди оказываются в домах престарелых, озлобленные, бранящие всё и вся, с укоренившейся в них любовью к грязи. Они возвращаются к своей исходной точке. Их больше не касаются требования и обязательства взрослых. Они пребывают в счастливом неведении о том, что что-то упустили. Неужели, Аксель Виндинг, ты и в самом деле хочешь раствориться среди посредственности? Вспомни Баха. Его музыкальный успех при жизни был не слишком велик. Но он трудился как муравей. День за днем. Ночь за ночью. Как думаешь, сколько дней он потратил на то, чтобы написать «Страсти по Матфею»? Совсем немного. Он написал это одним махом, потому что уже обладал необходимым мастерством для такой работы. Чтобы быть мастером, необходимо иметь опору, иметь силу. Силу в пальцах. Силу в мыслях. Силу в жизни. Справишься ли ты с этим? Выдержишь ли эту изнурительную повседневную работу, эту философию неприхотливости для того, чтобы приобрести благородство, необходимое для истинного мастерства, чтобы подняться над изнеженностью? Выбор за тобой.
Я сижу, уронив голову на руки. Я мог бы сразу сделать выбор. Мог бы уйти. Стать свободным. Но вместо этого я выслушиваю ее тирады, ловлю отзвуки ярости, которые должны оправдать то, что недавно случилось. Верит ли она сама тому, что говорит? Как бы то ни было, но ей удается восстановить свои позиции. Восстановить соотношение сил. Я играю роль раскаявшегося грешника, хотя чувствую в себе только пустоту. Я понимаю, что важен для нее, что должен воспринимать как привилегию знакомство с ее безумной яростью. Понимаю, что выбор, который мне предстоит сделать и который я, вообще-то, уже сделал хотя бы потому, что сразу не ушел отсюда, важен для моей будущей жизни. Если бы я встал и ушел, я бы обрел свободу, и тогда могло бы случиться все что угодно. Но я остался сидеть, потому что знаю: она играет важную, может быть, даже самую важную роль в моей жизни. Сельма Люнге продолжает говорить, продолжает оправдываться, резонерствует, постепенно удаляясь от своего гнева и своего разочарования во мне. Таким образом она стирает меня в порошок, обращает в прах каждую мою мысль. По ее словам, ничего страшного не случилось. Она по-прежнему верит в меня! И я не перечу ей. Не перечу ни в чем. Я гожусь только на то, чтобы вечно быть ее послушным, всегда виляющим хвостом учеником. Радующимся, что оказался избранным, несмотря на свою низкую измену. Несколько фраз, и все становится как прежде, однако наша зависимость друг от друга только усиливается. Мы оба увидели то, чего не должны были видеть. Наши отношения стали более интимными, чем отношения страстных любовников. И меня пугает, что эта перемена произошла так быстро, что моя сила испарилась, что в этих четырех стенах звучит только поучающий голос Сельмы Люнге и ничего кроме него. А она в это время смотрится в маленькое ручное зеркальце и подправляет свой макияж, не стесняясь моего присутствия.
Неожиданно становится тихо. Она наконец замечает мою усталость. Уже вечер. В гостиной совершенно темно. Сельма не зажгла свет. Я слышу, как на втором этаже ходит Турфинн Люнге.
– Что мы теперь будем делать?
Она наклоняется ко мне. Гладит по голове, проводит ладонью по моим щекам, словно я ребенок. Но не дает мне времени, чтобы ей ответить.
– Прости меня, когда я бываю такой, – говорит она, ее красивое серьезное лицо совсем близко от моего. Я чувствую ее дыхание. Оно напоминает мне дыхание Ани, когда мы лежали в постели. Что-то горячее и затхлое, идущее из желудка.
– Я не хотела причинить тебе зло. Но и в моей жизни есть кое-что, что для меня важнее всего остального. Это ты, Аксель! С первой минуты, когда я тебя увидела, я поняла, что ты – редкий талант. Избранный. Ты тронул меня. Аня и Ребекка тоже трогали меня, но это было совсем другое. У Ребекки была глубина, но у нее не было воли. У Ани была воля, но не было глубины. Ты можешь добиться и воли, и глубины. Но ты должен хотеть этого. Тяжелые дни, проведенные в одиночестве. Часы за роялем. Ты хочешь этого, Аксель? Как раз сейчас я думаю о том, хватит ли у тебя необходимой глубины и воли, чтобы дебютировать через девять месяцев.
Я смотрю на нее, неуверенный и смущенный.
– Дебютировать? Но ведь я так плохо играю.
Она пожимает плечами:
– Каждый может играть плохо. Но я слышала, когда ты играл хорошо. Все зависит от твоей воли. У каждого в жизни может встретиться своя Ребекка Фрост.
– Ты хочешь, чтобы я дебютировал в июне будущего года?
– Да. А именно в среду, девятого июня.
– Знаменательная дата.
– Какая же? – Она смущенно улыбается. Я никогда не видел ее смущенной.
– Твой день рождения.
Она краснеет.
– Да, это мой день рождения. Только никому об этом не говори. Я не потому выбрала этот день. Рождение – это неважно. Я не собираюсь напоминать о себе. Пусть это останется тайной. Я не праздновала и свое пятидесятилетие. В таких случаях важно прислушиваться к своему сердцу.
– И что же тебе говорит твое сердце?
– Что жизнь дала мне многое и что я мало что могу требовать для себя лично, что твой успешный дебют – это лучший подарок, какой я могу получить в этот день.
Я целую ее руку, которую она поднесла к моим губам. Так она захотела. Она любит, когда я ей поклоняюсь. Она ждет этого. Я ее не разочаровываю. Ритуал примирения. Мы оба нуждаемся в таком ритуальном напряжении между нами. Оно в любую минуту может стать смешным. Но мы оба знаем, где проходит грань.
В нужный момент она убирает руку.
– Как думаешь, что я делала в Мюнхене все лето? – спрашивает она.
– Думала обо мне, – отвечаю я с бессильным смешком.
– Да, думала о тебе. А хочешь узнать, что именно я думала? Я думала, что ты будешь моим последним учеником.
– Этого не может быть!
– Может. Я решила, что с меня хватит. Мне уже пятьдесят. Я пережила несколько очень сильных разочарований. И с Аней, и с Ребеккой я связывала большие надежды. Как думаешь, почему я перестала выступать? Почему решила отказаться от фамилии Либерманн? Когда-то мне хотелось что-то дать людям. Я была молодой и очень смелой. Думала, что у меня в жизни еще много всяких возможностей. Когда я переехала из Германии в Норвегию и взяла фамилию Турфинна – Люнге, я была уверена, что все будут помнить меня, что старые друзья будут мне звонить, сообщать обо всех важных событиях. И главное, я любила Турфинна и хотела, чтобы у нас было много детей. Как тебе известно, я родила троих детей. И у меня было несколько кошек. И прекрасный дом с роялем «Бёзендорфер». Однако оказалось, что мне этого мало. Ученики стали главным в моей жизни. Без них я бы зачахла. Но в Норвегии не так много учеников. Настоящих талантов. А последние два года были просто катастрофой, потому что и Аня, и Ребекка, с которыми я связывала столько надежд, так ужасно провалились. Я их не упрекаю. Одна из них умерла при трагических обстоятельствах. Другая предпочла посредственность и хочет быть счастливой в своих рамках. Ну что ж, Бог им судья. Теперь настала твоя очередь. У меня больше нет времени на ошибки.
– Чего ты от меня хочешь? – спрашиваю я слабым голосом.
Она смотрит на меня с нежностью. Это уже не обезумевшая женщина, которая размахивает линейкой. Это сильный, спокойный, опытный педагог, которого все уважают, которым восхищаются и о котором говорят.
– Я хочу, чтобы ты дебютировал девятого июня будущего года, – повторяет она. – И знаешь, почему?
– Нет.
– Потому что до этого дня осталось девять месяцев. Потому что это органически связано с вечным основополагающим для нас, для людей, циклом. Потому что это будет дебют моего последнего ученика. Потому что после этого я перестану преподавать и буду писать докторскую диссертацию о Рихарде Штраусе и его связи с баварской народной музыкой. Потому что я пригласила несколько своих высокопоставленных друзей на мой запоздавший юбилей. Они мне не откажут. Я могу назвать Лютославского и, может быть, Пьера Булеза. Но они не знают, что приедут, чтобы услышать тебя. А за эти девять месяцев мы пошлем тебя в Вену, там мой добрый друг Бруно Сейдльхофер за несколько дней сможет поправить и дополнить все мои указания уже, так сказать, на финишной прямой. Потому что это станет концом моей карьеры и началом твоей. Я всегда именно так представляла это себе. И это очень серьезно. Если, конечно, ты согласен.
Я не знаю, что ей сказать.
– Я уже поговорила с твоим импресарио. В. Гуде, – говорит она.
– И что?
– Он считает, что ты будешь иметь грандиозный успех. Он сделает все, что в его силах, чтобы этот концерт оказался большим событием.
Я сижу в задумчивости. Что бы они там ни решили, а играть-то придется мне. Неужели она серьезно считает, что я справлюсь? Так во мне уверена? Или я просто пешка в ее игре?
Она замечает мою растерянность.
– Ты все еще не понимаешь, что, несмотря ни на что, я верю в тебя?
– Во что ты веришь?
– В то, что ты – избранный. Что ты обладаешь совершенно особым талантом, и потому изволь с этим считаться. Как, по-твоему, что облагораживает человека? Сопротивление. Препятствия. Неоднократные неудачи. Воля и глубина. Все остальное – мягкотелость. Очистился ли ты теперь? Достаточно ли плохо играл? Почувствовал ли себя растоптанным? Несправедливо обиженным? Неужели ты до сих пор не понимаешь, что ты самый талантливый ученик из всех, какие у меня были? Не понимаешь, что мне понятны все твои чувства? Твоя сила? Твои явные слабости? Красота, спрятанная глубоко в тебе? Не понимаешь, что у меня из-за тебя сердце обливается кровью? И потому ты не смеешь угощать меня посредственной игрой, как сделал это сегодня! Выбор за тобой, Аксель. Если ты мне доверишься, я приведу тебя на вершину. Но в таком случае ты должен делать то, что я тебе говорю. Тогда ты будешь заниматься, играя этюды Шопена. Тогда у тебя не будет никаких отвлекающих отношений с глупыми, богатыми и жадными до удовольствий дамочками. Тогда ты не выпустишь из рук собственную жизнь. Она будет суровой и скромной. Если тебе нужны короткие отношения, ради Бога. Но ни с кем себя не связывай. В твоем возрасте любовь может оказаться врагом. Ты еще не можешь управлять своей жизнью и своими чувствами. Самая большая твоя опасность – это сила твоих чувств. Ты понимаешь, о чем я говорю? В твоем возрасте люди нередко кончают жизнь самоубийством. Как я понимаю, Аня тоже совершила своеобразное самоубийство, независимо от того, что сделал или не сделал ее отец. Хочешь последовать за ней? Хочешь, буквально говоря, валяться в грязи, пока через пятьдесят лет не приедет экскаватор и не разроет твою могилу, чтобы положить поверх тебя новых покойников? Потому что тебя забудут, потому что никому не захочется вспоминать тебя и всю грязь, все ничтожество, в котором ты барахтался. Тебя просто сметут, как внезапный апрельский град, который за несколько минут превращает цветущий ландшафт в пустыню.
В гостиной по-прежнему темно. Сельма кажется мне тенью. Кошка наконец заснула в угловом кресле, свернувшись в собственном мирке. Интересно, Сельма сознательно не зажигает свет? Турфинн Люнге кругами ходит на втором этаже.
– Когда ты пришел сегодня ко мне, у меня уже все было продумано.
– Что именно?
– Что тебе предстоит играть в тот вечер.
– И что же мне предстоит играть?
– Я потратила на это все лето. Положись на меня. Я рассказала о тебе Маурицио Поллини. Мы играли в четыре руки. Мы с ним совершенно разные. У него все идет от головы, он такой же упрямый и самоуверенный, как Глен Гульд, и у нас с ним было несколько крупных ссор, хотя мы встречались только за чашкой кофе. Но, в отличие от Глена, он открыт миру, это жизнерадостный итальянец. Глен, собственно говоря, кусачая лошадь. Его аскеза добровольна, напыщенна и ошибочна. К тому же никто не может играть хорошо, сидя за роялем со скрещенными ногами. Глен отвел себе особое место в своем огромном мозгу, в своих вздорных идеях, в своей стране, Канаде, этой ненормально большой провинции, он – расточитель, и его почтовый адрес – одиночество. Ежедневное, длящееся всю жизнь влияние природы постепенно доводит человека до безумия. Глен теперь все больше и больше выглядит трусом, выживающим за счет вариаций Гольдберга. Что еще останется о нем у нас в памяти? Маурицио не такой, он гораздо смелее, не так расчетлив, он ничего не отвергает, хотя, конечно, он менее одарен, чем Глен. Но в противоположность Глену он позволяет себе быть сентиментальным, показывать чувства. И он не забыл, что такое быть молодым. Я рассказала ему о тебе и твоих возможностях. Он дал мне важный совет: начать с чего-нибудь неожиданного. Чего-то нового и свежего. А потом уже можно углубиться обратно в историю. Прислушавшись к этому совету, я предлагаю, чтобы в первом отделении ты исполнил Фартейна Валена. Две прелюдии, опус 29. Потом седьмую сонату Прокофьева. Ту, с необыкновенно трудной последней частью, которую играла Аня Скууг, когда она тебя обошла. Помнишь? Но ты сыграешь ее лучше. И публика уже будет у тебя в руках. После этого ты дашь ей отдохнуть на прекрасном, это будет фантазия фа минор Шопена. А после антракта все начнется всерьез: Бетховен, опус 110. Почему? Да потому, что это уже сама жизнь. Потом Бах. Как предпосылка к дальнейшему развитию истории музыки. Прелюдия до-диез мажор и фуга из «Хорошо темперированного клавира», том 1. А на бис? На бис Уильям Бёрд, «Павана» и «Гальярда».
Она с восторгом смотрит на меня, как друг, как ровесник. Она горячо верит в свой проект, который должен стать и моим. Сейчас она – молодая студентка из Германии. Щеки пылают. Глаза блестят. Она полна веры в будущее. Она уже забыла то страшное, что недавно здесь случилось. Любить ее уже поздно. Поэтому я и люблю ее. Это надежно. И немыслимо. Ребекка предупреждала меня: «Берегись Сельмы Люнге! Она соблазняет молодых людей». Но, может, именно сейчас Сельма – единственный друг, какой у меня есть.
– Да, – говорю я с благодарностью. Непостижимым образом она внушила мне, что это возможно. Программа очень трудная. Опасная. Но я должен с нею справиться.
– У меня нет слов, как я благодарен тебе за твою заботу, – говорю я. – Обещаю, что буду заниматься, слушаться тебя и учиться. Буду делать все, что ты говоришь. Через девять месяцев, начиная с сегодняшнего дня?
Она многозначительно кивает:
– Да, через девять месяцев. Договорились?
– Договорились.
Она берет мои руки. Мне больно. Но она смеется, как маленькая девочка.
– Наконец-то жизнь мне улыбнулась! Наконец я могу снова во что-то верить!









































