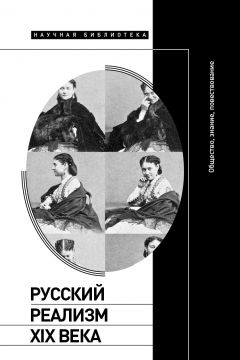
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Влиятельнейшая интерпретация реализма XIX века как течения, занятого описанием и исследованием современного социального мира, была предложена Д. Лукачем. Уже в «Теории романа» (1916), пронизанной терминологией немецкого идеализма, Лукач определяет роман как «эпопею эпохи, у которой больше нет непосредственного ощущения экстенсивной тотальности жизни, для которой жизненная имманентность смысла стала проблемой, но которая все-таки тяготеет к тотальности»[42]42
Лукач Г. Теория романа (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики) // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 32.
[Закрыть]. Уже в этом тексте Лукача «тотальность» практически синонимична с общественной жизнью; позднее он опишет их тождество в марксистских категориях. В памятном разборе «Утраченных иллюзий» Бальзака Лукач предлагает читать этот роман как систематический анализ неотвратимого «превращения духа [т. е. сознательной человеческой деятельности] в товар» в буржуазном обществе и его последствий для общественных институтов, взаимоотношений между людьми и отдельной личности[43]43
Лукач Г. «Утраченные иллюзии» // Лукач Г. К истории реализма. М.: Гослитиздат, 1936. С. 215.
[Закрыть]. Согласно Лукачу, Бальзак создает широкую картину современного общества как сети тончайших взаимосвязей, подчиняющихся общей логике и проявляющихся в перспективе субъекта в отчуждении (от общественных процессов, конкретных лиц, собственных творческих возможностей). «Действительность», таким образом, предстает социально и исторически обусловленной системой общественных отношений. Ее закономерности являются индивиду во враждебном обличии, разрушающем надежды, желания и идеалы. В судьбе отчужденной личности манифестируется властвующий над ней общественный (бес)порядок. Такой взгляд – представленный не в последнюю очередь в советском сборнике Лукача «К истории реализма» (1936), куда вошла и работа о Бальзаке, – стоял за заезженным термином «критический реализм» в советской науке о литературе XIX века, а также за понятием «трагического реализма» у западных исследователей, более или менее прямо связанных с наследием «марксистского гуманизма»[44]44
См. Orr J. Tragic Realism and Modern Society: Studies in the Sociology of the Modern Novel. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1977.
[Закрыть].
Такой подход позволяет осмыслить исторические импликации реализма, однако чаще всего оставляет в стороне тот факт, что само понятие общества в его абстрактном и всеобъемлющем значении только складывалось в обсуждаемую эпоху. В этом процессе реалистические тексты играли узловую роль. Бальзак объявлял, что его «Человеческая комедия» должна соперничать с институтами государственного учета гражданского состояния (l’État-Civil), учрежденными Французской революцией – важнейшим биополитическим инструментом конструирования общества в его специфически-модерном понимании. В исследовании Мэри Пуви «Конструирование общественного тела: становление британской культуры в середине XIX в.» («Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830–1864», 1995) описана роль английского романа среди конкурирующих модусов осознания и воображения постепенно возникающей общественной цельности. Бенедикт Андерсон в классической работе «Воображаемые сообщества» видит в романе Нового времени узловую символическую форму складывающейся нации как огромного единого «социологического организма, движущегося по расписанию сквозь гомогенное, пустое время»[45]45
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. C. 47.
[Закрыть].
Фредерик Джеймисон в книге «Политическое бессознательное: повествование как социально-символический акт» («The Political Unconscious: Narrative As A Socially Symbolic Act», 1981) возобновляет намеченное Лукачем направление мысли, но придает ему отчетливое продуктивистское измерение. Литература реализма предстает у него инструментом распространения специфических представлений об обществе, отвечающих и подчиняющихся логике расширяющегося капиталистического рынка. В этом своем качестве реалистические сочинения оперируют на уровне общественного воображения, размывая социальные – и соответствующие им жанровые, стилистические и повествовательные – границы и формы. Они стирают дифференцированность действительности, позволяя тем самым рационализировать и исчислить ее, облегчая победу товарной формы в общенациональном масштабе. Таким способом реалистическая литература создает «то самое „означаемое“ – вновь сложившееся исчислимое пространство экспансии и рыночной эквивалентности, новый секулярный и „расколдованный“ предметный мир товарной системы, с его посттрадиционным бытом и приводящей в замешательство „бессмысленно“-эмпирической случайной средой, Umwelt, реалистическое отражение которой этот новый повествовательный дискурс затем поставит себе в заслугу»[46]46
Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981. P. 152.
[Закрыть].
Между теорией отражения Лукача и ее продуктивистской реинтерпретацией у Джеймисона лежит важнейший методологический сдвиг в (левых) историцистских подходах к литературе. Этот сдвиг связан с несколькими именами и направлениями, вышедшими на авансцену в 1960–1970‐х годах. Важное место среди них занимал уже упомянутый Реймонд Уильямс, один из основателей cultural studies. Возобновляя восходящее к Грамши понятие гегемонии, Уильямс описал при его помощи активную (а не просто «отражающую») роль культурного производства в формировании и распаде общественных формаций. Не менее важна и предложенная Луи Альтюссером реинтерпретация работы идеологии и введенные им понятия «структурной причинности» (узловой для перетолкования Лукача у Джеймисона) и «относительной автономии» (важной для Пуви и других). Расцвет «нового историзма», хотя хронологически следовал за работами Джеймисона, опирался на генеалогические исследования Фуко (к нему мы еще вернемся). Наконец, отечественная школа семиотики культуры, чье воздействие признают важнейшие представители нового историзма, отказывается и от упрощенной веры в эстетическую автономию литературы, и – в полемике с официальным марксизмом – от подхода к ней как типическому отражению заданной социальной реальности. Вместо этого литература предстает «моделирующей системой» – символической формой, в которой кристаллизуются и артикулируются общественные представления о социуме и личности. Классический пример этого подхода – работа Лотмана «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века». На нее опирается, существенно развивая ее, уже упомянутая важнейшая монография И. Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма» (1988), исследующая «реализм» как эстетическую систему и историческую констелляцию. И у Лотмана, и у Паперно литературные тексты рассматриваются как модели для самосознания и поведения. В западных «продуктивистских» описаниях реалистического общественного воображения исторический анализ самосознания чаще всего уступает место более спекулятивным способам аргументации. Это можно связать, в частности, с тем фактом, что в Англии и Франции XIX века мы имеем дело с намного более массовой читающей публикой, что заставляет рассуждать в более общих категориях (таких, как «класс», «нация» и т. п.), а не анализировать отдельных читателей или читательские кружки.
Несколько менее известны – и, вероятно, не столь прямо применимы в литературоведении – работы Корнелиуса Касториадиса, чьим термином «социальное воображаемое» (l’imaginaire social) озаглавлен один из разделов предлагаемого издания. Их проблематика, однако же, прямо связана с очерченными выше вопросами. В книге «Воображаемое установление общества» («L’Institution imaginaire de la société», 1975) Касториадис определяет общественное воображаемое как коллективный процесс артикуляции и распределения социальных позиций и смыслов, концептуально предпосланный самому различию между субъектом и объектом и определяющий способы осуществления этого различия в каждой конкретной общественной конфигурации. Коллективное действие учреждения общества в воображаемом, пролегающее глубже деления на означение и существование, может быть понято как ряд молчаливых ответов на непроизнесенные вопросы о природе этого общества: «кто мы есть как коллектив? чем мы являемся друг для друга? где мы, чего мы хотим, к чему стремимся и чего нам недостает?»[47]47
Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. Г. Волкова, С. Офертас. М.: Гнозис, 2003. C. 165.
[Закрыть] – ответов, лежащих в основе всякого социального действия и взаимодействия. Касториадис спорит с теми из марксистов, кто настаивает на радикальном различии между производством и воспроизводством человеческой жизни и «смыслом, который [эта деятельность] в себе несет». «Труд людей (как в самом узком, так и в самом широком смыслах этого слова) через свои характеристики – объекты, цели, приемы, инструменты – указывает на специфичный для каждого общества способ постижения мира, определения себя как потребности, на отношения к другим человеческим существам»[48]48
Там же. О социальных воображаемых Нового времени см.: Taylor Ch. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 2004. Новейшие статьи о работе социального воображения у Достоевского и Толстого см. в блоке «Литературная эпистемология социального» (Новое литературное обозрение. 2019. № 1 (155)).
[Закрыть]. В этой перспективе не остается места жесткому разделению на базис и надстройку, на которое опираются истолкования реализма как «отражения действительности». Не остается оснований и для прямолинейных представлений об эстетической автономии. Вместо этого можно заключить (возвращаясь к нашей теме), что реалистическая литература возникает параллельно с современным представлением о социальном субъекте как таковым. Черпая повествовательные и концептуальные модели из современных ему сценариев общественной жизни, реализм – может быть, даже более интенсивно, чем литература других эпох, – участвует в производстве социального воображаемого и, таким образом, имеет прямые – хотя зачастую осложненные противоречиями – социополитические последствия.
Предпосылки такого рода заметны в нескольких работах настоящего сборника. Так, Вадим Школьников исследует судьбу гегельянского тезиса о конце искусства в сочинениях Белинского и показывает, как критик приходит к представлению о реалистическом искусстве как форме общественного действия. Критическая мысль Белинского, в которой складываются очертания русского реализма, оказывается настолько же удалена от теории отражения, как от чистого эстетизма. Она созвучна скорее идеям нашего времени об активно-конструктивистских отношениях реализма к «жизни». В статье Кирилла Зубкова о «Губернских очерках» Щедрина речь идет о том, как в формальной организации повествования обнаруживается отказ от логик типизации и нарративного означения действительности. Общественные факты предстают читательскому взгляду без опосредующего повествовательного истолкования. От читателя требуется активная позиция: он должен сам прочертить связи описанных персонажей и событий с собственным социальным миром.
В самом акте чтения, таким образом, порождается новый тип субъектности – позиция политически активного гражданина. В этом смысле выкладки Зубкова напоминают о выводах Кэтрин Гэллэгер, устанавливающей взаимосвязь между развитием фикциональности (повествовательного модуса, требующего от читателей специфического сочетания веры и недоверия) в английском романе XVIII века – и становлением определенного модуса субъектности, построенного на иронии, рефлексии и готовности к кредитным расчетам и отвечающего условиям формирующейся капиталистической модерности[49]49
Gallagher C. The Rise of Fictionality // The Novel / Ed. by F. Moretti. Princeton: Princeton University Press, 2006. Vol. 1. P. 336–363. Вместе с тем рассмотренный Зубковым материал высвечивает особенности русской ситуации, в которой нероманные жанры – физиологический очерк, цикл очерков, рассказ, повесть, хроника и даже эпос – играют более или менее узловую роль в формировании реализма и в его каноне. Жанр, понятый как «договор между писателем и читателем», приводящий в действие «определенные ожидания» и таким образом обусловливающий «и соблюдение, и нарушение принятых форм понимания», оказывается важнейшим моментом текстуального порождения и воспроизводства социального воображаемого. См.: Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975. P. 147. В этом отношении, как и во многих других, выстроенные вокруг романа западные теории реализма должны подвергнуться трансформации и обогащению при столкновении с русским реализмом и его жанровым многообразием.
[Закрыть].
Посвященная отразившимся в «Анне Карениной» историческим контекстам работа Михаила Долбилова освещает границу между текстом и действительностью, так сказать, с другой стороны. Здесь налицо «структурная причинность», связывающая внутритекстовые темы – поиск героем подобающей формы чувств, укореняющей его в мире (в данном случае веры), – с разворачивающимся в исторической действительности всплеском религиозно-патриотического энтузиазма по поводу войны на Балканах. Иными словами, здесь мы имеем дело не со способностью текста артикулировать социальное воображаемое и таким образом воздействовать на субъектность читателей, – но с обратной способностью контекста деформировать аффективную организацию художественного мира, сдвигать ее аксиологические установки, менять акценты, вводить новые «структуры чувства», соотнесенные с аналогичными структурами общественного опыта.
Понятие «структур чувства» было введено Реймондом Уильямсом и обозначает насыщенные аффектами имплицитные представления о мире, опирающиеся на определенные сценарии социальности и зачастую артикулируемые в художественных произведениях. За этим переплетением аффекта с социальным воображаемым встает вопрос о роли эмоций в общественном существовании. Так, Уильямс говорит о смене общественного отношения к бедности в викторианской Англии благодаря, в частности, романистам вроде Диккенса и Эмили Бронте[50]50
См.: Williams R. Marxism and Literature. Oxford; New York: Oxford University Press, 1977. P. 132–134. См. также новейшую работу Джеймисона об аффектах в литературе реализма, о которой пойдет речь ниже: Jameson F. The Antinomies of Realism. London; New York: Verso, 2015.
[Закрыть]. Долбилов прослеживает в «Анне Карениной» нормативный пласт такого рода, касающийся еще более фундаментальных представлений о том, что должно и не должно считаться истинным чувством (тихое, личное, несводимое к разумным основаниям, но не противоречащее им, – а не экзальтированное, публичное, демонстративно-иррациональное). В «Анне Карениной» – как вообще у Толстого – специфически-политические аффекты неизбежно находятся под подозрением. Напротив того, в фокусе работы Кирилла Осповата о сентиментальной поэтике «Бедных людей» Достоевского располагаются именно политические аффекты. Как и у Уильямса, речь тут идет об отношении к бедности и беднякам. Осповат описывает сложную «структуру чувства»: возмущение и ужас соседствуют с отстраненным состраданием, отвечающим устройству сентиментального повествования как эстетического объекта и рассчитанного на продажу на книжном рынке товара. Сам акт изображения «бедных людей», привлекающий внимание к их беде, соотнесен с актом политического представительства и подчинен той же самой дилемме: как участие в политической сфере возможно только при условии отчуждения своих прав в пользу другого, так и «бедные люди» появляются в романе как товар, отчужденный предмет эстетического потребления. Эстетическое сочувствие одновременно открывает глаза на бедность и нейтрализует политические последствия этого акта.
Выводы Осповата в известной степени согласуются с заключениями статьи Беллы Григорян о «Неточке Незвановой». И в этом романе исходно политический импульс образования, Bildung, связанный с обещанием политической уполномоченности, нейтрализуется превращением его в товар. В центре внимания Григорян стоят не столько аффекты, сколько жанры «средней» словесности и различного рода объекты – товары, при помощи которых героиня-повествовательница учится привлекать и удерживать внимание читателя. В «Неточке Незвановой» главное достижение homo narrans – превращение в homo oeconomicus.
Обе эти работы, прослеживающие механику обезвреживания политического, могут быть соотнесены с недавним тезисом Джеймисона о принципиальной антиполитичности реалистической поэтики:
Онтологический реализм, утверждающий осязаемую устойчивость существующего – будь то в сфере психологии и чувств, институтов, предметов или пространства – не может, по самой природе своей, не видеть угрозы в любом представлении о том, что все это подлежит переменам, а не онтологически неизменно. Сам выбор этой формы означает профессиональное одобрение существующего порядка, присягу на верность, подразумеваемую усвоением этой эстетики[51]51
Jameson F. The Experiments of Time: Providence and Realism // The Novel. Vol. 2. P. 112–113.
[Закрыть].
По сравнению с аналогичным тезисом из «Политического бессознательного» можно заметить некоторый сдвиг акцента. «Эффект реальности», он же «принцип реальности», теперь понимается не как форма артикуляции социального воображаемого, оправдывающего складывающийся мир товарного производства, но как способ утверждения и обороны дисциплинарных институтов, аффектов и идеологем: домашности, быта, гендерных ролей, личной благотворительности, ужаса перед радикализмом и т. п. Действительно, между публикацией «Политического бессознательного» в 1981 году и работы 2006 года в изучении реализма произошел своего рода «дисциплинарный поворот». Под воздействием генеалогических исследований Фуко – о клинике, тюрьме и сексуальности – исследователи стали говорить о деятельной силе литературы в сфере социального воображения и структур чувства[52]52
Процитируем выразительную формулировку Нэнси Армстронг: «внутренний состав любого текста есть история его борьбы с противоположными изобразительными формами за власть над семиозисом. В этом отношении различия между тем, что внутри текста, и тем, что вне его, не существует» (Armstrong N. Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel. Oxford; New York: Oxford University Press, 1987. P. 23).
[Закрыть], о способности романа «создавать» реальность, сообщая действительность господствующим дискурсам, институтам и модусам «распределения чувственного» (Рансьер)[53]53
См.: Ranciere J. The Politics of Literature // SubStance. 2004. Vol. 103 (33.1). P. 10–24.
[Закрыть].
Образцовыми примерами этого исследовательского направления стали две вышедшие почти одновременно книги: «Желание и литература домашности: Политическая история романа» («Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel», 1987) Нэнси Армстронг и «Роман и полиция» («The Novel and the Police», 1988) Д. А. Миллера. В обеих работах викторианский реализм предстает проводником дисциплинарной власти, скрывающейся в определенных формальных приемах (сюжетной законченности, всеведущего повествователя, несобственно-прямой речи) или морализирующем языке домашности и нормативных гендерных ролей. По словам Армстронг, возникновение буржуазной домашности и ее социального воображаемого приводит к вытеснению других способов устройства человеческих взаимоотношений, переводя «обширные зоны культуры в сферу заблуждения и шума»[54]54
Armstrong N. Op. cit. P. 24.
[Закрыть]. Миллер так описывает итог этого процесса: «Смысл этого упражнения [романа], – беспрестанно внушаемый и романными темами, и сопутствующими романной форме условиями домашнего эстетического потребления, – состоит в том, чтобы утвердить читателя в роли „либерального субъекта“»[55]55
Miller D. The Novel and the Police. Berkeley: University of California Press, 1988. P. x. См. также: Moretti F. The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture / Transl. by A. Sbragia. London; New York: Verso, 1987. P. 16.
[Закрыть].
Этот подход к литературе как носительнице единых и обобщающих форм социального воображения подвергся критике во влиятельной работе Ив Кософски Седжвик «Трогательные чувства: аффект, педагогика, перформативность» («Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity», 2003). Размышляя, среди прочего, о книге Миллера, Сэджвик описывает охватившую «почти все литературоведение» сильнейшую склонность к тому, что Поль Рикер называл «герменевтикой подозрения». Осознание того факта, что художественные тексты не только «отражают» или «познают» мир, но воздействуют на него, привело к возникновению «бесконечно воспроизводимых в исследовании и обучении моделей разоблачения», ставших «ходячей монетой в исторических исследованиях культуры и литературы»[56]56
Sedgwick Е. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Duke University Press, 2003. P. 143.
[Закрыть]. Необходимость разоблачать притязания «либерального субъекта», пишет исследовательница, могла быть уместна в 1960–1970‐х, но совершенно не к месту в «ксенофобской Америке Рейгана, Буша, Клинтона, Буша, где понятие „либерального“ оказалось чуть ли не табуированным, а к „секулярному гуманизму“ относятся как к маргинальной религиозной секте»[57]57
Ibid. P. 140.
[Закрыть]. Фуко и вдохновленные им литературоведы разрабатывали критическую генеалогию социального государства и заложенного в нем дисциплинарного «пастората». Но что делать с такой критикой в эпоху, когда социальное государство демонтируется вместе с «либеральным субъектом», когда власть все больше полагается на открытое, а не скрытое, насилие, и когда – в рамках того, что Петер Слотердайк называет «циническим разумом», – тезис о том, что факты порождаются манипулятивными приемами, превратился из орудия критики в общее место?
Размышления Седжвик и других теоретиков[58]58
Latour B. Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern // Critical Inquiry. 2004. Vol. 30 (Winter). P. 225–248.
[Закрыть] привели некоторых исследователей к отказу от модели «параноидальной», «подозрительной» или «симптоматической» интерпретации как таковой. Вместо этого они призывают к посткритическому повороту и возвращению узкоэстетических подходов к литературе[59]59
См.: Felski R. The Limits of Critique. Chicago: Chicago University Press, 2015; Critique and Postcritique / Anker E., Felski R. (eds) Durham: Duke University Press, 2017; Best S., Marcus Sh. Surface Reading: An Introduction // Representations. 2009. Vol. 108 (Fall). P. 1–21. Сформулированный Седжвик призыв к восстановительному чтению нашел широкий отклик, в том числе среди современных сторонников так называемого «поверхностного чтения», опирающегося на традиционные представления об автономности эстетического объекта. Однако, как показывают приводимые Седжвик примеры, ее собственные идеи имеют отчетливый политико-утопический акцент, связанный не столько с поиском эстетического наслаждения, сколько с размышлениями о более совершенных формах сообщества. Впрочем, по традиции, восходящей к «Письмам об эстетическом воспитании» Шиллера, исследовательница, кажется, не противопоставляет этих вопросов. Более полное представление о дебатах вокруг поверхностного чтения можно получить из работ: Kornbluh А. We Have Never Been Critical: Toward the Novel as Critique // Novel: A Forum on Fiction. 2017. Vol. 50. № 3. P. 397–408; Anderson A. Therapeutic Criticism // Ibid. P. 321–328.
[Закрыть]. Сама Седжвик, однако, занимает иную позицию. Она предлагает противопоставить преобладающей в гуманитарных науках паранойе так называемое «восстановительное чтение» («reparative reading»). Прибегая к своего рода фигуральному психологизму, она предлагает различать два этих подхода по характеру связанного с каждым из них страха. Если параноидальная интерпретация отправляется от страха подвергнуться тайному надзору, быть одураченным скрытой властью при помощи образования, клиники, нормализации, деполитизации – то «восстановительное чтение» исходит из опасений, что «окружающая [тебя] культура не способствует [твоему] становлению или враждебна ему» (P. 150). Этот страх восстановительное чтение стремится облегчить не столько опережающей критикой, сколько рефлексией об иных возможных формах социальности, лучше отвечающих благоденствию человека (сама Седжвик приводит в пример кэмп).
Идея восстановительного чтения у Седжвик перекликается с представлением Касториадиса о беспрестанно действующем социальном воображаемом, порождающем все новые институциональные и «психо/соматические» артикуляции общественного существования. Кроме того, она ставит вопрос о судьбе форм и практик – критических или восстановительных, – разработанных в одной социальной констелляции с ее трудностями, при переходе в другую общественную формацию: такую, например, которая оставляет меньше места для правовых притязаний (Григорян); в которой дисциплинированный «либеральный субъект» не одерживает победы (Эмма Либер); или в которой господствующая модель сообщества опирается на понятие государства (Илья Клигер). Статья Либер, рассматривающая «Братьев Карамазовых» в психоаналитической перспективе на фоне «Холодного дома» Диккенса, ближе всего подходит к модели восстанавливающего чтения. Роман Достоевского понимается здесь как эмансипаторный текст, отрицающий аппараты наказания. Опираясь на православную духовную традицию, Достоевский разрабатывает недисциплинарный и не-эдипальный взгляд на семью и закон и даже как будто указывает на возможность совершенно иных («queer») форм сообщества. В работе Либер эдипальная модель уступает место другой, связанной с Антигоной; русский роман в таком прочтении перекликается с вопросом Джудит Батлер о том, как бы выглядел психоанализ, если бы его точкой отсчета стала Антигона. Клигер также обозначает ограниченность дисциплинарной парадигмы. Очерчивая три разные конструкции социальности, представленные в европейском реализме, он добавляет к ним четвертую, извлеченную из «Обыкновенной истории» Гончарова. У истоков русского реализма Клигер обнаруживает идею прямой насильственной власти, трансисторически соотнесенную с нынешним моментом, который Седжвик и другие описывают в категориях постдисциплинарности и неолиберального демонтажа социального государства.
В то время как западные исследователи реализма разработали богатейший инструментарий для анализа литературной социальности, аналогичные изыскания в области русской литературы были ограничены узкими пределами официального марксизма, с одной стороны, и стремлением максимально удалиться от него, с другой. Нам выпадает, таким образом, замечательная возможность пересечь устоявшиеся границы: испытать продуктивность западных подходов для изучения русской литературы и вместе с тем перестроить и обогатить эти подходы, опираясь на русский материал. Хочется надеяться, что исторически сложившийся разрыв и порожденная им необходимость перевода откроют путь для того, что Лотман называл «новой информацией».
Экономика реализма
Общественное существование и его закономерности, улавливаемые и провозглашаемые средствами реалистической словесности, могут описываться – как показывают статьи в настоящем томе – в категориях государственного порядка и закона; гражданского общества и прав человека; и, наконец, экономики. Эти понятия и сопряженные с ними категориальные системы не столько указывают на различные сферы исторической жизни, сколько представляют собой взаимно соотнесенные, конкурирующие и взаимодействующие модусы осмысления и изображения ее тотальности. Идея государства, управляющего судьбами средствами административной иерархии во имя имперского суверенитета, категориально отлична от представления о горизонтальных структурах общества или рынка, определяющих повседневное существование через случайности личных столкновений и финансовых обстоятельств, – однако это различие диалектически снимается в тот момент, когда политический и экономический порядок обнаруживают свое тождество[60]60
Vogl J. Kalkül und Leidenschaft: Poetik des ökonomischen Menschen. Zürich: Diaphanes, 2011.
[Закрыть]. Так, во вступлении к «Физиологии Петербурга», одному из важнейших манифестов русского реализма, Белинский диагностирует «неустановившийся и пестрый характер самой нашей общественности», и ищет спасения не только в коммерческом принципе «корысти», которая «так же хорошо связывает, как и разделяет людей, и ‹…› не может быть непреодолимою помехою для дружной совокупной деятельности», но и в суверенной воле Петра I, основавшего на началах «расчета» Петербург и обновленную империю[61]61
Белинский В. Вступление // Физиология Петербурга / Подгот. текста и коммент. В. И. Кулешова и А. Л. Гришунина. Л.: Наука, 1991. (Серия «Литературные памятники»). С. 10.
[Закрыть].
Экономика оказывается в этой перспективе далеко не только сферой бытования книжного рынка, о котором в основном идет речь в многочисленных социологических исследованиях русского реализма (к ним мы еще вернемся). Она оборачивается формой существования общества как такового в эпоху прогресса и модерности. Для исследований реализма принципиально важно осмысление этой проблематики у Вальтера Беньямина. В знаменитой работе, – посвященной не в последнюю очередь русской литературе, – «Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова» (1936) Беньямин описывает рассказ и роман как повествовательные формы, принадлежащие разным общественно-экономическим формациям. В основе эпического рассказа лежит «опыт, передаваемый из уст в уста» крестьянами, мореплавателями и ремесленниками старых времен, в то время как роман складывается по мере формирования «классического капитализма» и свойственных ему форм отчуждения личности: «Автор романа находится в изоляции. Место рождения романа – это индивидуум в одиночестве ‹…› Находясь в водовороте жизни и рассказывая о нем, роман демонстрирует глубокую растерянность живущего». Если в рассказе сосредоточивается традиционная «мудрость, эпический аспект истины», то роман сродни новым медиа:
Поскольку важнейшим инструментом классического капитализма является пресса, мы наблюдаем, как по мере укрепления господства буржуазии появился способ общения, на который ‹…› эпические формы до того никогда не имели определяющего влияния ‹…› Этот новый способ общения – информация ‹…› приходящая издалека информация интересует людей гораздо меньше, чем то, что относится к событиям ближайшего окружения ‹…› информация претендует на немедленную проверку. ‹…› Зачастую она не более точна, чем вести былых времен. Но если предания часто основаны на чудесах, то непременным условием для информации является убедительность. Именно поэтому она несовместима с самим духом повествования[62]62
Беньямин В. Озарения / Пер. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. М.: Мартис, 2000. C. 348–349.
[Закрыть].
Предложенная Беньямином схема описывает медиальные свойства различных повествовательных форм на фоне масштабного исторического сдвига, который сам Беньямин связывает с приходом «классического капитализма». Этот сдвиг был в XIX веке предметом интенсивной рефлексии: в России наступление «железного века» и сопутствующей ему коммерческой журналистики провозглашали Пушкин в «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) и С. П. Шевырев в статье «Словесность и торговля» (1835), а в Германии Гегель и Гейне говорили в сходном смысле о «конце искусства». От их тезисов отправляется социологическое рассмотрение русской литературы 1825–1842 годов в коллективной монографии под редакцией Й.-У. Петерса и У. Шмидта (2007)[63]63
Das «Ende der Kunstperiode»: kulturelle Veränderungen des «literarischen Feldes» in Russland zwischen 1825 und 1842 / Hg. J.-U. Peters, U. Schmidt. Bern: Peter Lang, 2007.
[Закрыть]. В нашем сборнике эта тема разрабатывается в статье Вадима Школьникова, очерчивающего гегельянские представления позднего Белинского о «конце искусства», «социальности» и сродстве литературы с наукой как составляющих зарождающегося реализма.
Из выкладок Беньямина, опирающихся на классическую немецкую эстетику и прежде всего размышления Шиллера «о наивной о сентиментальной поэзии», можно заключить, что новая литература не только отображает наступившую модерность, но и черпает эстетическую энергию из столкновения с прошедшими временами и их пережитками, или обломками. (Из статей Шиллера и стихов Баратынского о «предрассудке» как «обломке древней правды» это понятие переходит в заглавие «Обломова», посвященного вытеснению аграрной утопии железнодорожно-торговой современностью[64]64
См.: Тирген П. Обломов как человек-обломок: (К постановке проблемы «Гончаров и Шиллер») // Русская литература. 1990. № 3. С. 18–33.
[Закрыть].) Уходящее прошлое оказывается важнейшим тематическим и формальным ресурсом реалистической литературы; можно согласиться с Беньямином, что многие сочинения Лескова представляют собой разительные примеры этой закономерности. Посвященная другим писателям (Тургеневу, Толстому и Мельникову-Печерскому) статья К. Каминского и Э. Мартина в предлагаемом томе вскрывает узловое место «архаических» художественных и хозяйственных форм и отношений к природе в реалистической прозе, осмысляющей и эстетизирующей процесс культурной, аграрной и экономической модернизации.
В ситуации модерности, определяющей себя через постоянное вытеснение старого мира новым, экономика – чей всеобщий охват виден, например, по расширительным значениям английских эквивалентов commerce и economy, – обусловливает работу реалистической репрезентации. Специалистам по русской литературе XIX века этот факт хорошо известен из социологических исследований писательской деятельности в контексте книжного рынка – от работ Б. М. Эйхенбаума о «литературном быте» и выпущенной его учениками коллективной монографии «Словесность и коммерция» до новейших работ А. И. Рейтблата и американской «новой экономической критики», еще в 2002 году (№ 58) представленной русскому читателю в «Новом литературном обозрении».
Статьи составленного У. Тоддом еще в 1978 году сборника «Литература и общество в России имперского периода»[65]65
Literature and Society in Imperial Russia, 1800–1914 / Ed. W. M. Todd III. Stanford: Stanford University Press, 1978.
[Закрыть] касаются разнообразных вопросов социального бытования литературы – от формы и критических истолкований социального романа до поэтики и экономики чтения. В немецкоязычном литературоведении, где исторические и теоретические соотношения литературы и экономики вообще принадлежат к числу востребованных тем, эта линия была продолжена сборником под редакцией А. Гуске и У. Шмидта «Литература и коммерция в России XIX в.: институты, акторы, символы»[66]66
Literatur und Kommerz im Russland des 19. Jahrhunderts: Institutionen, Akteure, Symbole / Hg. A. Guski, U. Schmidt. Zürich: Pano Verlag, 2004.
[Закрыть]. Анализ художественных сочинений (в частности, Пушкина и Гоголя) соседствует тут с работами о социологии литературы и историко-экономическими исследованиями кредитной системы и типов предпринимательства.
На традицию «новой экономической критики» опирается и книга М. С. Макеева «Николай Некрасов: поэт и предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики)», в которой рассмотрение экономических условий литературной деятельности и их отражений в художественных текстах дополняется анализом более фундаментальных взаимоотношений между экономикой и реалистической репрезентацией. Организационная форма журнала и лирическая форма некрасовских стихов оказываются укоренены в общей рефлексии об устройстве общества и высказывания в эпоху капитала и торговли.
Эта укорененность может быть описана средствами социально-медиального анализа литературной формы, предложенного Беньямином в «Рассказчике» и написанной вслед за ним книге «Шарль Бодлер: поэт в эпоху зрелого капитализма» (1937–1939). Операцию литературной репрезентации Беньямин выводит из политико-экономических условий большого города – Парижа эпохи Османа и революций XIX века – и порожденных ими форм текстуального самонаблюдения. Важное место в этом анализе принадлежит жанру физиологического очерка и фигуре фланера, в которой модус городского потребления смыкается с коммерческими формами литературного производства: литератор «отправляется на рынок, как фланер, намереваясь поглазеть на его толчею, а на деле – чтобы найти покупателя»[67]67
Беньямин В. Бодлер / Пер. С. Ромашко. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 23.
[Закрыть]. Эти выводы имеют самое непосредственное отношение к русской литературе XIX века: физиологический очерк был перенесен на русскую почву и дал усилиями поэта-предпринимателя Некрасова «Физиологию Петербурга». Сравнительная литературная фантазматика модерности (или «модернитета») и ее городов XIX века, – в значительной степени описанная еще исследователями «петербургского текста», – фигурирует среди тем недавней коллективной монографии под редакцией С. Л. Фокина и А. Ураковой «По, Бодлер, Достоевский. Блеск и нищета национального гения» (2017). Как напоминает помещенная там статья О. Волчек «Топология города и повествовательные маски у По, Бодлера, Достоевского», Достоевский затевал в 1845 году нравоописательный альманах «Зубоскал», чей герой-повествователь – «может быть, единственный фланер, уродившийся на петербургской почве»[68]68
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 7.
[Закрыть]. Вышедший в 1846 году в другом некрасовском издании первый роман Достоевского «Бедные люди» уже своим заглавием подтверждает тезис Беньямина о связи новой городской литературы с имущественным расслоением: «Первые исследователи пауперизма не могли оторвать от него глаз, в которых звучал немой вопрос: где границы человеческой нищеты?»[69]69
Беньямин В. Бодлер. С. 12.
[Закрыть]









































