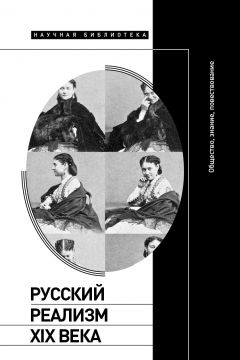
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«И для чего же такое писать?»
«Бедные люди» и политическая экономия реализма
Кирилл Осповат
Самим своим заглавием вышедший в 1846 году первый роман Достоевского увязывал работу литературного изображения с идеей класса, который мог обозначаться тогда понятием пролетария и к которому Достоевский относил и самого себя[238]238
Ветловская В. Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Л.: Худож. лит., 1988; Достоевский Ф. М. Бедные люди / Изд. подгот. К. А. Баршт. М.: Ладомир: Наука, 2015. С. 211, 248, 680.
[Закрыть]. Маркс, подходивший к социалистической мысли одновременно с Достоевским, и вслед за ним новейшие теоретики от Жака Рансьера до Гаятри Спивак установили узловую взаимозависимость общественного взгляда на положение бедных людей, они же униженные и оскорбленные, и приемов художественной репрезентации[239]239
Спивак Г. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. Харьков; СПб, 2001; Rancière J. The Nights of Labor: The Workers’ Dream in Nineteenth-Century France / Transl. J. Drury. Philadelphia: Temple University Press, 1989; Idem. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible / Transl. G. Rockhill. London: Continuum, 2004; Eiden-Offe P. Die Poesie der Klasse: romantischer Antikapitalismus und die Erfindung des Proletariats. Berlin: Matthes & Seitz, 2017.
[Закрыть]. Так организован восторженный устный отзыв Белинского на «Бедных людей», переданный Достоевским в «Дневнике писателя» 1877 года:
Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? ‹…› Да ведь этот ваш несчастный чиновник – ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, – он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого как он мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, – да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине![240]240
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 25. Л.: Наука, 1983. С. 30.
[Закрыть]
В вымышленной фигуре, или типе, Макара Девушкина критический анализ общественного порядка сходится с эстетическим вопросом о «тайне художественности». «Служение художника истине» осуществляется, по мысли Белинского, в операции художественного зрения, умеющего «одною чертой, разом в образе» указать на страшную правду, «чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно». Художественный образ не отделен от аналитического языка «публицистов и критиков» границей эстетической автономии, но соперничает с ним как модус социального знания и (подцензурного) публичного высказывания.
Смежность социального романа и общественных наук хорошо известна. По выражению М. А. Лифшица, в романах Бальзака «фантастические прообразы-типы» порождаются «необычайно острым анализом реальных отношений»[241]241
Лифшиц М. Художественный метод Бальзака // Лифшиц М. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Изобразит. искусство, 1986. С. 305–306. Из новейших работ о французском социальном романе в соотношении с общественной действительностью и экономическим положением аудитории см., например: Лион-Каэн Ж. Серьезное прочтение романических вымыслов / Пер. В. Мильчиной // Отечественные записки. 2014. № 2.
[Закрыть]. Достоевский, переводчик Бальзака, ставил себе сходные задачи. «Бедные люди», в которых Белинский увидел «первую попытку у нас социального романа»[242]242
Достоевский Ф. М. Бедные люди. С. 251.
[Закрыть], отвечали на тот же социально-эпистемологический запрос, что и экономическое знание. В статье 1847 года «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» В. А. Милютин, товарищ Достоевского по кружкам петрашевцев, апеллировал к необходимости общественной оптики, не закрывающей глаза на массовую нищету:
Если мы не будем останавливаться на одной поверхности, а проникнем в самую глубину современной жизни, то увидим, что под внешним блеском и богатством государств Западной Европы кроется язва нищеты и страданий, язва страшная и глубокая. Мы увидим, что эта нищета и эти страдания постоянно тяготеют над рабочими классами ‹…›
В настоящее время есть много людей, в которых эта мрачная сторона действительности производит недоумение, страх и даже отчаяние. ‹…› Для того, чтоб избавиться от этого неразрешимого для них противоречия, одни малодушно останавливаются только при светлой стороне жизни, закрывая глаза при виде бедствий, страданий и язв человечества; другие, в противность истине и действительности, упорно отрицают самое существование зла, или по крайней мере стараются уменьшить его значение, стараются скрыть его страшные последствия. Но наука, в своем постоянном стремлении к истине, не может допускать ни такого равнодушия, ни такого оптимизма. С одной стороны, следя за успехами и за развитием человечества, она не может не сочувствовать его страданиям и несчастиям, потому что это сочувствие составляет священную ее обязанность. С другой стороны, для нее истина должна быть и святою и неприкосновенною, и как бы истина эта ни была мрачна, наука не должна прятаться от ее света, потому что иначе она отказалась бы от своего назначения[243]243
Милютин В. А. Избранные произведения. [М.:] ОГИЗ, 1946. С. 161.
[Закрыть].
Экономическая наука руководствуется, если верить Милютину, теми же задачами, что и литература у Белинского: она открывает публичному взгляду мрачный свет социальной истины и священную обязанность сочувствия страданиям и несчастиям человечества. Выкладки Милютина, в которых выходят на свет общие корни социальной беллетристики и общественных наук в моральной философии, описывают экономическое познание как нравственную работу созерцания и сопереживания[244]244
О переплетении монетарной и аффективной экономики в русской литературе 1830–1840‐х годов см.: Porter J. Economies of Feeling. Russian Literature under Nicholas I. Evanston: Northwestern University Press, 2017. О поэтике сочувствия в русском реалистическом романе см.: Херльт Й. «На каком расстоянии кончается человеколюбие?» Толстой и Достоевский в 1877 году: социальная эпистемология романа // Новое литературное обозрение. 2019. № 155. Об экономических воззрениях петрашевцев в связи с прозой Достоевского см.: Карпи Г. Достоевский-экономист: Очерки по социологии литературы. М.: Фаланстер, 2012. С. 27–30.
[Закрыть].
Милютин не был здесь одинок: со времен Адама Смита и Руссо политическая экономия видела в действии наблюдения и по-разному именовавшемся «нравственном чувстве» сострадания важнейшие элементы и социальной механики как таковой, и выработанных для ее описания модусов текстуальности. В фокусе сострадательного наблюдения обретал очертания аналитический и художественный портрет социального субъекта вообще и бедного человека в частности. Рассуждая в «Теории нравственных чувств» (1759) о том, как соотносится личность с общественным порядком, Адам Смит вводит фикцию беспристрастного наблюдателя, носителя общественной нормы:
Несмотря на то что личное счастье интересует нас более, чем счастье наших ближних, для постороннего свидетеля оно имеет такое же значение, как и счастье всякого другого человека. ‹…› Если же мы посмотрим на себя так, как смотрят на нас прочие люди, то мы осознаем, что в их глазах мы имеем такое же значение, как и всякий другой человек из толпы. Если мы имеем в виду поступить так, чтобы поведение наше было одобрено беспристрастным наблюдателем (а обыкновенно это составляет предмет самых горячих наших желаний), то мы должны в таком случае, как и во всех остальных, умерить наше собственное самолюбие и довести его до такой степени, чтобы оно было признано прочими людьми. По своей снисходительности они извинят нас за то, что мы более беспокоимся, более занимаемся нашим собственным благополучием, чем благополучием прочих людей; в таком случае каждый переносится в наше положение и сочувствует нам[245]245
Смит А. Теория нравственных чувств / Подгот. текста А. Ф. Грязнова. М.: Республика, 1997. С. 98–99; Otteson J. R. Adam Smith’s Marketplace of Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
[Закрыть].
Итак, право социального субъекта на личное существование покупается ценой специфической нравственной дисциплины: он должен увидеть себя глазами прочих людей, для которых он всего лишь «человек из толпы». Такое самоуничижение дает право на сочувствие, неотделимое от снисходительности. Эти напряженные колебания между самоуничижением и претензией на сочувствие определяют, как показывает Бахтин, фигуру Макара Девушкина:
Бедный человек, но человек «с амбицией», каким является Макар Девушкин, по замыслу Достоевского, постоянно чувствует на себе «дурной взгляд» чужого человека, взгляд или попрекающий или – что, может быть, еще хуже для него – насмешливый. (Для героев более гордого типа самый дурной чужой взгляд – сострадательный.) Под этим-то чужим взглядом и корчится речь Девушкина. Он, как и герой из подполья, вечно прислушивается к чужим словам о нем. ‹…› В «Бедных людях» самосознание бедного человека раскрывается на фоне социально-чужого сознания о нем. Самоутверждение звучит как непрерывная скрытая полемика или скрытый диалог на тему о себе самом с другим, чужим человеком[246]246
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979. С. 240–241.
[Закрыть].
Как напоминает А. Корчинский, книга Бахтина о Достоевском, открывавшаяся тезисом о «внутренней, имманентной социологичности» литературы, вырастала из «сопряжения поэтики и социального познания»[247]247
Корчинский А. Политика полифонии: опасная современность и структура романа у Достоевского и Бахтина // Новое литературное обозрение. 2019. № 155; Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского (1929) // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. С. 7.
[Закрыть]. Бахтинский анализ романной речи Девушкина в сопоставлении с анализом социальной субъектности у Адама Смита ведет к вопросу об общественном месте речи и репрезентации[248]248
Обратим внимание на бахтинианское прочтение Адама Смита и его теории субъекта: Brown V. Adam Smith’s Discourse: Canonicity, Commerce and Conscience. London: Routledge, 1994.
[Закрыть]. «Художественная структура» романа, в которой Бахтин видит «точку преломления живых социальных сил» и «социальных оценок»[249]249
Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского (1929). С. 7.
[Закрыть], инсценирует и дублирует отношения между субъектом и общественным порядком. В роли беспристрастного наблюдателя, чьему взгляду постоянно подвергает себя Макар Девушкин, оказывается не только «социально-чужое» (точнее: отчужденное) сознание его романных собеседников, но и многоголосый институт общественности, тождественный читательской публике романа. В воображаемом пространстве «Бедных людей» и в их текстуальном устройстве разворачивается общая экономика социальных аффектов, определенная напряжением между страданием и сочувствием.
Узловым моментом этой циркуляции аффектов, обеспечивающей социальную природу романной формы, оказывается сам акт изображения, являющего участь бедных людей общественному взгляду. Он одновременно манифестируется в нескольких формах: в виде самого романа, за авторской подписью Достоевского; в виде свободной от вмешательств повествователя прямой речи Макара и Вареньки в их письмах и ее мемуарной «тетради»; и наконец, в виде беллетристических сочинений – «Станционного смотрителя» и «Шинели», – предстающих перед читательским судом Макара. Благодаря этой множественности, релятивирующей границу между литературой и социальным опытом, предметом разностороннего рассмотрения становится разворачивающаяся в обеих сферах работа репрезентации как таковая. Эта работа, определенная Белинским в категориях гуманистического сожаления к несчастному и вырастающего из него трагического ужаса, раскрывает в критике Макара на Гоголя свои темные стороны:
И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует[250]250
Достоевский Ф. М. Бедные люди // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: В 35 т. Т. 1. СПб.: Наука, 2013. С. 77. Цитаты из этого тома в дальнейшем приводятся с указанием страниц в тексте.
[Закрыть].
На самом фундаментальном уровне эта реплика ставит вопрос о предпосылках и последствиях той реалистической речи – «корчащегося слова с робкой и стыдящейся оглядкой»[251]251
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 239.
[Закрыть], – которая Бахтину предстает уже заданным объектом. Констатируя, что типический герой Достоевского «и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности», Белинский опознает проблему, известную нам в знаменитой формулировке Гаятри Спивак: «Угнетенные не могут говорить»[252]252
Спивак Г. Указ. соч. С. 667.
[Закрыть]. Опираясь на социальную аналитику «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» (1852), Спивак очерчивает напряжение и конкуренцию между двумя модусами репрезентации бедных людей: между «передачей полномочий и изображением», политическим представительством (Vertretung) и фигуративным мимесисом (Darstellung)[253]253
Там же. С. 657.
[Закрыть]. На примере французских парцелльных крестьян Маркс описывает класс угнетенных, неспособных по экономическим причинам «защищать свои классовые интересы от своего собственного имени»: «Они не могут представлять (vertreten) себя, их должны представлять другие». Сам феномен класса – будь то пролетарии, крестьяне или чиновники – складывается как проекция различных форм самосознания и репрезентации. Так, парцелльные крестьяне у Маркса не образуют класса в том смысле, который Спивак называет «трансформативным», но образуют «дискриптивный класс» в глазах наблюдательного автора, способного очертить общность «экономических условий», определяющих жизнь «миллионов семей»[254]254
Там же; Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 39 т. Т. 8. М.: Госполитиздат, 1957. С. 208.
[Закрыть]. Акт описания бедных людей средствами экономической науки или социального романа укоренен, таким образом, в их политическом и экономическом бесправии. Это напряжение составляет нерв «Бедных людей», где действительное и полномочное авторство Достоевского не может, вопреки его утверждениям, исчезнуть за вымышленными голосами Вареньки и Макара. В их эпистолярной речи, разворачивающейся на трудноуловимой грани между обретением голоса и немотой, между социальным признанием и уничтожающей бедностью, выходит на свет проблема, сперва сформулированная Спивак в виде вопроса – «могут ли угнетенные говорить?». В фигуре Макара, который, по определению Белинского, «раздроблен, уничтожен» порядком вещей, оказывается представлен, как и у Маркса, «социальный ‘субъект’, чье сознание ‹…› не облада[ет] собственной позицией и связностью»[255]255
Спивак Г. Указ. соч. С. 657.
[Закрыть].
I
Смежность социального романа с экономическим знанием обусловлена тем фактом, что феномен нищеты принадлежит не только экономической статистике, но и нравственной анатомии общества и индивида. Милютин определяет его так:
…нищета, как бедность сознательная, сопровождаемая страданиями физическими и нравственными, есть последствие цивилизации, удел обществ развитых. Человек, в котором не развились еще многоразличные нужды, в котором не пробудилось еще самосознание, не примечает своей недостаточности, довольствуется малым и не чувствует лишений. Напротив, эти лишения являются тягостными для людей, в которых образованность развила уже и сознание собственного достоинства и множество самых разнообразных потребностей: для них бедность – источник страдания; и страдания эти будут тем сильнее, чем образованнее эти люди, и чем образованнее, чем богаче то общество, к которому принадлежат они. Весьма понятно, что если бедный повсюду видит вокруг себя достаток, изобилие и даже роскошь, то сравнение своей судьбы с судьбою других людей должно естественно еще более усиливать его мучения и к страданиям физическим прибавлять страдания нравственные[256]256
Милютин В. А. Указ. соч. С. 166.
[Закрыть].
В центре этого научного анализа стоит нравственная модель социального субъекта, в котором сознание собственного достоинства сталкивается со страданием, произведенным «сравнением своей судьбы с судьбою других людей». Именно эту модель воплощает Девушкин, «бедный человек, но человек „с амбицией“»[257]257
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 240; Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж, 1980. С. 32–33.
[Закрыть]. В его письме от 5 сентября жест мучительного сравнения экономических участей разворачивается в подробную панораму общественного неравенства в столице:
Когда я поворотил в Гороховую, так уж смерклось совсем и газ зажигать стали. Я давненько-таки не был в Гороховой, – не удавалось. Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; всё так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. ‹…› Богатая улица! ‹…› Сколько карет поминутно ездит; как это всё мостовая выносит! Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и шелк; лакеи дворянские, в эполетах, при шпаге. Я во все кареты заглядывал, всё дамы сидят, такие разодетые, может быть и княжны и графини. ‹…› Про вас я тут вспомнил. Ах, голубчик мой, родная моя! как вспомню теперь про вас, так всё сердце изнывает! Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! да чем же вы-то хуже их всех? ‹…› Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? ‹…›
Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это всё частию, чтоб сердце отвести, а более для того, чтоб вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, родная моя, часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, что я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедненький мальчик, что милостыни у меня просил (102–105).
В этом описании Гороховой камерный сентиментальный роман и его обездоленный герой вдруг поднимают глаза на общую картину социальных отношений. Макар заявляет права на авторство и слог, в котором еще недавно себе отказывал: «Ну, слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то я и службой не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затей и так, как мне мысль на сердце ложится…» (60). Слог оказывается здесь понятием сложным. Он не тождествен способности писать так, как мысль на сердце ложится, составляющей как будто главное достоинство чувствительного письма, но сближен с навыками служебного бумагопроизводства – преобладающего в чиновной России модуса речи и мысли о социальной действительности и способах ее исправления. Естественно, противопоставление общественного слога и личных чувств не может быть выдержано в письмах Макара, обретающих свою мощную выразительность в их столкновении. Общественно-политическое вольнодумство, которое Макар распознает в своей речи, сопровождено сильным аффектом сочувствия, придающим эмоциональную действенность и экономическому анализу, и констатациям безысходности: «как вспомню теперь про вас, так все сердце изнывает».
Авторство и возможность говорить, сосредоточенные в понятии слога, прямо связаны для Макара с вопросом о его положении в обществе, определяемом не только конкретной должностью и чином, но и трудноуправляемыми механизмами общественной оптики, репутации и самосознания. В общественной панораме письма от 5 сентября пронизывающий весь роман вопрос о статусе Макара разворачивается в сложном акте наблюдения. Он не только видит и описывает тех, кто намного богаче его, но и оказывается наблюдателем тех, кто находится ниже его на социальной лестнице: уличного шарманщика и «мальчика, что милостыни у меня просил» (в других частях романа к их числу присоединяется чиновник Горшков). Наблюдение такого рода, вольнодумно ставящее под сомнение иерархический порядок и одновременно утверждающее его наглядную устойчивость, принципиально для всей ткани общественных и текстуальных отношений в «Бедных людях» и сопровождается сложной партитурой социальных аффектов.
Похвалив с осторожным честолюбием свой слог, Макар быстро переходит к тоске, побуждающей его до глубины души сочувствовать собственным мыслям о социальном неравенстве. Аффективное сочувствие (а не рациональный слог) задает самую естественную точку зрения на общественное унижение личности, но вырабатывается оно только в ситуации мнимого или действительного наблюдения, требуемого устройством общества и романа, экономическим отчуждением и эстетическим остранением. Макар раздваивается на автора и читателя своих наблюдений, а метафорически – «если сравнением выразиться» – на «запуганного и загнанного» мальчика и наблюдающего за ним прохожего. Выработанное в этом пространстве (само)наблюдения сочувствие имеет принципиально противоречивый характер: оно позволяет Макару на один момент воздать себе справедливость только с тем, чтобы вернуться к мысли о том, что «часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь». Абзац, начавшийся с предельного для Макара авторского самоутверждения, приходит путем сильных колебаний к параллели с мальчиком-попрошайкой, едва ли не предельной фигурой нищеты в изобилующем ею романе.
Самонаблюдение Макара со всей его метафорической и аффективной нагрузкой оказывается, по смитианской логике, прямой проекцией общественного и читательского взгляда на экономические отношения. Свои рассуждения о «слове с оглядкой» в «Бедных людях» Бахтин основывает на фрагменте, в котором Макар очерчивает свое положение в службе:
‹…› Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали, – до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: всё не по них, всё переделать нужно! ‹…› Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я маленький человек; но, однако же, за что это всё? Что я кому дурного сделал? ‹…› Ведь какая самая наибольшая гражданская добродетель? Отнеслись намедни в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая добродетель гражданская – деньгу уметь зашибить. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой), нравоучение же то, что не нужно быть никому в тягость собою; а я никому не в тягость! ‹…› Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю (59–60).
Нравственные мучения Макара производны от репутации его класса. Созданный обществом, возведенный в пословицу и чуть ли не бранное слово типически-пренебрежительный портрет крысы-чиновника дополняется средствами эпистолярной исповеди автопортретом распадающейся социальной субъектности, колеблющейся между смирением маленького человека и гордостью за свой верный труд.
Все элементы этой коллизии укоренены в смитианской экономике. Суждение Евстафия Ивановича, которому отведена тут роль беспристрастного наблюдателя, «что наиважнейшая добродетель гражданская – деньгу уметь зашибить», точно соответствуют экономической этике Смита. В «Теории нравственных чувств» Смит парафразирует теорию Мандевиля о том, что эгоистические интересы складываются в общественное благо, и утверждает, что «в средних и низших слоях» пути к добродетели и к богатству почти совпадают[258]258
Смит А. Теория нравственных чувств. С. 79.
[Закрыть]. В лучшие моменты Макар сам описывает себя по этому образцу: «Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится ‹…› я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку» (26). «Нравоучение» Евстафия Ивановича в том смысле, «что не нужно быть никому в тягость собою», противопоставляет успешную экономическую деятельность нищете, нуждающейся в бескорыстной помощи. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) рассматривает экономику «цивилизованных обществ» именно в этих категориях:
Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах. Никто[, кроме нищего,] не хочет зависеть главным образом от благоволения своих сограждан[259]259
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. C. 28.
[Закрыть].
Собрат смитовского мясника прямо появляется в «Бедных людях»:
Да чего! и Фальдони туда же, и он заодно с ними; послал я его сегодня в колбасную, так, принести кой-чего; не идет да и только, дело есть, говорит! «Да ведь ты ж обязан», – я говорю. «Да нет же, говорит, не обязан, вы вон моей барыне денег не платите, так я вам и не обязан». Я не вытерпел от него, от необразованного мужика, оскорбления, да и сказал ему дурака; а он мне – «от дурака слышал». Я думаю, что он с пьяных глаз мне такую грубость сказал – да и говорю, ты, дескать, пьян, мужик ты этакой! а он мне: «Вы, что ли, мне поднесли-то? У самих-то есть ли на что опохмелиться; сами у какой-то по гривенничку христарадничаете, – да еще прибавил: – Эх, дескать, а еще барин!» (95)
Автопортрет Макара определяется в этой сцене удвоенными экономическими и нравственными лишениями: он остается без еды, потому что не может заплатить денег слуге и колбаснику, и теряет в общественной репутации, когда Фальдони распознает в нем нищего. Его гордость за свою незначительную работу, опирающаяся на смитианскую этику разделения труда, оказывается бессильна против действительной бедности, неумолимо обрекающей Макара на позор чужого благоволения.
II
Оказавшись в невыносимом положении, Макар и на службе совершает ошибку и благодаря ей обращает на себя внимание начальства. «Генерал» вызывает Макара к себе и тем самым извлекает его из анонимности:
Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем (109–110).
За этим следует сцена, столь впечатлившая Белинского:
«Нераденье! неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать – покуситься не смел, и тут… тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка – ну ее к бесу – пуговка, что висела у меня на ниточке, – вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и всё было мое оправдание, всё извинение, весь ответ, всё, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. ‹…›
Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули – слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..» Ах, родная моя, что уж тут – как он? Да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит: «Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу…» – «Ну, облегчить его как-нибудь, – говорит его превосходительство. – Выдать ему вперед…» – «Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен». ‹…› Тут его превосходительство обернулись к прочим, роздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжник и из него сторублевую. «Вот, – говорят они, – чем могу, считайте, как хотите…» – да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да – вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя: взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. «Ступайте, говорит, чем могу… Ошибок не делайте, а теперь грех пополам» (110–111).
Белинский неслучайно увидел в этой сцене кульминацию «Бедных людей». Явление Макара общественному взгляду, составляющее главное действие романа, осуществлено здесь в виде осязаемого социального механизма. Начальственный гнев быстро сменяется на милость благодаря выразительному зрелищу нищеты, реквизитом которого служат «пуговка» Макара и его бедный «костюм», безмолвные и безличные атрибуты его экономического положения. Его превосходительство выказывает то нравственное чувство симпатии, на котором Смит основывает всю свою авторитетную теорию:
Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних[260]260
Смит А. Теория нравственных чувств. С. 31.
[Закрыть].
Сострадание к несчастьям посторонних укоренено, согласно этому определению, в действии наблюдения, вписанного определенным образом в общественный и нравственный порядок. Оно может быть мотивом для великодушных поступков, заслуживающих одобрение общества, всегда готового «принять сторону обиженного»:
Именно так расценивает щедрый дар «доброго генерала» Белинский и сам Макар, расхваливавший поступок начальника своим сослуживцам:
Они не одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. ‹…› Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить, всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал; я всё им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоятельстве! Так-таки вслух – да будут славны дела его превосходительства! Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать (113).
Характерным образом Макар адресуется тут не только к конкретным своим собеседникам, но и к анонимной общественности, чьи вердикты основываются на этике симпатии. Эта благоприятная трактовка благотворительного жеста оказывается, однако, с самого начала осложнена намного менее радужным анализом неравенства.
Рассказ Макара соответствует выведенному Марксом соотношению между низшими классами и действием репрезентации: «Их представитель должен вместе с тем являться их господином, авторитетом, стоящим над ними, неограниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и ниспосылающей им свыше дождь и солнечный свет»[262]262
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. С. 208.
[Закрыть]. Маркс видит в представительстве такого рода противоположность действительных механизмов политической уполномоченности и связывает его с квазипоэтической работой вымысла, заставляющей бедных людей растворить свою волю в начальственном фантоме. В рассказе Макара мы наблюдаем эту работу в действии: бедняк считает своим долгом «во всеуслышание» прославить благодеяние генерала, которому «из многих мест ‹…› хвалы воссылаются». Условием такого стилизованно-преувеличенного прославления оказывается, как и у Маркса, социальное унижение бедного человека, уничтожающего своим повествованием собственное достоинство. Макар вынужден во время своего рассказа прогонять от себя чувство стыда, да и слушатели его «все ‹…› пересмеивались». Среди прошлых благодеяний генерала упомянута сомнительная история, ставящая его вровень с главным злодеем романа Быковым: «У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился» (113). Непревзойденный в романе акт благотворительности, спасший Макара от гибели, оказывается сведен до скверного анекдота и скомпрометирован.
Эта дискредитация подтверждается нравственным анализом благотворительности, возвращающим нас к Смиту. Начальник, пожимающий руку Макару «словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу», делает это «поспешно» и за закрытыми дверями. Вопреки благонамеренному прекраснодушию Макара, общественный консенсус подразумевает неблагоприятный взгляд на бедность. Разворачивая теорию симпатии, Смит исключает из ее сферы сочувствие к нищете:
Отсутствие средств к жизни, сама нищета возбуждают к себе небольшое сочувствие; сопровождающие их жалобы вызывают наше сострадание, однако трогают нас неглубоко. Мы с презрением относимся к нищему, и, хотя своей докучливостью он вымаливает себе подаяние, он редко бывает предметом глубокого сострадания[263]263
Смит А. Теория нравственных чувств. С. 147. В «Преступлении и наказании» (1866) размышления Мармеладова об общественной стигматизации нищеты прямо соотнесены с английской политической экономией: «бедность не порок, это истина. ‹…› Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было ‹…› Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намедни, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия» (Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 6. Л.: Наука, 1973. С. 13–14).
[Закрыть].
В «Философии нищеты», вышедшей через несколько месяцев после «Бедных людей», Прудон усваивает этот тезис Смита в своей критике политической экономии:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































