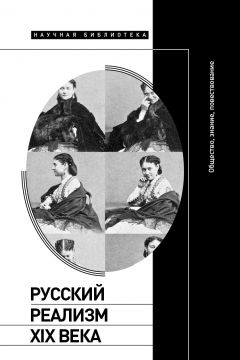
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Дисциплинарное государство и горизонты социальности
«Обыкновенная история» и поэтика европейского реализма
Илья Клигер
Эта статья задумана как попытка наметить перспективы сравнительного изучения «социальных воображаемых», структурирующих повествовательные жанры (в особенности роман) эпохи европейского реализма. В центре внимания окажется специфика русского ответвления общеевропейского романа воспитания (Bildungsroman), обусловленная историей общественных отношений в России. Термин «социальное воображаемое» заимствуется мной у канадского философа Чарльза Тейлора, использующего его для описания преимущественно неотрефлексированных сценариев, образов и мыслительных схем – одним словом, феноменологического «фона», на котором представляется, осмысляется и переживается общественное существование, «бытие с другими»[327]327
Taylor C. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 2004. P. 23–30. См. также сходное, хотя и в несколько ином духе, определение Корнелиуса Касториадиса в книге: Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. Г. Волковой и С. Оферстата. М.: Гнозис, Логос, 2003. Реймонд Уиллиамс использовал смежное понятие «knowable community», а Бенедикт Андерсон ввел в употребление термин «imagined community». См.: Williams R. The Country and the City. New York: Oxford University Press, 1973. P. 165–181; Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso, 2006. P. 6. См. также выпуск «Нового литературного обозрения» с разделом, посвященным «литературной эпистемологии социального»: Новое литературное обозрение. 2019. № 1 (155).
[Закрыть]. Мой тезис в наиболее общей форме можно сформулировать так: западноевропейский реализм, в частности реалистический роман, склонен заимствовать сюжетные ходы, конфигурации персонажей, мотивы, концовки и общие повествовательные очертания из хранилища социальных воображаемых, созданных в рамках буржуазного гражданского общества, его институций, практик и идеологем. Между тем русский реализм основывается на наборе социальных воображаемых, связанных с образом государства, постоянная опека (надзор, руководство, принуждение) которого ощущалась как производителями, так и потребителями культурных артефактов.
Это отличие понимается здесь не столько как фактор исключительности российского опыта, скажем его «запоздалости» или «неравномерности», сколько как некая ощутимая перестановка акцентов в рамках единого нововременного набора тем и форм, служащих одновременно осмыслению, легитимации и критике исторически данных общественных отношений. Избегая прямолинейно идеологизированных констатаций «особого пути», кажется продуктивным все же попытаться проследить корреляции между конкретными социальными формациями и процветающими в них культурными формами.
Особенно плодотворным в контексте такого анализа оказывается трактат Гегеля «Элементы философии права» (1821), интересующий меня здесь не столько в качестве всеобъемлющей системы этики или исчерпывающего описания современного социального порядка, сколько как попытка осмысления общественной жизни в терминах, перекликающихся с теорией и практикой повествовательного реализма. Реализм «Философии права» проявляется в целом ряде характеристик: 1) как критика романтизма и идеализма в политической сфере (то есть критика триады традиционализм – легитимизм – общинность с одной стороны и просвещенческий утопизм – революционный терроризм – индивидуализм с другой); 2) как требование, выраженное в девизе «Hic Rhodus, hic saltus» («Здесь Родос, здесь [должен быть твой] прыжок»), оставить позади абстрактные модели общественного устройства и смело вглядеться в сущность (отличную от просто данности) современного социального порядка; 3) как лаборатория повествований о социальной агрегации, то есть о том, как из отдельных личностей складываются группы; 4) как текст, продолжающий и в некотором смысле венчающий исконную гегелевскую проблематику взаимоотношений между субъективным (само)сознанием и объективным (здесь – социальным) миром. Наконец, все эти темы оказываются встроены в ключевую категорию гегелевского анализа – «действительность» (Wirklichkeit), некоего терминологического и в концептуальном плане более богатого двойника «реализма», непосредственно отсылающего не столько к голой эмпирической данности, сколько к общественному порядку, понятому как продукт сознательной и совместной человеческой деятельности[328]328
О центральности русской интерпретации гегелевского понятия «действительность» для осмысления реалистических повествовательных практик см.: Kliger I. Genre and Actuality in Belinskii, Herzen, and Goncharov: Toward a Genealogy of the Tragic Pattern in Russian Realism // Slavic review. 2011. Vol. 70. Issue 1. P. 45–66.
[Закрыть].
В той же мере, в какой трактат Гегеля прочитывается как реалистический, художественные тексты эпохи реализма заключают в себе латентные модели социальности, социальные воображаемые, на уровне представлений и смыслов активно включающиеся в общественные процессы современности. В этом ракурсе здесь будет рассмотрен роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847) в сопоставлении с тремя западноевропейскими романами воспитания: «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795) И. Гёте, «Отец Горио» (1835) О. Бальзака и «Джейн Эйр» (1847) Ш. Бронте[329]329
Понятие «роман воспитания» используется мной в широком смысле для обозначения повествований, в центре которых лежит проблема интеграции-взросления индивидуума в современном обществе. Я предпочитаю «воспитание» «образованию», «становлению», «формации» и т. д., чтобы подчеркнуть именно дисциплинарный аспект такого рода интеграции.
[Закрыть]. Забегая вперед и резюмируя дальнейшее изложение, можно сказать, что речь идет о некоем (едином в своем разнообразии) западноевропейском «тексте», ориентированном на тот или иной горизонт социальности, трактуемый Гегелем в рамках проблематики гражданского общества. При этом оказывается, что русский вариант в какой-то степени выпадает из этой парадигмы, привнося в рассказ о взрослении героя сценарии управления, руководства, принуждения и надзора, ассоциирующиеся скорее с государственной монополией на насилие, чем с проблематикой социализации и гражданских сообществ.
⁂
Гегелевское описание разумно устроенного современного государства как области, в которой человеческая свобода достигает полной реализации, включает в себя три базовых типа социальности: семья, гражданское общество и политическая власть, или государство в узком смысле слова. В сжатой формулировке Шломо Авинери, «тезис Гегеля заключается в том, что люди могут общаться друг с другом одним из следующих трех способов: частный альтруизм – семья; универсальный эгоизм – гражданское общество; универсальный альтруизм – государство»[330]330
Avineri Sh. Hegel’s Theory of the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. P. 133–134.
[Закрыть]. Семья представляет собой узы непосредственного чувства (любви), где единство между членами онтологически предшествует их отделенности. Поэтому для Гегеля момент договора не является определяющим для семьи. Это как бы договор, сущность которого состоит в том, чтобы «снять эту точку зрения», то есть чтобы выйти за рамки восприятия себя как отдельного индивидуума и осознать себя в (непосредственно доступном для опыта) другом[331]331
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 212.
[Закрыть]. В этом отношении, семья, «первый» тип социальности, оказывается изоморфной «третьему» типу государства: базовое социальное воображаемое обоих отдает предпочтение принадлежности перед обособленностью.
Аналогия между семьей и государством – часто повторяющийся мотив в истории как древней, так и нововременной политической мысли, получивший характерное развитие у Гегеля. По-настоящему новаторским и непосредственно отзывающимся на современность оказывается его анализ гражданского общества (bürgerliche Gesellschaft), сферы, актуальность которой связана с ускоренным ростом деполитизированной области товарного обмена в рамках капиталистической экономики, стремящейся к ограничению компетенции и полномочий государственного аппарата[332]332
Habermas J. The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures. Cambridge, MA: MIT Press, 1990, P. 37–38.
[Закрыть]. В гегелевском понимании, перед нововременным государством стоит необходимость интегрировать и кооптировать (не подавляя) динамизм высвобожденной субъективности – задача, с которой ни одно древнее государство справиться так и не смогло[333]333
Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 230.
[Закрыть]. Гражданское общество и является той сферой, в которой осуществляется интеграция принципа особенности (самосознания, эгоизма, примата частного над общим, экономической деятельности и т. д.) в объективную, субстанциальную общность государства. Процесс интеграции «особенности» во «всеобщность» описывается Гегелем следующим образом: «Так как особенность связана с условием всеобщности, то целое есть почва опосредования, на которой дают себе свободу все единичности, все способности, все случайности рождения и счастья, из которой проистекают волны всех страстей, управляемые только проникающим в них сиянием разума»[334]334
Там же. С. 228.
[Закрыть]. Этому-то сиянию разума, то есть собирательной логике объединения самоутверждающихся индивидуальностей в единства, и посвящен дальнейший анализ сферы гражданского общества.
Согласно Гегелю, три основных принципа единства организуют область гражданского общества в нововременном, разумно устроенном государстве. Эти принципы действуют одновременно и взаимозависимо, но Гегель рассматривает их по отдельности, в порядке повышения самосознания объединяемых таким образом индивидуумов. Первый, наиболее непосредственный и одновременно базовый принцип объединения Гегель называет «системой потребностей». Здесь речь идет о целом ряде отношений, образующихся в связи с невозможностью удовлетворить индивидуальные потребности (как природные, так и социально сконструированные) без посредства других людей. В такого рода социальном пространстве, наиболее ярким примером которого являются рыночные отношения, индивидуумы представляются друг другу средствами для достижения собственных целей. Другими словами, мы имеем дело с некой совокупностью, в которой чисто эгоистичное поведение индивидов тем не менее объединяет их в целостную, даже закономерную, хотя не обязательно гармонично функционирующую систему взаимозависимости. В ходе интеграции в «систему потребностей» индивид получает сразу двойное воспитание (Bildung). Во-первых, он[335]335
По Гегелю, членом гражданского общества выступает именно мужчина, в то время как женщина актуализирует принципы семейных отношений. О традиционности, новаторстве и противоречиях в осмыслении Гегелем гендерных отношений см.: Wood A. Hegel’s Ethical Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 244–246.
[Закрыть] начинает осознавать, а затем и культивировать определенные потребности именно во взаимодействии с социальным окружением, в большой степени определяющим доступность и желанность тех или иных объектов потребления. Во-вторых, он оказывается вынужден признать свою зависимость от других постольку, поскольку они опосредуют доступ к объектам его «потребностей», производя, покупая, доставляя и продавая необходимые ему товары[336]336
Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 236–237.
[Закрыть].
На следующем уровне агрегации Гегель рассматривает принцип «(абстрактного) права», правовой системы, гарантирующей неприкосновенность личности и собственности в гражданском обществе. В этом контексте индивидуумы объединяются уже не за счет неизбежной взаимной зависимости друг от друга, а как формально-тождественные личности, объективно равные перед законом, субъективно способные абстрагироваться от непосредственных желаний и стремлений к личному благополучию ради подчинения неким универсальным принципам. Таким образом на почве гражданского общества образуется второй тип социального воображаемого, в рамках которого индивидуумы научаются «в воле… ориентироваться на всеобщее»[337]337
Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 246.
[Закрыть]. На этом уровне каждый воспринимает себя уже не как субъекта потребностей, а как универсального субъекта, связанного с другими как раз способностью подчиняться закону, нарушение которого поражает в правах уже не только конкретного человека, но и всех членов общества в его лице[338]338
Там же. С. 256.
[Закрыть].
Третий и последний момент объединения в гражданском обществе, и соответственно третий тип социального воображаемого – «внимание к особенному интересу как к общему с помощью полиции и корпораций»[339]339
Там же. С. 233.
[Закрыть]. Полиция (Polizei) здесь включает в себя ряд агентств, роль которых заключается в регулировании производства и распределения, предоставлении коммунальных услуг, предотвращении мошенничества, проверке качества товаров, здравоохранении и борьбе с бедностью. Корпорации, в свою очередь, являются добровольными объединениями, основанными на общих профессиональных или иных социальных интересах: торговые гильдии, религиозные объединения, образовательные общества и т. д. Принцип объединения, лежащий в основе обоих институтов, – осознанное совпадение частных и общих интересов. На этом уровне сообщество преодолевает элемент бессознательности, с одной стороны («система потребностей»), и абстрактности («право») – с другой. Индивид, в свою очередь, учится сознательно вступать в конкретные сообщества, действуя на пользу и им и себе одновременно: «Выше мы видели, что индивид, заботясь в гражданском обществе о себе, действует также на пользу другим. Однако этой неосознанной необходимости недостаточно: осознанной и мыслящей нравственностью она становится только в корпорации»[340]340
Там же. С. 277.
[Закрыть]. Рассматривая полицию и корпорации в едином режиме «общих интересов», Гегель обозначает как раз связующее звено между гражданским обществом и государством. Корпорация, построенная по принципу совпадения общих и частных интересов, является для человека как бы второй семьей[341]341
Там же. С. 275.
[Закрыть]. Она же служит ему суррогатом государства, в том смысле, что именно тут индивид может впервые полноценно ощутить свою «субстанциальную» причастность сообществу[342]342
Там же. С. 277.
[Закрыть]. Что касается полиции, то Гегель определяет ее как институт исполнительной власти государства, занятый упорядочиванием и регулированием всегда более или менее хаотичной жизни гражданского общества: «государство, поскольку оно относится к гражданскому обществу»[343]343
Wood A. Op. cit. P. 283.
[Закрыть]. Таким образом, корпорации и полиция – та точка наивысшего развития гражданского общества, в которой оно «переходит в государство»[344]344
Там же. С. 278.
[Закрыть].
Необходимо отметить некоторую противоречивость во взаимоотношениях между гражданским обществом и государством в трактате Гегеля. С одной стороны, траектория повествования в разделе о нравственности проходит по стадиям все более полной реализации свободы – от наиболее примитивных к наиболее полноценным, осознанным формам объединения. С другой стороны, само существование государства является необходимым условием функционирования институтов гражданского общества. Ведь именно конституция государства определяет параметры (законы, гражданское и уголовное правосудие, регулирование рынка, лицензирование корпораций и т. д.), в рамках которых осуществляется взаимодействие отдельных лиц. Так, «в ходе развития научного понятия государство является как результат, а между тем оно оказывается подлинным основанием»[345]345
Там же.
[Закрыть]. Еще точнее, можно сказать, что, создавая условия для «успешных свободных действий» подданных[346]346
Westphal К. The Basic Context and Structure of Hegel’s «Philosophy of Right» // The Cambridge Companion to Hegel / Ed. by F. Beiser. Cambridge: Cambridge University Press. P. 248.
[Закрыть], государство являет собой не что иное, как принцип членения и организации гражданского общества, тогда как последнее, в свою очередь, легитимирует государство, воспитывая граждан из частных лиц. Можно утверждать, что именно в этом перекрестном движении наиболее ярко выступает своеобразный реализм «Философии права»: жизнь частных индивидов, стремящихся к самореализации в социально-бытовом пространстве, принимается за базовое, обязательное содержание повествования, задача которого – так или иначе обозначить социальное воображаемое их сосуществования. Сама «Философия права», как я попытался показать, предлагает три основных типа агрегации: 1) «система потребностей» с соответствующим ей обучением социальному подражанию и взаимному использованию (ведущему к признанию зависимости от других); 2) «(абстрактное) право», воспитывающее в индивидах сознание универсальности собственного «Я» и способность абстрагироваться от непосредственных нужд; 3) «общность интересов», которой индивиды обучаются, вступая в добровольные сообщества (корпорации), а также наблюдая деятельность государственного аппарата (полиции), нацеленную на достижение всеобщего благосостояния. Можно сказать, что выделение этих трех социальных воображаемых, возникающих на почве гражданского общества, является не менее, если не более, значимым вкладом Гегеля в теоретизацию европейского реалистического романа, чем хорошо известные, несколько ироничные рассуждения о «прозе действительности» в «Лекциях по эстетике». Чтобы проиллюстрировать этот тезис, обратимся к трем вышеупомянутым западноевропейским романам.
«Отец Горио» Бальзака последовательно позиционирует социальный мир романа между базовыми полюсами семьи и государства. Патриархальная метафора, объединяющая фигуры политической и отцовской власти и обозначающая альтернативное, утраченное господство добродетели и чести, обнажается в самом конце романа, где умирающий Горио (этот «Христос отцовства») в бреду призывает государственные органы вмешаться в его личные отношения с оставившими его дочерями и привести их к нему силой. Он требует введение законов, запрещающих бракосочетание. Питер Брукс комментирует эту петицию следующим образом: «Брак проклят, потому что он разрушает вертикальные генетические отношения отца и ребенка, творца и твари, чтобы заменить его горизонтальными социальными отношениями, которые, как показывает роман, строятся на неестественности контракта, товарообмене, торговле, институциональной проституции»[347]347
Brooks P. The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama and the Mode of Excess. New Haven; London: Yale University Press, 1995. P. 143.
[Закрыть]. По Бальзаку, в мире, представленном как «система потребностей», дочери посещают своих отцов, только если могут извлечь из этого посещения пользу (деньги). Следуя известной легитимистской логике, Бальзак воображает жизнь без отеческой/суверенной власти как голую борьбу за выживание. Предсмертная тирада Горио выражает тоску по верховной власти, которая заставила бы дочерей любить своих отцов. Но верховная власть не является; мир целиком отдается игре частных интересов. Перед нами оказывается две альтернативы: старорежимный порядок по модели отцовской власти, с одной стороны, и совершенно неуправляемый, стремящийся только к извлечению пользы и самоудовлетворению homo oeconomicus, с другой.
Однако неуправляемость экономического человека – только видимость; на самом деле, сфера его деятельности достаточно структурирована, и именно описанию этой структуры посвящен роман. Жизнь героя в Париже начинается со своеобразного эстетического воспитания, с обучения искусству желать; сравнивая себя с другими, деревню с городом, Растиньяк начинает опознавать объекты, достойные желания. Таковыми оказываются разнообразные атрибуты принадлежности высшему парижскому обществу: «Если в начале он ослеплен крытыми каретами, бегущими по авеню Елисейских Полей в хорошую погоду, очень скоро он научается хотеть для себя такую же»[348]348
Balzac H. Le père Goriot. Paris: Gallimard, 1971. P. 56.
[Закрыть]. Именно это «социальное хотение» и движет героем на протяжении романа, приводя его в конце концов к точке, в которой он сам уже не способен отличить страсть к женщине от честолюбия и любви к роскоши – своеобразный бальзаковский сплав некой единой природно-социальной потребности[349]349
Balzac H. Le père Goriot. P. 290.
[Закрыть]. Затем Растиньяк на собственном горьком опыте обучается постигать за внешними социальными различиями глубинную связь, единый процесс денежного обращения, во всеобъемлющей сфере которого вторичными оказываются не только сословные границы, но и само различие между законопослушным поведением и преступлением, законом и беззаконием, добром и злом. «Принципов нет, – восклицает его наставник Вотрен, – а есть события; законов нет – есть обстоятельства»[350]350
Ibid. Р. 158.
[Закрыть]. В рамках системы социально производимых и бесконечно обмениваемых потребностей не существует и не может существовать универсалий или абсолютных истин. Сам принцип права, гарантирующий «системе потребностей» более или менее стабильное существование, представляется с точки зрения самой этой системы бессмысленным и ненужным: «Нет такой статьи закона, которая не приходила бы к абсурду»[351]351
Ibid. P. 159–160. Георг (Дьердь) Лукач был, насколько мне известно, первым, кто охарактеризовал литературное творчество Бальзака в гегельянских категориях: «Великий реалистический писатель этого периода Бальзак в „Человеческой комедии“ дает как бы компендиум всех трагических, трагикомических и комических противоречий, возникающих на почве буржуазного общества и очень живо выражающихся в отношениях людей. Колоссальная и всеобъемлющая картина общества, нарисованная Бальзаком, напоминает громадную фреску, на которой изображено «животное духовное царство» капитализма». «Животное духовное царство» – терминологический предшественник «гражданского общества» в «Феноменологии духа». См.: Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987. С. 443. Важен в этом отношении также и тезис Фредрика Джеймисона о принципиально надсубъектной сущности Желания у Бальзака. См.: Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as Socially Symbolic Act. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981. P. 179. Действительно, в рамках воображаемого «системы потребностей» так называемый «центрированный субъект» оказывается невозможным, так как, в свою очередь, зависит от универсальности закона.
[Закрыть].
В основе социального воображаемого, организующего сюжетное пространство «Джейн Эйр», напротив, лежат универсальность, осмысленность и неизбежность закона. Базовая логика и траектория взросления героини проявляется уже в начале романа, в сцене первого протеста Джейн против грубого обращения с ней ее приемной семьи, в особенности жестокого мальчика Джона Рида. «Злой и жестокий мальчишка! – кричит она в припадке гнева. – Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры!»[352]352
Brontë Ch. Jane Eyre. New York; London: W. W. Norton and Company, 2001. P. 8.
[Закрыть] Отбывая наказание в «красной комнате», Джейн размышляет о своем положении в семье Ридов: «я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе: отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой»[353]353
Ibid. P. 12. «Джейн Эйр» цитируется в переводе В. Станевич: http://lib.ru/INOOLD/BRONTE/janeair.txt_with-big-pictures.html.
[Закрыть]. Здесь впервые четко проявляется разрыв между эмпирическим и трансцендентальным «я» этой вымышленной автобиографии. Первое целиком захвачено грустью, страхом, возмущением; второе взирает на все это со стороны; в данном случае важно не столько конкретное объяснение неприязни Ридов к Джейн, сколько сам факт способности абстрагироваться, подняться над ограниченной точкой зрения ребенка и «взглянуть» на мир с позиции другого.
Примечательно, что путь Джейн от индивидуальности к универсальности, к признанию себя и других в качестве субъектов, подверженных единым психологическим механизмам и подчиняющихся единому моральному закону, начинается с утверждения своего достоинства и равноправия: «Хозяин [Master]? Почему это [Джон] мой хозяин? Разве я прислуга?»[354]354
Ibid. P. 9.
[Закрыть] В развернутой форме эта же мысль венчает ключевой диалог между Джейн и мистером Рочестером, в ходе которого она признается ему в любви: «Я говорю с вами сейчас, презрев обычаи и условности и даже отбросив смертную плоть; это дух мой говорит с вашим духом, словно мы уже прошли через врата могилы и предстоим перед престолом божьим, равные друг другу, – как оно и есть на самом деле»[355]355
Ibid. P. 216.
[Закрыть]. Риторика равенства здесь зависит от последовательного отказа от детерминаций, сначала социальных (обычаи и условности), а затем и природных (смертная плоть). Чтобы встретиться с другим на равных правах, чтобы преодолеть сословные (хотя, как окажется, в этом плане расстояние между ними не так велико), экономические и гендерные различия, оба должны «пройти через врата могилы», все потеряв и сохранив только свое «я» (трансцендентальный субъект), в универсальности которого они связаны воедино. К концу романа что-то подобное произойдет с ними обоими; нас же здесь интересует траектория Джейн. Узнав, что Рочестер уже женат (на безумной Берте Мейсон), продолжая испытывать к нему неодолимое влечение и подвергаясь с его стороны давлению, граничащему с насилием, Джейн все же отказывается остаться с ним в качестве второй/настоящей жены-любовницы. Мучительнее всего для Джейн – сострадание к самому Рочестеру, находящемуся на грани безумия от страха ее потерять. Однако, следуя зову «мучительного долга»[356]356
Brontë Ch. Jane Eyre. P. 269.
[Закрыть], она не сдается. Готовясь бежать из поместья Рочестера, принеся в жертву не только любовь, но и средства к существованию, даже ставя под угрозу свою жизнь, Джейн рассуждает так:
Я забочусь о себе [I care for myself]. Чем глубже мое одиночество, без друзей, без поддержки, тем больше я буду уважать себя. Я не нарушу закона, данного богом и освященного человеком ‹…› Правила и законы существуют не для тех минут, когда нет искушения, они как раз для таких, как сейчас, когда душа и тело бунтуют против их суровости; но как они ни тяжелы, я не нарушу их. Строги они; да останутся они неприкосновенными [Stringent are they; inviolate they shall be][357]357
Ibid. P. 270.
[Закрыть].
Следует обратить внимание на образ «заботы о себе». Речь, конечно, идет о совсем другом «я» и о другого рода заботе, чем те, которые фигурируют в романе Бальзака. Там забота о себе – это забота о своем благосостоянии, об удовлетворении потребностей. Здесь же мы имеем дело с заботой о своем человеческом достоинстве, об универсальном в себе, то есть о том себе, которое способно преодолевать потребности, принося их в жертву принципам, гарантирующим возможность стабильной общественной жизни.
Готовность пожертвовать всем, всеми конкретными определениями (желаниями, комфортом, самой жизнью), во имя неумолимого, универсального закона – только на этой основе могут надежно покоиться какие-либо претензии на равенство. Любопытно, как само понятие страсти переключается в ходе романа из одного регистра в противоположный. Если в начале повествования страстным является протест против угнетения и насилия, то к моменту конфронтации с мистером Рочестером страсть – это уже тиран, внутренний (желание остаться с возлюбленным) и внешний (самовластное бешенство возлюбленного, грозящее насилием). Сдвиг показателен: если страсть, частное, беззаконное желание, оказывается неуправляемой, то индивид оказывается перед мало обнадеживающим выбором между мятежом и тиранией. Подлинное равенство осуществляется только в обществе самоуправляющихся индивидов, прочно укрепившихся в универсальном. А выражаясь несколько парадоксально, можно сказать, что оппозиция между рабом и тираном должна быть спроецирована внутрь самого субъекта. Подчиняя себе себя как свою собственность, человек становится свободным и обретает право на равенство с другими, такими же свободными «собственниками» самих себя. В романе Бронте Джейн оказывается идеальным образцом такого рода субъективности, в то время как ее двойник, безумная Берта Мейсон, являет пример полного краха самоуправления[358]358
О двойничестве Джейн и Берты см.: Gilbert S., Gubar S. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven; London: Yale University Press, 1979. P. 360. В связи с проблематикой самоуправления см.: Armstrong N. The Fiction of Bourgeois Morality and the Paradox of Individualism // The Novel. Volume 2: Forms and Themes / Ed. by F. Moretti. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2006. P. 349–388. Сьюзен Фрайман суммирует важное направление в интерпретации «Джейн Эйр», описывающее роман как повествование о «буржуазной женской субъективности, обретенной за счет женщины из рабочего класса [Грейс Пул] и женщины-аборигенки [Берты Мейсон]». См.: Fraiman S. Unbecoming Women: British Women Writers and the Novel of Development. New York: Columbia University Press, 1993. P. 118.
[Закрыть].
Наконец, следующий тип воспитания, протекающий в режиме третьего социального воображаемого, представлен в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера». Здесь история о приключениях молодого человека с путешествующей труппой актеров являет читателю логику, по которой всевозможные ошибки и обольщения чудесным образом, как бы сами собой, сливаются в некий провиденциальный порядок, ретроспективно придающий казалось бы беспорядочным блужданиям героя как социальную цель, так и личный смысл. По ходу повествования приключения Вильгельма, полные ошибок, изменений маршрута и невыполненных обещаний, представляются нам неумышленными и бесцельными. К концу оказывается, что «между случайными событиями существует взаимная связь»[359]359
Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера / Пер. Н. Касаткина // Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М.: Худож. лит., 1978. С. 406.
[Закрыть]. Именно эта перекодировка видимого движения вслепую, под руководством только собственных влечений, на язык провиденциального порядка и дает исследователю повод заключить, что (несмотря на отказ Вильгельма от работы в торговом предприятии отца) мы имеем дело с политико-экономическим дискурсом homo oeconomicus, в рамках которого именно преследование собственных интересов вслепую (то есть без понимания того, как собственные действия могут отразиться на структуре общества в целом) и позволяет индивидам вносить вклад в общее благосостояние[360]360
Vogl J. The Specter of Capital / Transl. J. Redner and R. Savage. Stanford: Stanford University Press, 2015. P. 27.
[Закрыть].
Осложняет картину некоторая неопределенность истоков провиденциального порядка: возникает ли он спонтанно сам по себе или же образуется благодаря усилиям членов таинственного Общества башни, которые оказываются не только свидетелями, но и активными участниками воспитательного процесса, ведущего героя к социальной полезности и личному счастью? Общество башни представлено здесь как некое корпоративное объединение, в которое вступают (а точнее, в которое принимаются) представители разных сословий и профессий, как мужчины, так и женщины, достигшие в ходе воспитания уровня сознательности, позволяющего им постичь нераздельность личной и общей пользы. Цель Общества – разумное и всестороннее сотрудничество людей, направленное на достижение общих интересов как частных и, наоборот, частных как общих. Если принять во внимание постоянное, целенаправленное, хотя и очень мягкое, почти незаметное руководство многочисленных педагогов Общества башни, действия которых предполагают как раз глубокое понимание устройства современного общества и взаимосвязи между личной и общей пользой, то «невидимая рука» рынка оказывается вполне видимой, а «система потребностей» сменяется в качестве социального воображаемого неким корпоративным/полицейским объединением[361]361
Убедительную интерпретацию Общества башни в свете шиллеровского понятия эстетического государства, то есть государства без насилия – понятия, в свою очередь предвосхищающего наивысшую стадию гражданско-общественной агрегации по принципу «общих интересов» у Гегеля, – предлагает Марк Редфилд (см.: Redfield M. Phantom Formations: Aesthetic Ideology and the Bildungsroman. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. P. 67).
[Закрыть]. С высшей точки зрения такого объединения, обнаженная система потребностей представляется как сфера безумия и хаоса. Вот как сам Вильгельм описывает общество театральной труппы, в котором он провел так много времени:
Трудно даже вообразить, до какой степени эти люди не знают самих себя, как бездумно занимаются своим делом, как безграничны их притязания. Каждый не только хочет быть первым, но и единственным, каждый желает отстранить всех остальных, а того не видят, что и с ними вместе не способен чего-то достигнуть ‹…› Как яростно воюют они между собой и лишь из низменного себялюбия, тупого своекорыстия держатся друг за друга!
Выслушав Вильгельма, Ярно разражается смехом: «Знаете ли вы, мой друг ‹…› что ваше описание относится не к театру, а ко всему миру?»[362]362
Гёте И. В. Указ. соч. С. 356.
[Закрыть] Так же как «право» и «общий интерес» кажутся с точки зрения «системы потребностей» абсурдом, так и точка зрения «общего интереса» не способна постигнуть некоторую разумность, закономерность, по которой человеческие потребности собираются в «систему». Таким образом Общество башни не только венчает тот путь, по которому Вильгельм шел до сих пор, но и противопоставляется ему. Так, готовя Вильгельма к вступлению в Общество, Ярно отводит его в сторону и говорит:
Человеку, едва вступающему в жизнь, хорошо быть о себе высокого мнения, рассчитывать на приобретение всяческих благ и полагать, что его стремлениям нет преград; но, достигнув определенной степени развития, он много выиграет, если научится растворяться в толпе, если научится жить для других и забывать себя, трудясь над тем, что сознает своим долгом. Лишь тут ему дано познать себя самого, ибо только в действии можем мы по-настоящему сравнивать себя с другими. Скоро вам станет известно, что целый мир в миниатюре находится по соседству с вами и что вас хорошо знают в этом малом мире[363]363
Гёте И. В. Указ. соч. С. 405.
[Закрыть].
Таким образом, перед нами три сценария социальности и соответствующие им модели воспитания, по-разному отвечающие на один из самых насущных вопросов нового времени: как из индивидуумов, с предпосылки существования которых европейский роман эпохи реализма так или иначе начинает, получаются сообщества?[364]364
См., например, классическую работу: Watt I. The Rise of the Novel in England: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. London: Chatto and Windus, 1960. P. 60–92. См. также: Thompson J. Models of Value: Eighteenth-Century Political Economy and the Novel. Durham: Duke University Press, 1996. P. 185–198.
[Закрыть] Приведенные примеры, как кажется, подтверждают тезис Франко Моретти о том, что реалистический роман, и роман воспитания в особенности, не приемлет логики, связанной с государственным управлением: «государство воплощает в себе механическую и абстрактную форму социальной сплоченности, изначально отдаленную и чуждую бесчисленным артикуляциям повседневной жизни». Наоборот, «гражданское общество представляется сферой стихийных и конкретных связей. Его авторитет сливается с повседневной деятельностью и отношениями, осуществляя себя естественными и незаметными способами»[365]365
Moretti F. The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture / Transl. Albert Sbragia. New York; London: Verso, 2000. P. 53. По Моретти, точка зрения романа на государство оказывается противоположной гегелевской. Это – исключительно точка зрения деполитизированного гражданского общества, точка зрения частного человека, но не гражданина.
[Закрыть].
Переходя к рассмотрению «Обыкновенной истории» Гончарова, можно сразу отметить, что обозначенные сценарии для воссоздания социального воображаемого этого романа оказываются мало применимы. Начнем с очевидного наблюдения, что, в отличие от упомянутых западноевропейских персонажей, юный герой Гончарова достигает социального совершеннолетия под руководством одного-единственного наставника. И Вильгельм, и Эжен, и Джейн в разное время, а иногда и одновременно попадают под влияние разных, в том или ином смысле более опытных, персонажей и оказываются перед необходимостью самим синтезировать их советы и наставления или выбирать среди них. Более того, все их наставники – представители так или иначе понятого гражданского общества. Растиньяк учится жизни у преступника Вотрена (являющего преступную природу общества в целом), у светской дамы мадам де Босеан и у любовницы Дельфины Нусинген. Джейн прислушивается к школьной учительнице мисс Темпл, к старшей школьной подруге Хелен Бёрнс и к пастору-миссионеру Сент-Джону Риверсу; ее самый главный учитель, и это важно для понимания социально-воображаемой логики романа, – она сама. Вильгельма обучают Аббат (как минимум в двух амплуа), военный-дипломат и англофил Ярно, просвещенный помещик Лотарио, а также, более опосредованно, канонисса «Прекрасная душа». Между тем одна из ярчайших характеристик «Обыкновенной истории» – доминирующие над всеми другими социальными связями героя отношения с его единственным наставником, старейшим мужчиной в семье (дядей), высокопоставленным чиновником и успешным промышленником-фабрикантом Петром Адуевым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































