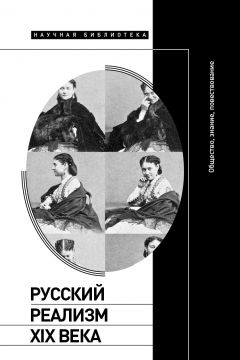
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Симпатия, которую мы испытываем к пролетариату, подобна той, которую нам внушают животные: тонкость органов, ужас перед нищетой, тщеславное желание удалить от себя любое страдание – вот из каких ухищрений эгоизма рождается на свет наше милосердие. Действительно, осознáем хотя бы тот факт, что стихийная благотворительность, столь чистая по своей изначальной идее (eleemosyna, симпатия, нежность) и, наконец, подаяние стали для несчастных знаком бесправия, публичным шельмованием?[264]264
Proudhon P.-J. Œuvres complètes. I. Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère. Paris, 1923. P. 355–356.
[Закрыть]
В сцене с генералом разрабатываются эти же противоречия нравственной экономики, определяющие общественные воззрения на бедность. Неловкий начальственный дар Макару оказывается актом подаяния, в котором личная и минутная симпатия маскирует устойчивые очертания экономического неравенства и социального эгоизма. Устроенному таким образом общественному взгляду Макар предстает в роли докучливого нищего, описанной им самим на примере мальчика-попрошайки с Гороховой. Пантомима с пуговицей, один из самых эмоционально напряженных эпизодов романа, обретает свою страшную выразительность по контрасту с охватывающей Макара немотой: «Вот и всё было мое оправдание, всё извинение, весь ответ, всё, что я собирался сказать его превосходительству!» Это исполненное аффекта молчание диктуется ситуацией наблюдения начальника над подчиненным, имущих над бедняком. Сценарий такого наблюдения описан уже у Смита:
Когда мы следим за трагическим представлением, то мы, так сказать, боремся с вызываемым в нас сопереживанием. ‹…› Страдающие люди, несчастья которых вызывают наше сострадание, сознают, как нам тяжело сочувствовать их страданиям; вот почему они боятся и не решаются раскрыть перед нами свою душу. Они как бы гасят половину своей скорби; черствость, так часто встречающаяся в людях, заставила бы их сгореть от стыда, если бы они обнаружили страдания свои во всей полноте[265]265
Смит А. Теория нравственных чувств. С. 66.
[Закрыть].
Из теории симпатии Смит выводит нравственную анатомию бедности, вынужденной стыдиться своего состояния перед обеспеченной публикой беспристрастных наблюдателей, обороняющейся от чересчур сильных социальных аффектов. Необходимость ограничивать общественное сострадание Смит соотносит с трагическим театром[266]266
Halpern R. Eclipse of Action: Tragedy and Political Economy. Chicago: University of Chicago Press, 2017. P. 29–52.
[Закрыть]. Это же соотнесение возникает в цитированном выше отзыве Белинского на «Бедных людей»:
А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, – да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия!
Подобно Смиту, Белинский связывает социальное сожаление к несчастному с трагической парой сострадания и страха. Однако за сходной эстетической терминологией стоит противоположное понимание подобающих общественных эмоций. Для Смита трагическое сопереживание должно быть сведено к «чарующим ощущениям», произведенным эгоистически-эстетской «чувствительностью к несчастьям посторонних»[267]267
Смит А. Теория нравственных чувств. С. 146–147.
[Закрыть]. Белинский, напротив того, упраздняет границы умеренного сожаления и вводит радикальный политический аффект трагического ужаса. В письме к Гоголю он увидит в России «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми»[268]268
Белинский В. Г. <Письмо к Н. В. Гоголю> // Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 8. М.: Худож. лит., 1982. С. 282. Курсив наш. Об источниках и импликациях понятия о трагическом у Белинского и в русском реализме см.: Kliger I. Genre and Actuality in Belinskii, Herzen, and Goncharov: Toward a Genealogy of the Tragic Pattern in Russian Realism // Slavic Review. 2011. Vol. 70. № 1. P. 45–66; Клигер И. Образ и понятие трагического в эпоху реализма: аспекты социального воображаемого // Понятия, идеи, конструкции: Очерки сравнительной исторической семантики. М., 2019.
[Закрыть]. В «Бедных людях» источником ужаса оказывается то самое смирение бедняка перед общественным порядком, которое представляется Смиту нравственной нормой. Трагедия состоит в том, что «угнетенные не могут говорить».
III
Взаимозависимость между общественным взглядом на бедных людей и эстетической работой мимесиса не только обнаруживалась в рецензиях Белинского и других критиков, но и рефлектировалась в самом романе в читательских отзывах Макара на «Станционного смотрителя» и «Шинель». Его отзыв на пушкинскую повесть демонстрирует соприродность эстетической рецепции социальному опыту:
Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. ‹…› это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал всё подробно – вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано всё! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный ‹…› Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал, – это вот всё около меня живет; вот хоть Тереза – да чего далеко ходить! – вот хоть бы и наш бедный чиновник, – ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, Горшков. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться (73).
В аффектированно-личной реакции на художественный текст осуществляется осознание собственного опыта в коллективных, классовых категориях: «сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных». Социальная невидимость и немота бедных людей преодолеваются на мгновение литературной репрезентацией: «живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена ‹…› и я так же бы написал». В отзывах Макара исследуются противоречивые следствия такого социального мимесиса. Сильнейший аффект сочувствия к вымышленному персонажу («меня чуть слезы не прошибли»), пробужденный «Станционным смотрителем», связывается не только с осознанием классовой общности, но и с парадоксальным снятием экономических границ:
И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них всё по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, всё может случиться, и со мною то же самое может случиться (73).
Это переживание равенства, порожденное литературным воображением, не закрывает глаз на объективную социальную разницу между бытом «горемык» и «высшим тоном» проживающих «на Невском или на набережной». Ощущение сходства с графом, обретенное Макаром благодаря «Станционному смотрителю», напоминает о сцене начальственного благодеяния, во время которой генерал пожал Макару руку «словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу». Эстетический опыт Макара укоренен в экономике смитианской симпатии, «участия к тому, что случается с другими», открывающего в неколебимом иерархическом порядке пространство для иллюзорной аффективной общности между разными классами. Разбор «Станционного смотрителя» оборачивается на этом фоне критическим анализом поэтики социального сочувствия, которую В. В. Виноградов в классической работе о «Бедных людях» обозначил понятием «гражданского», «социально-философского сентиментализма»[269]269
Виноградов В. В. Школа сентиментального натурализма (Роман Достоевского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40‐х годов) // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы: Избранные труды. М.: Наука, 1976. С. 151, 162.
[Закрыть].
Начиная с XVIII века осмысление социальных бед (в романе и не только) оформлялось в сентиментальной оптике, многим обязанной Адаму Смиту[270]270
Cohen M. The Sentimental Education of the Novel. Princeton, 1999; Магун А. К истокам мрачных чувств: негативная аффектация между меланхолией и терроризмом // Неприкосновенный запас. 2013. № 89.
[Закрыть]. В своем исследовании французского социально-сентиментального романа XVIII–XIX веков Маргарет Коэн подчеркивает принципиальную значимость рецептивных сценариев для верного понимания этой формы: роман объединяет чувствительных читателей в эстетическое сообщество, преодолевающее социальные различия и вместе с тем пронизанное ими. Узловым моментом жанра оказывается роль читателя, наблюдающего вместе с автором за социальными коллизиями и отвечающего на них определенными, смоделированными в тексте социальными аффектами. Если в «Станционном смотрителе» сентиментальная оптика способна установить аффективную гармонию между классами (Дуней и Минским, Макаром и графом), то в «Шинели» она оборачивается формой социального унижения:
Книжку вашу, полученную мною 6‐го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. ‹…› Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны ‹…› Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, – каков уж он там ни есть, – жить воды не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. ‹…› Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, всё напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это всё так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь (76–77).
Чувство униженности просыпается в Макаре в ответ на определенную социальную оптику. По словам Бахтина, «Девушкин увидел себя в образе героя „Шинели“, так сказать, сплошь исчисленным, измеренным и до конца определенным» и взбунтовался против подхода, позволяющего «превращать живого человека в безгласный объект заочного завершающего познания»[271]271
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 67–68.
[Закрыть]. И на улице, и в литературе Макар распознает вооруженный иерархическими таксономиями Табели о рангах и общественных наук классовый взгляд, без остатка сводящий бедных людей к их униженному социальному положению и лишающий их права на частное достоинство. Такое прочтение «Шинели» кажется парадоксальным: Гоголь, предлагающий услышать в «проникающих словах» Акакия Акакиевича «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – «другие слова: „Я брат твой“»[272]272
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937–1952. Т. 3. С. 144.
[Закрыть], предвосхищает пафос «Бедных людей» и, в частности, рассуждения Макара о его сходстве с людьми «высшего тона». Бахтин абсолютизирует эти рассуждения и приписывает Макару бунт во имя общечеловеческого «самосознания и слова», однако сам Макар вполне последовательно ищет опоры в своей принадлежности к общественной иерархии: «Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны». В его возмущении «Шинелью» манифестируется «раздробленная» социальная субъектность и стоящая за ней политическая антропология, в которых апелляции к человечности оказываются оборотной стороной классового статуса. Это напряжение равно свойственно повести Гоголя и роману Достоевского. Рассуждения Макара о «Шинели» венчаются вопросом, который с полным правом может быть отнесен и к «Бедным людям»:
И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует (77).
Эстетический эффект от чтения повести о бедном чиновнике соразмеряется здесь с экономической реакцией общества на действительную нищету. Сильным критическим ходом Макар обнаруживает сущностное различие между аффективной симпатией, в которой состоит интерес социально-сентиментальной беллетристики, и действенным общественным сочувствием к бедным людям. Достоевский уличает Гоголя – и собственный роман – в той ложной симпатии, которую Маркс в знаменитом письме к Анненкову от декабря 1846 года осуждает под именем «социалистической сентиментальности» («sensiblerie socialiste»)[273]273
К. Маркс. Письмо П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 27. М.: Политиздат, 1962. С. 411. В «Бесах» (1871–1872) Степан Верховенский объявляет, что «социализм у нас распростроняется преимущественно из сентиментальности» (Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 10. Л.: Наука, 1974. С. 298).
[Закрыть]. Маркс опирается на критикуемого им Прудона и стоящего за ним Смита, исключавшего из естественной симпатии сострадание к бедным классам. Смит осуждает
тех суровых и мрачных моралистов, которые постоянно упрекают нас в нашем счастье, между тем как бесчисленное множество наших ближних испытывает несчастье ‹…› под бременем нищеты, мучительной болезни и страшной смерти ‹…› Они полагают, что сострадание к таким бедствиям, свидетелями которых мы никогда не были, о которых мы не имеем даже никаких прямых сведений, но которые несомненно гнетут огромное число наших ближних, должно разрушить благополучие человека, находящегося в счастливом положении, и придать всем людям печальный и удрученный вид. Эта преувеличенная симпатия к бедствиям, которые нам неизвестны, прежде всего безумна и неосновательна. ‹…› Это искусственное соболезнование не только безумно, но, по-видимому, и невозможно; люди, воображающие, что испытывают его, в действительности ощущают притворную грусть, вовсе не проникающую в их сердце ‹…›[274]274
Смит А. Теория нравственных чувств. С. 144.
[Закрыть]
«Симпатия к бедствиям, которые нам неизвестны», составляет главное действие социальной беллетристики, преодолевающей общественную невидимость нищеты при помощи вымышленных историй. Согласно Смиту, такая симпатия нарушает «нормы естественности и приличия», то есть противоречит социальному порядку и аффективному устройству человека. Сочувствие к несчастным одновременно описывается как главный принцип нравственности и общежития и ограничивается жесткими рамками классового и личного эгоизма. На этих основаниях Смит вводит принципиальные для сентиментального анализа «Бедных людей» различения между истинным и «искусственным соболезнованием», умеренным и «преувеличенным» сочувствием. Эти различия осуществляются в художественных изображениях нищеты, где причастный общественной норме беспристрастный зритель и читатель оказывается отгорожен от страданий бедных людей двойной границей немоты угнетенных и вымышленности их репрезентаций: повести или трагедии. Именно этот момент Макар опознает в качестве главной социально-эстетической проблемы «Шинели», а рецензенты вслед за ним усматривают в «Бедных людях». Так, Шевырев со смешанным чувством уважения и недоверия говорит о двух сторонах романа, «художественной и филантропической»:
Если в обществе нет никакого иного высшего двигателя, который возбудил бы любовь к ближнему и сострадание к бедным, то, конечно, хорошо подогревать эти чувства и повестями. ‹…› Но что делает несчастное искусство, будучи поставлено в агенты человеколюбивой тенденции? Оно лишено своей красоты и наполнено только выставкой филантропии какого-нибудь писателя, который сам не только питается, но и роскошничает от своих бедных. Хорошо еще, если он талантом рассказчика завлечет читателей к нищей братии; но беда, если он, ходатайствуя за них повестями и действуя на филантропию вашу – самое нежное чувство, возбуждает вместо того скуку и доводит вас до такого ужасного крика к бедному: «на, но отвяжись»[275]275
Достоевский Ф. М. Бедные люди. С. 287–288.
[Закрыть].
Критик, специально выделивший письмо Макара от 5 сентября, вторит находящейся там характеристике нищеты:
А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались, – дескать, они беспокоят, они-де назойливы! Да и всегда бедность назойлива, – спать, что ли, мешают их стоны голодные! (105)
Транспонируя это рассуждение об уличной сцене в сферу эстетического анализа, Шевырев обозначает парадоксы репрезентации в условиях книжного рынка. Автор социального романа как будто говорит голосом «назойливого бедняка» и «ходатайствует» за него. Вместе с тем он не стоит сам на паперти, но «не только питается, но и роскошничает от своих бедных» – и потому вызванная его картинами скука, ужасная в отношении к действительной нищете, оказывается вполне оправдана в коммерчески-эстетической сфере.
IV
В критиках Макара на «Станционного смотрителя» и «Шинель» рефлектируется работа социального знания о бедных людях, обращающегося при помощи изображений (Darstellung) к симпатии все более коммерческого общества. Ее темные стороны Макар испытывает на себе, понадеявшись в отчаянии на ростовщика:
Осведомился к чему и как, а я ему: дескать, так и так, вот Емельян Иванович, – рублей сорок, говорю; дело такое, – да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело. «Нет, уж что, говорит, дело, у меня денег нет; а что у вас заклад, что ли, какой?» Я было стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, – объясняю, одним словом, что нужно. Выслушав всё, – нет, говорит, что Емельян Иванович! у меня денег нет. ‹…› Да что вам, зачем деньги надобны? (Ведь вот про что спросил, маточка!) Я было рот разинул, чтобы только так не стоять даром, да он и слушать не стал – нет, говорит, денег нет; я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет и что я, ей-Богу, отдам. Я, маточка, в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастия и нужды вспомнил, ваш полтинничек вспомнил, – да нет, говорит, что проценты, вот если б заклад! (94)
Эта сцена, не имеющая сюжетных последствий, выказывает со всей наглядностью экономическую цену обращенного к имущим достоверного и искреннего рассказа, или представления, о несчастиях и нуждах бедняков. Рассказ этот расположен на границе с немотой: Макар «вспомнил» несчастья Вареньки, но остается неясным, рассказал ли он о них вслух – и в любом случае ростовщик «и слушать не стал». Однако не приходится утверждать, что ростовщик встречает Макара простым равнодушием и отсутствием интереса. Напротив, к удивлению Макара, он осведомляется о причинах его займа: «Да что вам, зачем деньги надобны?» После этого его видимое невнимание к словам Макара и бедствиям Вареньки нужно приписать не глухоте, но привычному деловому расчету. Ростовщик не столько пропускает мимо ушей историю Макара, о которой он сам спросил, сколько расценивает ее как неубедительное основание для столь необходимой бедняку ссуды.
Фигура ростовщика как настоящего потребителя социального знания о нищете восходит к «Евгении Гранде» Бальзака, переведенной Достоевским перед его работой над «Бедными людьми» и послужившей, по авторскому признанию, образцом для этого романа:
Перехитрить всех и каждого и потом презирать простаков, смеяться над ними – вот жизнь, власть, душа, могущество, гордость скупого. Скупец понимает терзания нищеты и бедности, он их постиг; он постиг агнца, ведомого на заклание, эмблему умирающего с голода. Но скупец – он сначала откормит своего агнца, обнежит его, потом его режет, потом его жарит, потом его ест, по правилам, терпеливо, методически. Презрение и золото – вот насущный хлеб для скупого (390).
Знание о бедности оказывается тут своего рода валютой коммерческой экономики: его циркуляция и накопление соответствуют разорению одних и обогащению других. Законы этой экономики представлены типом богача-«скупца», чья коммерческая ловкость опирается на чуткость к экономическим и нравственным «терзаниям нищеты»[276]276
О типе скупца и его узловой роли для образов экономики в раннем реализме см.: Porter J. Op. cit. P. 109–141.
[Закрыть]. В этой чуткости без труда узнается симпатия, описанная Адамом Смитом как атрибут экономического эгоизма и выстроенной на нем общественной системы. И у Смита, и у Бальзака она не противоречит ни первоочередному интересу к золоту, ни презрению к нищете, составляющим «насущный хлеб для скупого» и основу его благосостояния. Как говорится в «Преступлении и наказании» (1866) в связи с векселем Раскольникова, «честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает да ест, а потом и съест»[277]277
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 98.
[Закрыть]. Публичное повествование об «умирающих с голода», даже усвоившее себе символический язык христианских «эмблем», служит в этой системе не облегчению социальных тягот, но бесперебойной работе экономического порядка. Как дважды повторяет Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», «общественный траур повышает цену черной материи»[278]278
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 59; Halpern R. Op. cit. P. 29–30.
[Закрыть].
«Неточка Незванова» и экономика письма
Эстетика и политика романа воспитания в николаевской России
Белла Григорян
К гостиной примыкала малая столовая для завтраков и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гардину из красной плотной шерсти и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон.
Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид – вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи долгие порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов.
Я вернулась к моей книге – «Истории британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. ‹…›
Каждая картинка содержала какую-то историю, часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств и все же необычайно интересную – не меньше рассказов Бесси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для утюжки у камелька в детской. Разрешив нам усесться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платьях миссис Рид, плоила ее ночные чепцы и потчевала нас перипетиями любви и приключений, заимствованными из старинных сказок и еще более старинных баллад, а то и (как я поняла позднее) из «Памелы» или «Повести о Генри, графе Морленде».
С Бьюиком на коленях я была счастлива, то есть счастлива на свой лад[279]279
Оригинал см. в изд.: Charlotte Brontë. Jane Eyre / Ed. M. Smith. Oxford University Press, 2008. P. 7–9. Русский текст цитируется в переводе И. Гуровой (М.: Время, 2017).
[Закрыть].
Одновременно с «Неточкой Незвановой» Достоевского в «Отечественных записках» за 1849 год появился вольный перевод романа Шарлотты Бронте, выполненный И. И. Введенским под заглавием «Дженни Эйр»[280]280
О переводе Введенского и его отступлениях от подлинника см.: Сыскина А. А. Трансформация форм реализма в переводе романа Ш. Бронте «Джейн Эйр» И. И. Введенского (1849 г.) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 6 (17). С. 175–180. Об истории восприятия этого романа в России см.: Demidova O. R. The Reception of Charlotte Brontë’s Work in Nineteenth-Century Russia // The Modern Language Review. 1994. Vol. 89. № 3. P. 689–696.
[Закрыть]. (Выше процитирован современный перевод Ирины Гуровой.) «Джейн Эйр» представляла собой образцовый для XIX века роман воспитания (Bildungsroman). Приведенный только что отрывок из его первой главы содержит множество тем, которые помогут нам прочесть «Неточку Незванову» на фоне жанровой традиции романа воспитания[281]281
О «Неточке Незвановой» как романе воспитания см.: Краснощекова Е. Роман воспитания – Bildungsroman – на русской почве: Карамзин, Пушкин, Гончаров, Толстой. СПб.: Пушкинский фонд, 2008.
[Закрыть], обращая внимание на свойственное ей соотношение материальности и воспитания (Bildung), и – шире – на политические и эстетические импликации этого жанра как культурной формы. Как будет показано далее, включение «средних» регистров культуры 1840‐х годов в дискурсивную ткань романа осуществляется в «Неточке Незвановой» посредством чередования и сопряжения готической, романтической и реалистической эстетики. Эта модальная гибридность сказывается в развернутом у Достоевского понимании Bildung.
Как мы беремся утверждать, политические импликации и эстетические свойства воспитания определяются в рассказе Неточки «средним» сегментом журнального и книгоиздательского поля николаевской эпохи. Наш взгляд на прозу Достоевского в соотношении с современной ему печатью многим обязан статье К. Ключкина «Происхождение „Преступления и наказания“ из духа медиа» (2002)[282]282
Klioutchkine K. The Rise of Crime and Punishment from the Air of the Media // Slavic Review. 2002. Vol. 61. Issue 1. P. 88–108. О литературных и публицистических произведениях Достоевского в контексте периодической печати той эпохи см.: Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. М.: Худож. лит., 1966. Об истории и о поэтике публикаций романов Достоевского в толстых журналах, в частности в «Русском вестнике», см.: Todd W. The Brothers Karamazov and the Poetics of Serial Publication // Dostoevsky Studies. 1986. Vol. 7. P. 87–97; Todd W. Dostoevsky and Tolstoy: The Professionalization of Literature and Serialized Fiction // Dostoevsky Studies. 2011. Vol. 15. P. 29–36; Todd W. «To be Continued»: Dostoevsky’s Evolving Poetics of Serialized Publication // Dostoevsky Studies. 2014. Vol. 18. P. 23–33. О роли прессы (и в частности, fait divers) в романах Достоевского см.: Catteau J. La création littéraire chez Dostoïevski. Paris: Institut D’Études Slaves, 1978. P. 237–252. О художественном преломлении fait divers как об одной из основных стратегий Достоевского в контексте литературной коммерции пореформенной России см.: Paine J. Selling the Story: Transaction and Narrative Value in Balzac, Dostoevsky, Zola. Cambridge, MA; London, England: Harvard University Press, 2019. P. 99–182.
[Закрыть]. Механизмы рефлексии художественной прозы над условиями собственного медиального бытования были замечательно описаны Пьером Бурдьё[283]283
Bourdieu P. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field / Transl. S. Emanuel. Stanford, CA: Stanford University Press, 1995.
[Закрыть]. В романе Флобера «Воспитание чувств» Бурдьё находит социологический анализ существования французской богемы; в сходной перспективе можно прочесть и «Неточку Незванову». В николаевской России постепенно зарождалась «средняя» («middle», «middling») печать, ставшая со временем частью развитой «средней» культуры[284]284
О регистрах культуры см.: Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste / Transl. R. Nice. London, UK: Routledge, 1984. Многие темы, важные для соотношения «Неточки Незвановой» с печатью тех лет, останутся вне нашего рассмотрения; так, мы почти не будем касаться ее связей с сочинениями Жорж Санд и Эжена Сю.
[Закрыть]. Этой культурной сфере принадлежала – и в России, и в Европе – ранняя реалистическая проза.
Роман воспитания обещает своему герою равноправную принадлежность к политическому сообществу, «приобщение к публичной сфере в качестве наделенного правами и обязанностями гражданина»[285]285
Slaughter J. Human Rights, Inc.: The World Novel, Narrative Form, and International Law. New York: Fordham University Press, 2007. P. 31.
[Закрыть]. В «Неточке Незвановой», первом опыте большого романа у Достоевского, публичная сфера замещается – под пером соименной роману повествовательницы – книжным рынком с его материальными и экономическими составляющими. «Неточка Незванова» прослеживает превращение героини в homo narrans[286]286
Термин homo narrans (к которому мы еще вернемся) заимствован в данном случае у Джозефа Слотера. Он фигурирует в различных дисциплинарных аппаратах, от антропологии до теории коммуникации. У Слотера, который сопоставляет мировой роман воспитания с различными формами правового мышления, homo narrans, человек рассказывающий, оказывается тождествен с правовым субъектом, как он представлен в юридическом учении о правах человека. Как пишет Слотер, «хотя закон ‹…› исходит из того, что склонность и способность к повествованию свойственны человеку от природы и равно осуществляются повсюду, – специфические формы повествовательной потребности определяются и нормируются культурным и общественным порядком, в котором индивид принимает участие ‹…› в силу инкорпорирующего процесса полного и свободного развития человеческой личности» (Slaughter J. Op. cit. P. 40.) Среди прочего, Слотер проницательно очерчивает связь различных модусов повествования о себе с формами политического и экономического уполномочивания.
[Закрыть], рассказчицу собственной истории, – и представляет все составляющие повествование рассказы подлежащим продаже товаром. На фоне коммерческой печати 1840‐х годов «Неточка Незванова» оборачивается историей о продаже историй, или, иначе – очерком условий культурного производства в «средней» сфере культурной продукции.
Взглянем для начала на предметный мир «Джейн Эйр» как узловой момент ее реалистической, главным образом, эстетики. Подобно «Неточке Незвановой», роман Бронте обладает хорошо изученной эстетической поливалентностью, вбирая в себя и романтические, и готические элементы[287]287
Об использовании различных жанров и эстетических модусов в «Джейн Эйр» см.: Beaty J. Misreading Jane Eyre: A Postformalist Paradigm. Columbus, OH: Ohio State University Press, 1996. P. 46–76.
[Закрыть]. Вместе с тем начальная сцена романа строится на реалистическом анализе личной психологии, который окажется затем важнейшим моментом романного повествования. Джейн с ее несоразмерно богатым внутренним миром впервые предстает нам в сцене, имеющей архетипический характер в текстах XIX века и живописи этого и предшествующего столетия: ребенок сидит с книгой[288]288
Об этом образе см.: Grenby M. O. The Child Reader, 1700–1840. New York: Cambridge University Press, 2011. P. 15–24.
[Закрыть]. Эта сцена быстро становилась обязательным атрибутом «романа воспитания» и воплощала важнейшую тему обращения ребенка с книгой (как показала Лиа Прайс, книги нужны в викторианском романе далеко не только для чтения[289]289
См.: Price L. How to Do Things with Books in Victorian Britain. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2012. Прайс подробно разбирает эпизоды, в которых юных и притесняемых героев романов воспитания ловят при обращении с книгами. Можно вспомнить и сцену в начале «Красного и черного» Стендаля, где юный Жюльен Сорель подвергается побоям отца, роняет книгу и чуть не гибнет.
[Закрыть]). Более того, в «Джейн Эйр» и предшествующей ей традиции обращение с книгами (не только чтение их) несет в себе угрозу существующему порядку вещей, часто связанную с пересечением классовых границ[290]290
Как указывает М. О. Гренби, начиная с 1790‐х годов детское чтение могло связываться с политическим радикализмом (Grenby M. O. Op. cit. P. 256). С точки зрения Прайс, начальная сцена «Джейн Эйр» предвосхищает различные «общественные вопросы», и среди них страх перед доступом низших к хозяйской библиотеке, где они могут загрязнить книги (Price L. Op. cit. P. 193).
[Закрыть]. Как напомнит Джейн Джон Рид (перед тем как кинуть в нее «Историей британских птиц»), она сирота и не имеет в доме Ридов ни прав, ни собственности. На это Джейн ответит сакраментальным возгласом: «Несправедливо! несправедливо!» Итак, в сцене с книгой в самом начале романа обнаружатся его важнейшие темы: неопределенное положение будущей гувернантки, ее бедность и мятежный нрав.
Подробное описание местоположения Джейн, пристроившейся читать в оконном проеме, обозначает ее двойственный статус: принадлежность к общественному пространству и одновременно исключенность из него. Поместившись между «алыми складками гардины» и «прозрачными стеклами», Джейн оказывается как бы вне столь негостеприимного дома Ридов и в то же время не на улице, где «унылый ноябрьский день» сулит мало радости. Местонахождение Джейн в начале романа соответствует неопределенному общественному статусу, который она сохранит на протяжении всего произведения как образованная работница, гувернантка и «леди» (как ее многократно называют), которая – уже в семействе Рочестеров – вместе с простыми слугами будет убирать дом к приезду гостей.
Однако ее «убежище, [укрытое] почти со всех сторон» имеет и другое значение, касающееся ее богатейшего внутреннего мира. Джейн уединилась с книгой, чтобы предаваться раздумьям[291]291
Позднее Сент-Джон тоже уединится с книгой в оконном проеме – и это, опять же, будет знаком его неполной принадлежности к социальному миру.
[Закрыть]. Как объясняет Лиа Прайс, непрочитанные книги служат в викторианском романе воспитания реквизитом для изображения душевной жизни[292]292
Price L. Op. cit. Passim.
[Закрыть]. Джейн намеренно выбрала книгу, «предусмотрительно [убедившись]», что в ней много картинок: только так становится возможен опыт, подробно описанный в этом пассаже. Джейн и читает, и нет: она рассматривает картинки, читает немного и уносится мыслями вдаль. Мир за окном и мир ее размышлений сливаются. «Каждая картинка содержала какую-то историю», напоминающую об устных рассказах Бесси – и в то же время совершенно иных, поскольку теперь мы погружаемся в обособленное сознание Джейн. Перифразируя Вальтера Беньямина, можно сказать, что это ненасытное одиночное сознание дано только тому, кто отказывается читать печатный текст[293]293
Свойства, которые Вальтер Беньямин обнаруживает у читателя романов, могут быть перенесены и на одинокого потребителя других печатных форм. См.: Беньямин В. Рассказчик: Размышления о творчестве Николая Лескова // Беньямин В. Озарения / Пер. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. М.: Мартис, 2000. Как показывает Прайс, сама Джейн опознает печатное происхождение устных рассказов Бесси (Price L. Op. cit. P. 82).
[Закрыть]. Это следствие печатной культуры и постепенно входящего в обыкновение молчаливого чтения.
Можно сказать, что «Неточка Незванова» обрывается там, где начинается «Джейн Эйр». Столь же богатая внутренняя жизнь героини Достоевского тоже питается ее неограниченным (хоть и висящим на волоске) доступом к книжному шкафу. Речь, конечно же, не идет об интертекстуальной связи двух романов: Достоевский, как известно, читал русский перевод «Джейн Эйр» в Петропавловской крепости, когда «Неточка Незванова» была уже написана. Многочисленные сходства отдельных мотивов – дружба Джейн с Элен Бернс и привязанность Неточки к Кате; подчеркнутая важность отдельных предметов (нового платья, красных гардин) и домашних обыкновений (привычка наказывать, запирая в комнате) – объясняются обращением обоих романистов к быстро складывавшемуся набору общих мест романа воспитания как хорошо воспроизводимой «средней» (middlebrow) культурной формы. Однако сопоставление двух романов позволяет лучше очертить некоторые особенности жанровой конструкции «Неточки Незвановой».
Примечательно, в частности, что романный набросок Достоевского заканчивается несколькими сценами, где субъективность героини выявляется в актах письма и чтения. По ходу повествования становится ясно, что Неточка достаточно начитана для того, чтобы опознавать хорошо устоявшиеся жанрово-стилистические комплексы вроде готически-романтической фантастики и чуть ли не указывать на их присутствие в ее собственном повествовании. Можно было бы сказать, что романная форма здесь подчиняет себе готическую традицию и перерастает романтическую на пути к психологическому реализму. Предпочтительней, однако, говорить о неразрешенном и необязательно телеологически организованном напряжении между готическим, романтическим и реалистическим началами; реализм, ко всему прочему, не был единственно возможным итогом постромантической эволюции стилей[294]294
Скорее наша работа стремится очертить становление романтического реализма Достоевского в материалистическом ключе. См. о нем классическую работу: Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism: A Study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens, and Gogol. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.
[Закрыть]. Как нам предстоит показать, «Неточка Незванова» подрывает, или по крайней мере перенаправляет, заложенную в реализме перспективу уполномочивания homo narrans – субъекта, обретающего в акте повествования о перенесенных им или ею тяготах право голоса в литературной публичной сфере.
Прежде всего заметим, что под пером Неточки роман воспитания (Bildungsroman) о ее юности и годах учения сращивается с другой формой – романом о художнике (Künstlerroman), героями которого оказываются и она сама (надо думать, в качестве будущей оперной певицы), и ее отчим, музыкант Ефимов[295]295
Как показывает Лина Стайнер, в истории Ефимова можно увидеть несостоявшийся роман воспитания, которому противостоит – или должно было противостоять – успешное «воспитание» Неточки. По мнению исследовательницы, неудача Ефимова связана с его «неспособностью примирить внутренние потребности с жизненными обстоятельствами, сделать карьеру из призвания» (Steiner L. «Netočka Nezvanova» on the Path of Bildung // Die Welt der Slaven. 2006. № LI. C. 242). Иными словами, мы опять сталкиваемся с вопросами профессионализации.
[Закрыть]. Этот двойной Bildungs- и Künstlerroman (два этих поджанра, конечно, тесно связаны) пронизан острыми и запоминающимися переживаниями, связанными с конкретными предметами. Хорошо известно, что реалистическое искусство наделяет мир вещей огромной значимостью; интерес к вещам служит чуть ли не определяющим признаком реализма как такового. Питер Брукс подчеркивает заложенную в самом понятии «реализма» связь с «вещностью», и рассматривает мир вещей как узловой момент этой формы искусства, определенной в значительной степени доминированием визуального. Избирая вещи точкой отсчета для своей интерпретации реалистического зрения, Брукс заключает, что «накопление вещей, деталей, частностей может считаться коренной чертой реалистического романа»[296]296
Brooks P. Realist Vision. New Haven; London: Yale University Press, 2005. P. 16. О художественном восприятии мира вещей в русской литературе см.: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971; Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М.: Совр. писатель, 1992. О Достоевском исследователь пишет: «Достоевский не бежит предмета. Но это особым образом увиденные предметы. ‹…› Они создают то напряженное вещное поле, которое является основой того художественного видения, которое вошло в литературу с этим писателем» (С. 104). Избранный нами материалистический подход к литературе опирается, среди прочего, на работы: Brown B. Thing Theory // Critical Inquiry. 2001. Vol. 28. № 1. P. 1–22; Idem. A Sense of Things: The Object Matter of American Literature. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
[Закрыть]. А что же романтические тексты? Как мы увидим, у Достоевского вещи изображаются в двойном свете. Вещный мир «Неточки Незвановой» играет металитературную роль и обозначает принадлежность этого романа моменту стилистического и социоэкономического слома в русской художественной жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































