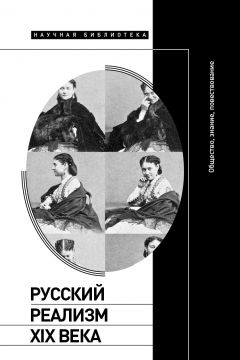
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Такое педагогическое обрамление взросления героя выдвигает вперед субстанциальные категории семьи и государства в ущерб воображаемым гражданского общества. (Показательно, что даже образ фабрики в романе используется не столько для обозначения предпринимательской, экономической деятельности, сколько в качестве метафоры рациональной организации бюрократического аппарата: «Точно завод моего дяди!» – мысленно восклицает Александр, осматриваясь в департаменте, куда его хочет устроить Адуев-старший. «И каждый день, каждый час, и сегодня, и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей – одни колеса да пружины»[366]366
Гончаров И. А. Обыкновенная история // Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. СПб.: Наука, 1997. С. 226–227.
[Закрыть].) Более широкий социальный мир, в котором герой мог бы найти учителей, здесь по существу оказывается обойден или, точнее, сведен к ряду эпизодов, задача которых приготовить материал для обсуждения с дядей или продемонстрировать реализацию дядиных предсказаний. Все сюжетные линии сходятся в кабинете Петра Адуева (редко – в гостиной его молодой жены Лизаветы Александровны). Такая жесткая организация текста не оставляет места для построения того, что Фредрик Джеймисон называет имманентной совокупностью (immanent totality), то есть того сложного переплетения персонажей и событий, которое реализует идеологию провиденциальной взаимозависимости индивидуальных интересов и одновременно обозначает «реальность» как таковую[367]367
Jameson F. The Experiments of Time: Providence and Realism // The Novel. Vol. 2. P. 95–127.
[Закрыть]. Многочисленные возлюбленные Александра быстро забываются сюжетом романа и периодически всплывают только в лекциях дяди, который готов использовать их в качестве примеров, но никак не может запомнить их имена. Неожиданная встреча с лучшим другом детства, литературное творчество – все это лишь мотивировка для наставлений Адуева-старшего. Роман не представляет нам процесс «социального взросления» (П. Бурдьё) героя, его интеграцию в общественную жизнь эпохи. Наоборот, герой постоянно совершает как бы регрессию обратно в семью, выслушивая поучения и напутствия дяди, принимая утешения тети[368]368
Как видно из письма Александра тете, написанного из провинции, Лизавета Александровна является наиболее правдоподобной, хотя и не реализованной, педагогической альтернативой для героя. Любопытно, что ближе к концу романа она оказывается в центре несколько иного сюжета, близкого французскому сентиментальному роману, в частности роману Жорж Санд. Об этом здесь нет возможности поговорить подробно. Следует отметить только, что сюжеты русского реалистического «воспитания» и французского, как раз не реалистического, а сентиментального «увядания», сходятся в фигуре рассудочного чиновника-наставника, под управлением которого эти процессы протекают.
[Закрыть]. Это положение можно даже заострить, сказав, что развитие Александра совершается и принимает соответствующую форму не столько в обществе, сколько под эгидой трехчленной метафоры суверена, актуальной именно для эпохи Николая I (и не только для нее): «Государство – отец – учитель»[369]369
Wortman R. The Power of Language and Rhetoric in Russian Political History: Charismatic Words from the 18th to the 21st Centuries. London; Oxford; New York; New Delhi; Sydney: Bloomsbury, 2018. P. 73.
[Закрыть].
Педагогический метод единственного наставника Александра в корне отличается от провиденциальных маневров Общества башни, направляющего героя легкой, почти невидимой рукой. Так, например, в первый же вечер пребывания Александра в городе дядя спрашивает племянника, не голоден ли он. Александр наивно отвечает, что хотел бы поужинать, на что Петр, почти ликуя, объявляет, что ему нечего предложить: «Вот тебе и урок на первый случай – привыкай»[370]370
Гончаров И. А. Указ. соч. С. 210.
[Закрыть]. На следующем таком «уроке», отсылающем читателя ко вполне актуальной полицейской практике люстрации, Петр читает письмо Александра другу детства, запрещает ему его отправлять и, более того, диктует альтернативное письмо: «Хочешь, я тебе продиктую истину?»[371]371
Там же. С. 216.
[Закрыть] – «Извольте, дядюшка: я готов повиноваться»[372]372
Там же. С. 219.
[Закрыть]. Далее Петр Адуев якобы ненароком сжигает письмо племянника возлюбленной, выкидывает из окна подаренные ему кольцо и локон («вещественные знаки невещественных отношений») и под ложным предлогом выпрашивает юношеские стихи Александра для оклеивания стен. Так начинается рациональное перераспределение энергии и ресурсов (из бесполезной поэзии в полезные обои, из кабинета курьезов в рабочий кабинет). Как и многие другие сцены общения между племянником и дядей, эпизод этот подан в комическом ключе клоунады, которая, с одной стороны, романизирует, «снижает» явные проявления насилия, а с другой, напоминает петровские сценарии карнавализованной безжалостности на службе модернизации[373]373
Начиная с рецензии Белинского, в критике о романе бытует представление, в целом неоспоримое, о центральности для него полемики с вырождающимся романтизмом. Задача моего исследования в этом смысле может быть обозначена как попытка конкретизировать те (специфически российские) социально-воображаемые сценарии, в рамках которых особым образом деформируется характерная для европейского реализма в целом тематика преодоления романтизма.
[Закрыть]. В отличие от постоянно прибегающих к иронии членов Общества башни у Гете, наставник в романе Гончарова не столько иронизирует, сколько поднимает на смех, провоцирует фарс.
Другой выразительный эпизод романа изображает попытку дяди охладить бушующие чувства влюбленного племянника. Петр Адуев демонстрирует почти сверхъестественную информированность об отношениях Александра и Настеньки, вызывая у племянника подозрение, что он находится под надзором: «вы подсылаете смотреть за мной»[374]374
Гончаров И. А. Указ. соч. С. 238.
[Закрыть]; «вы подслушали нас»[375]375
Там же. С. 239.
[Закрыть]. Объяснение Адуева-старшего проще: все люди более или менее одинаковы, и, следовательно, все подобные истории разворачиваются по одному и тому же сценарию. Образовывается метафора, в которой сливаются и взаимопроникают две парадигмы: рациональный принцип исчислимости человеческого поведения, с одной стороны, и непосредственный надзор государственных органов – с другой. Возникает ситуация, на первый взгляд сходная с той, которую описывает Д. А. Миллер (D. A. Miller) в классической, инспирированной работами Мишеля Фуко, книге «Роман и полиция», где он описывает процесс, в результате которого западноевропейский роман дезавуирует практики непосредственного государственного надзора и контроля, отмежевывается от полиции как таковой, с тем чтобы в более скрытой форме взять этот труд на себя: «Всякий раз, когда роман осуждает правоохранительную власть, он уже изобрел ее заново, в самой практике романного изображения»[376]376
Miller D. A. The Novel and the Police. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1988. P. 20.
[Закрыть]. Дисциплинарная власть романа состоит, например, в таких типичных приемах романного дискурса, как несобственно-прямая речь, в рамках которой повествование приводит слова и действия персонажа, но вместе с тем напоминает об иерархии авторитетности, где всезнающий повествователь находится выше, чем говорящий, думающий и действующий герой. Подобным образом можно понимать и завершающую функцию сюжета, в наиболее простой форме награждающего добродетель и наказывающего порок[377]377
Ibid. P. 25–26.
[Закрыть]. Так или иначе, речь идет о проблеме легитимации данного социального порядка за счет изображения его как принципиально ненасильственного: герою дается высказаться, порок наказывается сам по себе, никем. Можно сказать, что именно эту функцию и выполняют те социальные воображаемые («система потребностей», «абстрактное право» и «общий интерес»), о которых шла речь до сих пор: в этом обществе можно обрести успех, не становясь преступником (Бальзак); можно обуздать страсти, но все же стать счастливой (Бронте); можно реализоваться именно в сотрудничестве с другими (Гёте).
Что касается «Обыкновенной истории», то тут, несмотря на центральность той же дисциплинарной проблематики, все выходит как бы наоборот. Вместо того чтобы отмежеваться от репрезентации принуждения и контроля, «негласно» беря эту функцию на себя, роман оказывается заворожен именно такого рода насильственным «воспитанием», детально описывая его принципы, методы, способы, обоснования, самооправдания и результаты. Вместо того чтобы стать невидимым агентом дисциплинарной власти, роман превращает ее в объект изображения. Как, например, в монологе Петра Иваныча, описывающем его методику контроля над женой:
Предоставь ей свободу действий в ее сфере, но пусть за каждым ее движением, вздохом, поступком наблюдает твой проницательный ум, чтоб каждое мгновенное волнение, вспышка, зародыш чувства всегда и всюду встречали снаружи равнодушный, но недремлющий глаз мужа. Учреди постоянный контроль без всякой тирании… да искусно, незаметно от нее и веди ее желаемым путем…[378]378
Гончаров И. А. Указ. соч. С. 303.
[Закрыть]
Здесь наблюдается не двухходовка, как у Миллера, а как бы трехходовка: текст 1) отрицает непосредственное насилие, 2) противопоставляет ему насилие скрытое, дисциплинарное, но, вместо того чтобы вынести этот второй момент за скобки и сделать из него принцип изображения, он 3) превращает его в объект изображения. Иначе говоря, насилие, даже становясь дисциплинарным, не исчезает из поля зрения; наоборот, его образ подается в сгущенных красках, обнажаются его последствия. Так, например, Петр Иваныч жалуется жене, что, в отличие от рабочих на его фабрике, которых можно просто выпороть за плохое поведение, Александра подобным образом наказать нельзя за его нежелание или неспособность приспособиться к новому, разумному порядку[379]379
Там же. С. 425.
[Закрыть]. Александр, в свою очередь, временами воспринимает наставничество дяди как в чистом виде деспотичное: «Боже! когда же он освободится от несокрушимого влияния дяди? Неужели жизнь его никогда не примет особенного, неожиданного оборота, а будет вечно идти по предсказаниям Петра Иваныча?»[380]380
Там же. С. 359.
[Закрыть] Наконец, в эпилоге, проблематика дисциплинарности окрашивается в явно политические тона. По ходу разговора с женой, которая, как и Александр, постепенно увядает под семейной опекой государственного служащего, Адуев-старший вынужден признаться, что его метод – не что иное, как «холодная тирания»[381]381
Там же. С. 459.
[Закрыть]. Лизавета Александрова, в свою очередь, восклицает: «Боже мой! зачем мне свобода? ‹…› Что я стану с ней делать? Ты до сих пор так хорошо, так умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла от своей воли; продолжай и вперед; а мне свобода не нужна»[382]382
Там же. С. 457.
[Закрыть].
Затронутый вопрос о свободе и желаниях – базовый вопрос Нового времени, на который все рассмотренные нами социальные воображаемые призваны предложить ответ, – получает характерное развитие в одном из самых ранних разговоров между племянником и дядей. Здесь Петр Иваныч допрашивает Александра о цели его прибытия в Петербург. Александр предлагает несколько неубедительных объяснений, например: «Я приехал… жить». И дальше: «Пользоваться жизнью, хотел я сказать». И наконец: «Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить ‹…› Осуществить те надежды, которые толпились…»[383]383
Там же. С. 207.
[Закрыть] В конце концов, он вынужден признаться, что сам не знает, зачем приехал. И именно здесь в первый раз появляются ключевые слова «карьера и фортуна», впервые произнесенные дядей и лишь повторенные племянником. Если задуматься, Вильгельм в начале романа Гёте не имеет хоть сколько-нибудь более конкретных целей. Он отправляется по деловому поручению, отвлекается, вступая в театральную труппу, которую затем не раз хочет оставить, но каждый раз остается. Он тоже жаждет благородной деятельности, в нем кипит стремление к самореализации. Но у Гёте эти стремления движут героем на фоне квазипровиденциального горизонта, который заранее, в лице Общества башни, гарантирует положительный исход самым, казалось бы, неоправданным решениям, порывам и импульсам: «от ошибок можно излечиться, только ошибаясь»[384]384
Гёте И. В. Указ. соч. С. 454–455. Об идейной близости гончаровского романа воспитания роману Гёте см.: Краснощекова Е. Роман воспитания/Bildungsroman на русской почве: Карамзин, Пушкин, Гончаров, Толстой, Достоевский. СПб.: Пушкинский фонд, 2008. С. 130–174.
[Закрыть]. Иначе у Гончарова, где неопределенные стремления героя расцениваются как бесполезная трата энергии, которую необходимо перенаправить на достижение рангов и богатства и таким образом завербовать на службу государственному проекту управляемой свыше модернизации. Надо отметить, что образ карьеры здесь принципиально отличается также и от соответствующей проблематики у Бальзака, где амбиция поставлена на службу потребительским и честолюбивым интересам самого индивида. Здесь карьера – это то, что заставляет человека делать «дело», то есть принимать активное участие в построении рационального порядка Нового времени. Перед нами скорее социально-воображаемая модель «общего интереса», но построенная не как у Гёте, на спонтанном, а значит легитимирующем порядок достижении данной точки зрения самим героем, а на давлении сверху, внушающем цель и обучающем средствам. Здесь напрашивается параллель с тезисом историка Марка Раева об особой форме проекта «регулярного полицейского государства» в России, где, в отличие от процессов, протекающих в германских землях (там делался больший упор на уже существующие институты), процесс модернизации происходит при «почти полной зависимости от позитивного лидерства и контроля со стороны центрального государственного аппарата»[385]385
Raeff M. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven: Yale University Press, 1983. P. 252. См. также: Живов В. М. Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 439–460.
[Закрыть]. Здесь же можно вспомнить тезис Виктора Живова о традиционно ослабленных в российском идеологическом пространстве практиках «интериоризации социальных запретов», с одной стороны, а с другой – соответствующе кардинальной роли государства в цивилизационном процессе[386]386
Живов В. М. Особый путь и пути спасения в России // «Особый путь»: От идеологии к методу / Под ред. Т. Атнашева, М. Велижева и А. Зорина. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 94. См. также в этой связи: Живов В. М. Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 439–460. С оглядкой на первый полноценный русский роман воспитания можно сказать, что «государственный миф», как сценарий чудесного преображения общества под воздействием просвещенного государства-монарха, продолжает жить именно в разрушенном, профанированном виде: «чудо» принимает форму насилия.
[Закрыть].
Последствия применения к Александру принудительных методов управления «регулярного полицейского государства» становятся очевидны к концу основной части романа. Александр постепенно погружается в глубокую апатию, теряет способность чего бы то ни было хотеть. Дядя пытается возбудить в нем амбиции, напоминая, что его собираются уже в третий раз обойти по службе, хочет даже возбудить в нем прежнее желание литературной славы и любви, но Александр только угрюмо смеется в ответ. Отчаиваясь преуспеть, Петр Иваныч восклицает: «Человек должен же хотеть чего-нибудь?»[387]387
Гончаров И. А. Указ. соч. С. 386.
[Закрыть] Несколько раньше, когда разочарованный в любви Настеньки Александр был еще способен отзываться на подобные попытки дяди его расшевелить, находим эпизод, проясняющий логику желания, как его понимает Петр Адуев. Этот эпизод тем интереснее, что составляет в некотором смысле исключение из правила. В нем оказывается задействовано целых четыре персонажа, и соответственно он выпадает из основной для романа трехчленной парадигмы, в которой Александр сталкивается с неким персонажем/переживанием лишь для того, чтобы вернуться к дяде и получить соответствующие новому опыту поучения. Речь идет о любовной интриге Александра с молодой вдовой Юлией Тафаевой, спровоцированной самим Петром Адуевым. Один из партнеров Адуева по управлению фабрикой страдает излишней влюбчивостью. Влюбляясь, он каждый раз начинает тратить время и деньги на свою возлюбленную. Обеспокоенный судьбой своего предприятия, дядя просит Александра отвлечь на себя внимание очередной пассии партнера Тафаевой, возвращая таким образом энергию и ресурсы в продуктивное русло. По расчетам дяди, такое любовное похождение должно также стать благотворным для Александра, еще не успевшего оправиться от неудачи с Настенькой. Таким образом, даже там, где роман создает более усложненную сюжетную интригу, она не основывается на некоей иллюзии спонтанной агрегации интересов, а в открытую строится в управленческом режиме махинаций «сверху» во имя более эффективного перераспределения соответствующей энергии: чтобы пустить ресурсы в работу, а человека заставить жить.
Итак, мы имеем дело с четырьмя социальными воображаемыми и четырьмя соответствующими типами сценариев, связанных с проблематикой желания. У Бальзака, в социально-воображаемом кругозоре «системы потребностей», желанию индивида дается поле свободного действия, в котором оно одновременно и определяется (подражанием), и ограничивается (соперничеством) желаниями других. В кругозоре «абстрактного права», преобладающем в романе Бронте, желание, основанное на ощущении несоответствия между требованиями личности и обстоятельствами, в которых она оказывается, с одной стороны, служит целям освобождения, а с другой – грозит порабощением изнутри. Поэтому оно должно быть подчинено контролю героини, чья траектория таким образом служит некоей воображаемой генеалогией общества, не нуждающегося во внешнем управлении (самоуправляемых) индивидов. Наконец, в романе Гёте мы сталкиваемся с корпоративным или же полицейским (в гегелевском смысле «регулярного полицейского государства») сценарием, по которому стремления героя находят адекватное разрешение в осознании общности интересов, к чему он приходит в большой степени самостоятельно, но не совершенно без вмешательства. Здесь создается как бы синтез между провиденциальностью Невидимой руки, ведущей человека бессознательно к собственной и общей пользе, и ее осознанным преодолением в корпоративно-полицейской деятельности сообща. Что же касается социального воображаемого «Обыкновенной истории», то здесь желание подвергается ряду процедур – подавления, сдерживания, ослабления, переориентации, управления и т. д., – проводимых однозначно извне и сверху представителем семейно-государственной власти во имя им же сакрализованной рациональности Нового времени. Такого рода оголенное отношение между агентом знания/власти и индивидом, не опосредованное легитимирующим механизмом более или менее спонтанной агрегации гражданского общества, следует социально-историческому сценарию, названному историком колониальной Индии Ранаджитом Гуха, в духе Антонио Грамши, «господством без гегемонии» («dominance without hegemony»)[388]388
См.: Guha R. Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1997. Лила Ганди утверждает, например, что, в то время как европейский Bildungsroman представляет процесс производства граждан, его колониальная ипостась повествует о воспитании подданных (Ghandi L. «Learning Me Your Language»: England in the Postcolonial Bildungsroman // England Through Colonial Eyes in Twentieth-Century Fiction. London: Palgrave, 2001. P. 60). Джозеф Слотер схожим образом описывает логику колониального воображаемого «воспитания»: «Европейский „цивилизующий“ колониализм опирался на номинальное различие между гражданами и подданными, с соответствующей моральной оппозицией между отцовскими чувствами колонизатора и „детской“ нецивилизованностью колонизированных, по ходу оправдываясь с помощью повествований о прогрессе как о необходимом гуманитарном вмешательстве в целях воспитания колонизированных народов в дисциплине свободы, практике самоуправления и навыках гражданственности» (Slaughter J. Human Rights Inc.: The World Novel, Narrative Form, and International Law. New York: Fordham University Press, 2007. P. 124). Примерно так, в духе «внутренней колонизации» (А. Эткинд), представляет себе свою задачу и дядя-наставник Гончарова.
[Закрыть]. В терминах М. Фуко можно сказать, что в этом первом полноценном реалистическом русском романе воспитания, за дисциплинарной – так или иначе вызывающей и в то же время сдерживающей желание – функцией, присущей реалистическому роману как таковому, просвечивает драма суверенного насилия, верховного «нет!», противопоставленного желанию индивидов[389]389
Фуко М. Безопасность, территория, население: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году / Пер. Н. В. Суслова, А. В. Шестакова, В. Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2011. С. 111.
[Закрыть]. И действительно, диалогический скелет «Обыкновенной истории», как и перипетия в его эпилоге (племянник превращается в дядю, как раз тогда, когда последний уже сомневается в верности своих наставлений), демонстрируют актуальность для этого романа драматических жанров, прежде всего трагедии, традиционное поле действия которой – конфронтация в зоне суверенной власти[390]390
В ином ракурсе о бинарно-конфликтной структуре «Обыкновенной истории» см.: Манн Ю. В. Русская литература XIX в.: эпоха романтизма. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 279–280. О той же проблематике, но в связи с петровскими, цивилизаторскими мотивами романа, см.: Платт Д. Б. Обыкновенная история одного читателя «Медного всадника» / Пер. Е. Канищевой // Новое литературное обозрение. 2010. № 106. http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/pl13.html.
[Закрыть]. (Комичность же романа наиболее отчетливо просматривается в навязчивом разыгрывании сцен более или менее непосредственного, карнавализованного насилия над героем.) Остается только напомнить, что именно предотвращению такого рода насильственных конфронтаций и посвящен весь гегелевский комплекс социальных воображаемых, связанных со сферой гражданского общества[391]391
О романизации трагедии в эстетике и политической философии Гегеля, связанной с проблематикой нейтрализации конфликта см.: Halpern R. Eclipse of Action: Tragedy and Political Economy. London: University of Chicago Press, 2017. P. 181–198. Наоборот, о «трагедизации» романа в русской рецепции этих же аспектов философии Гегеля см.: Kliger I. Genre and Actuality in Belinskii, Herzen, and Goncharov: Toward a Genealogy of a Tragic Pattern in Russian Realism // Slavic Review. 2011. Vol. 70. № 1. P. 45–66; Idem. Hegel’s Political Philosophy and the Social Imaginary of Early Russian Realism // Studies in Eastern European Thought. 2013. Vol. 65. № 1–2. P. 189–199.
[Закрыть].
«Случайная действительность» в эпоху реформ
«Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина и проблема литературной репутации[392]392
Статья подготовлена в рамках гранта РНФ № 19–78–10012 «Писатель – критика – читатель (Механизмы формирования литературной репутации в России на рубеже XIX–XX веков)».
[Закрыть]
Кирилл Зубков
В скандально известном романе «Взбаламученное море» (1863), посвященном истории России последних десятилетий, А. Ф. Писемский в качестве одного из наиболее значимых событий недавнего времени упомянул публикацию «Губернских очерков» Щедрина: «„Русский вестник“ уже выходил. Щедрин стал печатать свои очерки. По губерниям только поеживались и пошевеливались и почти со слезами на глазах говорили: „Ей-богу, это ведь он нас учит, а мы и не умели никогда так плутовать!“»[393]393
Писемский А. Ф. Полн. собр. соч.: В 24 т. Т. 10. СПб.; М.: М. О. Вольф, 1895. С. 9.
[Закрыть] В схожих выражениях охарактеризованы «Губернские очерки» в вышедшем вскоре после этого романе вероятно следовавшего за Писемским Н. С. Лескова «Некуда» (1864): «…надворный советник Щедрин начал рассказывать такие вещи, что снова прошел слух, будто бы народился антихрист и „действует в советницком чине“. По газетам и другим журналам закопошились обличители»[394]394
Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. М.: Терра, 1997. С. 163.
[Закрыть]. Во многом цитированные фрагменты схожи: в них появление «Губернских очерков», с одной стороны, оценивается как важное историческое событие, причем скорее не относящееся к вымышленной литературе; с другой стороны, Щедрин охарактеризован с отчетливой иронией: у Писемского он учит провинциальных чиновников брать взятки, а у Лескова становится антихристом, терзающим провинциалом. Так или иначе, оба романиста считали появление произведений Щедрина значимым историческим событием, достойным упоминания в своих произведениях. Причины такого отношения проясняются, если обратиться к тексту самих очерков.
«Губернские очерки», – первое произведение, опубликованное М. Е. Салтыковым под псевдонимом Н. Щедрин, и первое произведение, вышедшее после вынужденного перерыва в творчестве писателя, отправленного в ссылку за повесть «Запутанное дело», – идеально соответствовали «духу времени». Книга Щедрина составлена из произведений разнообразной формы[395]395
Доминируют, как и заявлено в названии книги, очерки; помимо них, встречаются драматические сценки, рассказы, лирические монологи и пр.
[Закрыть], объединенных местом действия – вымышленным российским провинциальным городом Крутогорском. Большинство вошедших в цикл произведений, за исключением написанных в драматической форме, написано от лица участвующего в действии рассказчика – некоего провинциального чиновника Н. Щедрина.
Обращавшиеся к «Губернским очеркам» исследователи преимущественно сосредоточивались на их связи с более поздним творчеством писателя и прочитывали их сквозь призму тех тенденций, которые наметились в цикле и получили более полное развитие в поздних произведениях писателя, – используемого в сатирических целях гротеска, циклизации, введения условного субъекта повествования[396]396
См., например: Макашин С. А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860‐х годов: Биография. М.: Худож. лит., 1972. С. 128.
[Закрыть]. В статье мы попытаемся рассмотреть первую книгу Щедрина в контексте той эпохи, в которую писались и впервые печатались вошедшие в ее состав произведения, – начала царствования Александра II, когда российское общество, включая большинство литераторов, с энтузиазмом воспринимая начало реформ, ожидало радикального разрыва с прошлым и полного, едва ли не мистического, обновления политической жизни в стране[397]397
См.: Paperno I. The Liberation of Serfs as a Cultural Symbol // The Russian Review. 1991. Vol. 50. October. P. 417–436.
[Закрыть]. Как представляется, эта историческая ситуация порождала новые требования к литературе, которая должна была обеспечить читателю новые режимы более прямого доступа к реальности: новой эпохе требовалась новая «реальность», и литература должна была предоставить возможность увидеть и осмыслить эту реальность.
Именно требованиям эпохи реформ и отвечали, как мы попытаемся показать, «Губернские очерки», структура текста которых задала оригинальные, по сравнению с более ранней литературой, модели чтения: читатель должен был воспринимать книгу не как более или менее точное изображение (или тем более отражение) некой внетекстовой «действительности», объясняющее ее для читателя, а как приглашение самостоятельно осмыслять эту «действительность» и свое в ней место. Как и, вероятно, любое литературное произведение, «Губернские очерки» представляли читателю не саму по себе «реальность», а «эффект реальности», однако средства создания этого эффекта и методы воздействия на читателя, использованные Щедриным, сильно отличались от приемов, характерных для «большой литературы» этой или более ранней эпохи, и заслуживают особого внимания.
Говоря о связи между структурой текста «Губернских очерков» и возможной реакцией на них аудитории, мы отталкиваемся от соображений Ю. М. Лотмана:
…всякий текст (в особенности художественный) содержит в себе то, что мы предпочли бы называть образом аудитории ‹…› этот образ аудитории активно воздействует на реальную аудиторию, становясь для нее некоторым нормирующим кодом. Этот последний навязывается сознанию аудитории и становится нормой ее собственного представления о себе, переносясь из области текста в сферу реального поведения культурного коллектива[398]398
Лотман Ю. М. Текст и структура аудитории // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. С. 161.
[Закрыть].
В своих работах Лотман, используя эти методологические принципы, показал, каким образом поведение людей XVIII и начала XIX века опиралось на модели, заимствованные из литературных произведений[399]399
См. обзор работ Лотмана по этой теме: Rebecchini D., Vassena R. «Reader, Where Are You?»: An Introduction // Reading on Russia: Practices of Reading and Literary Communication, 1760–1930 / Ed. D. Rebecchini, R. Vassena. Milano: di/segni, 2014. P. 22–24. Там же см. о параллелях между идеями Лотмана и Х. Р. Яусса.
[Закрыть]. К «Губернским очеркам» такой подход применим не вполне по двум причинам: во-первых, это произведение написано в эпоху «реализма», когда социальные функции литературы и принципы ее чтения значительно изменились по сравнению с ранним периодом; во-вторых, потому, что характерная для Щедрина и – в меньшей мере – для многих его современников установка на тотальную сатиру исключала возможность прямого подражания заданным его произведениями «образцам».
Анализируя реализм Щедрина как набор приемов, обеспечивающих коммуникацию между автором и читателем, мы попытаемся определить значимость «Губернских очерков» для развития русской реалистической прозы середины XIX века в целом. На этом пути, как представляется, нужно соединить различные трактовки «реализма», выделенные в классической работе Р. О. Якобсона: можно описать и установку автора («под реалистическим произведением понимается произведение, задуманное данным автором как правдоподобное»), и установку читателя («Реалистическим произведением называется такое произведение, которое я, имеющий о нем суждение, воспринимаю как правдоподобное»)[400]400
См.: Якобсон Р. О. О художественном реализме // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 387–388.
[Закрыть]. Популярность очерков свидетельствует о том, что используемая Щедриным риторика в той или иной степени оказалась успешна. Мы попытаемся показать, какие особенности текста его очерков вызвали такую реакцию.
Очерки Щедрина, в 1856 году печатавшиеся на страницах только что открытого журнала «Русский вестник» и в 1857 году собранные автором в отдельное издание, были едва ли не наиболее популярным произведением текущей литературы: они обсуждались критиками, вызывали резко отрицательные или восторженные отзывы в переписке и дневниках писателей и послужили одной из причин огромного успеха нового журнала[401]401
Современное исследование о «Русском вестнике» как литературном проекте сосредоточено по преимуществу на классических романах, которые поощряла редакция (см.: Fusso S. Editing Turgenev, Dostoevsky, and Tolstoy. Mikhail Katkov and the Great Russian Novel. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2017). Между тем первый успех журналу Каткова принесли отнюдь не романы, а очерки Щедрина.
[Закрыть]. Отчасти успех можно объяснить внешними обстоятельствами появления очерков: они были знаком развития гласности и стремления правительства к реформам. Само по себе открытие нового журнала воспринималось как необычное событие на фоне последних десятилетий царствования Николая I, когда действовал фактический мораторий на новые периодические издания. Публикация на страницах этого журнала сатирического произведения, где с исключительной резкостью изображались многочисленные преступления российских чиновников, не могла не читаться современниками как знак со стороны правительства, которое подавало обществу сигнал, что готово разрешить общественное обсуждение государственных проблем[402]402
Ср., например, оценку очерков в письме М. И. Скотти Н. А. Рамазанову: «Нового там немного, а важно то, что это напечатано» (цит. по: Макашин С. А. Указ. соч. С. 524; примеч. 7).
[Закрыть]. В этом смысле действия цензуры, разрешившей печатать «Губернские очерки», лежали в одном русле с позицией архитекторов Великих реформ Александра II, которые, как известно, привлекали к разработке проектов государственных преобразований некоторых представителей общества[403]403
Например, представители дворянства на местах участвовали в подготовке отмены крепостного права. Это воспринималось как очень демократическая мера еще десятилетия спустя. Известный историк и публицист писал, например, о роли губернских комитетов, участвовавших в разработке проектов реформы: «…если эта трудная реформа, вызывавшая столько опасений и противодействий в высших сферах, была доведена до благополучного конца, то только благодаря тому обстоятельству, что правительство шло рука об руку с меньшею, лучшею частью дворянства, а главное, было солидарно с либерально настроенным общественным мнением…» (Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ: Исторические справки. Изд. 8‐е, доп. М.: типо-литография т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 1900. С. 121). Отзыв Джаншиева отражает мифологизированные представления о реформах, сложившиеся уже в самом их начале.
[Закрыть]. Однако феноменальный успех произведений Щедрина, ставших для современников наиболее значительной книгой эпохи, во многом запрограммирован и собственно поэтикой текста, к которой мы обратимся.
Едва ли не все русские литераторы эпохи Щедрина, читавшие его на страницах «Русского вестника», обратили внимание на специфический характер его очерков, как бы выводивший их за пределы вымысла и литературы вообще. Негативно оценивший Щедрина Тургенев писал: «…как писателя с тенденциями заменит меня г. Щедрин (публике теперь нужны вещи пряные и грубые) – а поэтические и полные натуры, вроде Толстого, докончат и представят ясно и полно то, на что я только намекал»[404]404
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 3. 1855–1858. М.: Наука, 1987. С. 196. Письмо В. П. Боткину от 17 февраля (1 марта) 1857 года.
[Закрыть]. Герои очерков Щедрина и его последователей казались современникам протокольно точным изображением реально существующих людей[405]405
Многочисленные примеры см.: Макашин С. А. Указ. соч. С. 132–137.
[Закрыть], а их литературное изображение воспринималось как проявление власти, едва ли не полицейской. Наиболее резко это сформулировал П. А. Вяземский: «В поэзии нет ничего суше, противнее тенденциозности политической, социальной, обличительно-полицейской, уголовно-карательной»[406]406
Вяземский П. А. Старая записная книжка / Ред. и примеч. Л. Я. Гинзбург. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. С. 281. Ср.: «Читатель видит и понимает очень хорошо, что рука, набросавшая портрет какого-нибудь вредного Порфирия Петровича, сумеет и в жизни поймать Порфирия Петровича, взять его за ворот и предать в руки правосудия, назло всем козням виноватого» (Дружинин А. В. «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого». СПб., 1856. – «Губернские очерки» Н. Щедрина («Русский вестник», 1856, № 16 и 18) // Дружинин А. В. Прекрасное и вечное / Вступ. ст. и сост. Н. Н. Скатова; коммент. В. А. Котельникова. М.: Современник, 1988. С. 238).
[Закрыть]. Согласно известной теории Д. Миллера, полицейская деятельность связана с формами психологизма в новоевропейском романе[407]407
См.: Miller D. A. The Novel and the Police. Berkeley: University of California Press, 1989.
[Закрыть]. Однако русские критики видели связь с криминальным следствием, кропотливо выискивающим улики, именно в очень далеких от романного повествования сочинениях Щедрина (возможно, впрочем, причиной послужила специфика чиновничьей деятельности рассказчика – в очерках чиновник Щедрин периодически участвует в расследованиях нарушений разных законов).
Помимо специфических образов героев, внимание критиков привлекала «случайность», то есть недостаточное субстанциональное, согласно гегелевской терминологии, значение фактов, описанных в «Губернских очерках»: «…его рассказ – иногда уже чистый список действительности случайной, и потому ничего не дающий человеку, как анекдот. Интерес чисто анекдотический – не художественный, не гражданский, не общий»[408]408
Аксаков К. С. Обозрение современной литературы // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., вступит. ст. и коммент. А. С. Курилова. М.: Современник, 1982. С. 235.
[Закрыть]. Единодушие критиков свидетельствует о действительно присущей произведению Щедрина черте, во многом обеспечившей потрясающую популярность книги. Уже П. И. Басистов писал об отсутствии типичности в образах героев Щедрина: по мнению критика, будь автором Гоголь, «лица у него превратились бы в типы, события – в прозрачные формы, освещенные глубоким смыслом. Если бы г. Щедрин сделал это, мы не стали бы говорить, что в его „Очерках“ нет правды. В нынешнем же своем виде, не будучи выведены из сферы случайности, они не имеют права называться правдой в истинном смысле этого слова»[409]409
П. Б-въ [Басистов П. Е.] «Губернские очерки» // Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вып. 1 (1856–1863 гг.). М.: Изд. А. С. Парафидиной, 1905. С. 168; впервые: Отечественные записки. 1857. № 8). Авторство статьи было установлено в работе: Трофимов И. Т. Басистов или Бунаков? (Новое о Щедрине) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1967. № 4. С. 123–126. Показательна и позиция многих других критиков. Так, авторы рецензий в «Сыне Отечества» видели в очерках Щедрина дагерротипическую верность (Критическая литература… С. 178, 180), а рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей» был уверен, что описанные в «Губернских очерках» события взяты из самой действительности (Там же. С. 200). Примеры подобного рода можно легко умножить. Современный исследователь высказывает противоположную точку зрения, как представляется, недостаточно обоснованную (см.: Фуникова С. В. Своеобразие психологизма в «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина // Русское литературоведение на современном этапе: Материалы V Междунар. конф. М.: РИЦ Мос. гос. открытого пед. ун-та, 2006. Т. 1. С. 179–182).
[Закрыть].
В этих рассуждениях используется концепция художественного типа как посредующего звена между уникальной индивидуальностью и теми или иными социальными группами, способствующего эстетическому и интеллектуальному осмыслению подлинной, глубинной сути реальности. Она восходит, помимо прочих источников, к известным рассуждениям Белинского, который, например, писал о В. И. Дале: «…он истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, то есть не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле – воспроизведения действительности во всей ее истине»[410]410
Белинский В. Г. Русская литература в 1845 году // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1982. С. 26. См. о понятии типического у Белинского: Terras V. Belinskij and Russian Literary Criticism. The Heritage of Organic Aesthetics. Madison: The University of Wisconsin Press, 1974. P. 146–148.
[Закрыть]. Типичность образа позволяет обеспечить единство личных и общезначимых черт героя, то есть, согласно принципам романтической философской эстетики, оказывается синтезом индивидуального и всеобщего.
В 1840‐х и отчасти в начале 1850‐х годов именно очерк являлся жанром, где типические образы выступали в своем наиболее чистом виде. Сопоставляя «физиологические» очерки с во многом повлиявшими на них произведениями Гоголя, Ю. В. Манн пишет, что «в физиологиях социально-сословная классификация выдвигается на первый план»[411]411
Манн Ю. В. Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. М.: Наука, 1969. С. 271.
[Закрыть]. Наряду со стремлением к социальной классификации исследователь выделяет и противоположную ему тенденцию – ввести в очерк представление о человеке и человеческом предназначении вообще[412]412
См.: Там же. С. 277–284.
[Закрыть], однако существование в «физиологиях» этого уровня проблематики совершенно не отменяло социальной типичности, присущей всем героям.
Сам Салтыков трактовал свои образы по-разному. В качестве традиционного «типа» он упоминал один из них в письме к И. В. Павлову от 23 августа 1857 года, однако тут же прямо соотносил этот образ со вполне реальным человеком: «В моих „Богомольцах“ есть тип губернатора, похожего на орловского. Ты представь себе эту поганую морду, которая лаконически произносит: „Постараемся развить“, и напиши мне, не чесались ли у тебя руки искровянить это гнусное отребье, результат содомской связи холуя с семинаристом?» (18/1, 178)[413]413
Здесь и далее ссылки на произведения Салтыкова даются с указанием в скобках страницы по изданию: Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 1965–1977. Первое число отсылает к номеру тома, после дроби указан номер книги, второе число соответствует номеру страницы.
[Закрыть]. В то же время в письме к И. С. Аксакову от 17 октября 1857 года Щедрин перечисляет как представителей единой группы задуманные им отдельные образы, совершенно не складывающиеся в единый «тип»: «Очерки, которые я готовлю для этого сборника, носят заглавие „Умирающие“. ‹…› Затем следует четыре рассказа о ветхих людях: старый приказный, старый забулдыга, генерал-администратор и идеалист» (18/1, 191).
Именно отказ от типизации, абсолютная уникальность индивидуальностей героев, составлял для современников наиболее заметную особенность «Губернских очерков». В своей книге Щедрин нарушил установленный представителями натуральной школы и многократно формулировавшийся Белинским жанровый принцип «физиологического очерка», направленного на типизацию[414]414
См. о натуральном очерке известную работу: Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе (Русский физиологический очерк). М.: Наука, 1965.
[Закрыть]. В более ранней очерковой литературе немыслима была бы, например, такая фраза: «С ним приключился даже феномен, который, наверное, ни с кем никогда не приключался» (2, 35). Событие из жизни героя оказывается исключительным и уникальным, а не типичным. Особенно показательна классификация образов персонажей. Очерки Щедрина зачастую носят названия, обобщающие какие-либо групповые черты, например «Озорники», «Надорванные» и т. д. Однако эти групповые черты совершенно не обязательно являются чертами типа. Например, «Талантливые натуры» Щедрина социально и психологически совершенно различны – достаточно сравнить бедного провинциального «печорина» Корепанова («Корепанов») и опустившегося пошлого помещика Лузгина («Лузгин»). Общность героев оказывается скорее идеологической (все они часто рассуждают о своей широкой натуре), чем социально-психологической[415]415
Поэтому неверной представляется трактовка щедринских очерков как наследия «физиологий» 1840‐х годов (см.: Цейтлин А. Г. Указ. соч. С. 295–297). Отличия «Губернских очерков» от произведений натуральной школы отмечали и другие исследователи (см., например: Макашин С. А. Указ. соч. С. 121).
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































