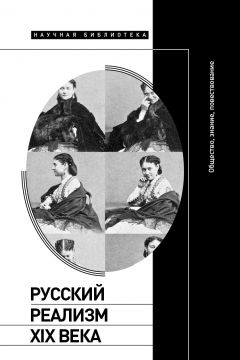
Автор книги: Кирилл Осповат
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
На каждом витке развертывания романа его обращение к различным модусам изобразительности обозначается конкретными предметами. Ниже мы рассмотрим соответствующие фрагменты: от скрипки Ефимова мы перейдем к мимолетному эпизоду, во время которого Неточка вздрагивает от прикосновения серебра «к моему телу»[297]297
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 2. С. 185. Ссылки на это издание будут в дальнейшем приводиться в тексте с указанием номера тома и страниц.
[Закрыть], перед тем как отчим оставляет ее; а затем к заключительным главам, где внутренняя жизнь героини раскрывается в обращении с книгами. Таким путем мы сможем проследить метарефлексию романа о собственной эстетической многосоставности, колеблющейся – вполне обычным для русской словесности 1840‐х годов образом – между романтической и реалистической художественной оптикой.
Начальные части «Неточки Незвановой» разворачиваются вокруг скрипки Ефимова, воплощающей остро переживавшиеся в ту эпоху проблемы профессионализации художественного труда. Это был еще не тот этап ее, который ознаменовался основанием в 1862 году Петербургской консерватории и учреждением звания «классного художника», дававшего чин в Табели о рангах. Как напоминает нам Ричард Тарускин, это звание «обеспечивало своему обладателю разнообразные привилегии, финансовые и общественные, в том числе право на проживание в больших городах, право именоваться на „вы“ вышестоящими» и т. п.[298]298
Taruskin R. On Russian Music. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2010. P. 36.
[Закрыть] История Ефимова происходит до всех этих нововведений, но может прочитываться в общем контексте профессионализации русской художественной (в том числе литературной и музыкальной) культуры в николаевской России.
Анализ огромной роли скрипки в предметном мире «Неточки Незвановой» открывает путь к переосмыслению позднего русского романтизма как течения, охватывавшего разные виды искусств и культурно-медиальные формы, принесшего с собой профессионализацию культурного производства, – и укорененного в «средней сфере» культурного поля и в том числе в публицистике. (Приемы романного освоения форм и жанров коммерческой журналистики и книгоиздания Достоевский разделял со своими западноевропейскими современниками, не в последнюю очередь с Шарлоттой Бронте.) В «Неточке Незвановой» это проявляется прежде всего в появлении привычных для романтического и готического письма элементов необычного (uncanny) и фантастического[299]299
О готическом элементе в раннем русском реализме см.: Bowers K. The City Through a Glass, Darkly: Use of the Gothic in Early Russian Realism // The Modern Language Review. 2013. Vol. 108. № 4. P. 1237–1253. В «Неточке Незвановой» Бауэрс опознает «три важнейших готических момента: навязчивые и губительные фантазии [Неточки] о доме с красными занавесами; тайны их доходного дома; и безнадежная погоня Неточки за Ефимовым по Петербургу» (P. 1253). Малколм Джонс пишет о жанровой гетерогенности романов Достоевского: «На повествовательном уровне его романы включают в себя – зачастую подрывая их – голоса, связанные с целым рядом нарративных традиций (например, готического романа; романтически-реалистического романа; нравоописательного романа; эпистолярного романа; исповеди; фельетона; документальной хроники; сатиры; жития; философской сказки; и, как подчеркнул бы Бахтин, меннипеевой сатиры и карнавала)» (Jones M. Dostoevsky After Bakhtin: Readings in Dostoevsky’s Fantastic Realism. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990. P. 22–23).
[Закрыть]. (В настоящей работе эти понятия не будут четко разграничиваться, как не разграничивались они в эстетике XIX века[300]300
Даже в основополагающих выкладках Цветана Тодорова фантастическое и необычное (а также чудесное) предстают элементами следующего континуума: «необычное в чистом виде | фантастическое-необычное | фантастическое-чудесное | чудесное в чистом виде». Фантастическое «в чистом виде» понимается как «пограничная линия между необычным и чудесным». Само по себе фантастическое определяется так:
«Теперь мы можем уточнить и дополнить наше определение фантастического жанра. Он требует выполнения трех условий. Прежде всего, художественный текст должен заставить читателя рассматривать мир персонажей как мир живых людей и испытывать колебания в выборе между естественным и сверхъестественным объяснением изображаемых событий. Далее, такие же колебания может испытывать и персонаж; таким образом, роль читателя как бы доверяется персонажу, и одновременно сами колебания становятся предметом изображения, одной из тем произведения; в случае наивного прочтения реальный читатель отождествляет себя с персонажем. И, наконец, важно, чтобы читатель занял определенную позицию по отношению к тексту: он должен отказаться как от аллегорического, так и от „поэтического“ толкования. Эти три требования неравноценны. Первое и третье действительно являются конституирующими признаками жанра, второе может оказаться невыполненным. И все же большинство примеров свидетельствует о выполнении всех трех условий» (Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. C. 26, 31, 40).
Здесь, как и в «Неточке Незвановой», речь идет об остаточных следах фантастического. Клер Уайтхед отмечает разительное сходство между определениями фантастического у Достоевского и Тодорова. См.: Whitehead C. The Fantastic in France and Russia in the Nineteenth Century: In Pursuit of Hesitation. Oxford, UK: Legenda, 2006. P. 15.
[Закрыть].) Кроме того, в изображении карьеры Ефимова важную роль играет еще один элемент журнальной печати той эпохи – музыкальная критика и фельетон 1840‐х годов, адресовавший юмористическое изложение ежедневной хроники публике среднего слоя.
История Ефимова начинается в провинции, где музыка и театр связаны прежде всего с огромными тратами. Это соответствовало действительному положению дел. Ричард Стайтс замечает в связи с крепостными оркестрами, что в помещичьей среде «настоящие знатоки ‹…› не жалели средств и часто обрекали себя и свои семьи на долги и нищету»[301]301
Stites R. Serfdom, Society, and the Arts in Imperial Russia: The Pleasure and the Power. New Haven; London: Yale University Press, 2005. P. 28–29.
[Закрыть]. «Очень богатый помещик», в чьем оркестре поначалу играл Ефимов, тратил на оркестр «почти весь доход свой». Его сосед по уезду, «богатый граф ‹…› разорился на содержание домашнего театра» (2: 142). Заметим страстное желание обоих меломанов приобрести у Ефимова скрипку, заплатив за нее немалую сумму – три тысячи рублей. Ефимов, однако, отказывается от сделки. В экономическом смысле музыкальное творчество существует в пространстве уходящей культуры патронажа, которой Ефимов противостоит в своей роли романтического художника. Однако на смену патронажу приходит профессионализация, а с ней – эстетика фантастического.
В повествовании Неточки скрипка как вещь должна вызвать у читателя то же самое восхищение, которое испытывают в романе помещик, граф и в конце концов сама Неточка. Скрипка жутка (Unheimlich) в классическом психоаналитическом смысле: при всей своей обыкновенности она вызывает и удовольствие и отторжение, она одновременно обыденна и чужеродна[302]302
В более общем смысле преобладание фантастического и жуткого в этой части романа может соответствовать некоторым сторонам отношений Неточки с Ефимовым, складывающимся в «случайное», а не нуклеарное, семейство. В связи с нормализацией индивидуализма и нуклеарной семьи в викторианском романе Нэнси Армстронг говорит о связях «не-семьи» с жутким и готическим (Armstrong A. How Novels Think: The Limits of Individualism from 1719–1900. New York: Columbia University Press, 2005. P. 145). Сьюзен Фуссо рассматривает тему обиженной девочки у Достоевского и указывает на ее связь со страхом и ужасом в «Униженных и оскорбленных». По ее наблюдению, Неточку можно считать предшественницей героинь этого типа у Достоевского (Fusso S. Discovering Sexuality in Dostoevsky. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2006. P. 17–41). В другом месте исследовательница подчеркивает, что категория семьи стала узловой в художественном мышлении Достоевского 1870‐х годов (Fusso S. Dostoevsky and the Family // The Cambridge Companion to Dostoevskii / Ed. by W. J. Leatherbarrow. Oxford and Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 175–190).
[Закрыть]. История этой скрипки имеет свойства фантастического, то есть, по Тодорову, не позволяет наблюдателю определенно отнести ее ни к земному, ни к потустороннему миру. Ефимов наследует скрипку от графского итальянца-капельмейстера. Под его личиной, говорит Ефимов, «дьявол побратался со мною» и «многому ‹…› меня научил на мою погибель» (2: 147) – главным образом игре на скрипке. Благодаря этой дружбе Ефимов, по выражению Джозефа Франка, «отдается во власть демону старозаветно-романтических представлений об искусстве»[303]303
Frank J. Dostoevsky. The Seeds of Revolt, 1821–1849. Princeton: Princeton University Press, 1976. P. 354.
[Закрыть]. Через некоторое время после того, как Ефимову достается скрипка, мы наблюдаем его за игрой. Как будто подтверждая фантастический характер этой сцены, исследователи предлагали два разных ее прочтения: Ефимов или великий скрипач, которого деспотический помещик заставляет играть на кларнете, или плохой кларнетист, которому попадает в руки колдовской инструмент[304]304
Первое прочтение отстаивает А. А. Гозенпуд (Достоевский и музыка. Л.: Музыка, 1971. С. 41.) В последнее время Сара Янг пришла к заключению, что мастерство Ефимова-скрипача «в сравнении с его посредственной игрой на кларнете указывает на демоническое происхождение его новообретенного таланта. Читателю памятно и формально опровергнутое обвинение в том, что он убил итальянца-капельмейстера, чтобы завладеть его скрипкой (2: 144–145). Бесовские ассоциации ранних эпизодов с Ефимовым погружают все повествование в явственно готическую атмосферу» (Young S. Hesitation, Projection, and Desire: The Fictionalizing «as if…» in Dostoevskii’s Early Works // Modern Languages Open. 2018. Vol. 1. № 15. P. 18).
[Закрыть]. В тексте романа находятся подтверждения обеим интерпретациям. В собственном рассказе Ефимова не очень правдоподобное утверждение о том, что его хорошо научил плохо игравший итальянец, быстро обретает фантастические очертания, когда речь заходит о «дьяволе». Наложенное этим дьяволом проклятие не позволяет ему остаться у помещика: «Я у вас дом зажгу, коли останусь» (2: 147). Помещик, которому музыкальный дар Ефимова предстает темной загадкой, несмотря на эту страшную угрозу, уговаривает музыканта сыграть ему в последний раз. Ефимов соглашается и исполняет «свои варияции на русские песни. Б. говорил, что эти варияции – его первая и лучшая пьеса на скрипке и что больше он никогда ничего не играл так хорошо и с таким вдохновением» (2: 147). Построенные на народных мотивах вариации, очевидно, соответствуют романтическому жанровому канону. Сыграв их, Ефимов покидает помещика в надежде на карьеру в столице.
Странная скрипка символизирует профессионализацию искусства. «Довольно обыкновенная с виду», она окружена в воспоминаниях Неточки об отчиме атмосферой «таинственности» (2: 143). Ощущения Неточки при первом прикосновении к скрипке могут быть описаны как сочетание удовольствия и страха. Ефимов «расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее, на черном снурке ‹…› отворил сундук и бережно вынул из него странной формы черный ящик» (2: 171). Затем, продолжает завороженная Неточка, «он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не видывала, – вещь, на взгляд, очень странной формы» (2: 172). Увиденная глазами испуганного ребенка, с элементом остранения, готически-фантастическая скрипка выступает вещью par excellence. Ее колдовская материальность способствует инициации героини в мир профессионализирующегося искусства, который сам обретает фантастические черты. «Наконец, он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. ‹…› Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук. – Это музыка! – сказала я, поглядев на батюшку» (2: 172). Ее удовольствие неотделимо от страха: «несмотря на похвалы и восторг его, я видела, что он боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх» (2: 172). (В опасениях Ефимова, «чтоб я как-нибудь не разбила ее [скрипку]», готический страх совпадает с вполне «реалистической» заботой о сохранности имущества.)
Первое же столкновение Неточки со скрипкой имеет решающую роль в ее судьбе: оно обозначает ее приобщение к культурной и интеллектуальной жизни, пронизанной романтической эстетикой[305]305
Повествовательная стратегия Достоевского в этой части романа напоминает, тематически и эстетически, о фантастических повестях В. Ф. Одоевского, в первую очередь о «Последнем квартете Бетховена». Вскоре после выхода «Бедных людей», открывавшихся эпиграфом из Одоевского и принесших Достоевскому быструю славу, он стал вхож в художественную богему Петербурга и познакомился с Одоевским. Он мог послужить прототипом благодетеля Неточки князя Х. Другой, еще более вероятный кандидат на эту роль – Михаил Виельгорский.
[Закрыть]. Кроме того, эта часть романа тесно связана с журнальной печатью 1840‐х годов. Самое устрашающее появление скрипки совершается в тот момент, когда вернувшийся с концерта европейского виртуоза С-ца Ефимов играет над трупом жены. Кто же этот виртуоз? Видимо, речь идет о Генрихе Вильгельме Эрнсте (Heinrich Wilhelm Ernst), знаменитом в свое время исполнителе и композиторе[306]306
См.: Гозенпуд А. А. Указ. соч. С. 47.
[Закрыть]. В феврале – мае 1847 года он дал шесть концертов в Петербурге. Достоевский посетил один или два из них и дважды упомянул Эрнста в фельетонах «Петербургской летописи». Русская пресса вообще освещала его визит. Как свидетельствовал музыкальный критик В. В. Стасов, ожидания петербургской публики услышать «второго Паганини» не сбылись[307]307
См.: Стасов В. В. Музыкальное обозрение 1847 года // Стасов В. В. Живопись, скульптура, музыка: Избр. соч. Т. 1. М.: Юрайт, 2017. С. 5–23.
[Закрыть]. По данным современного исследователя, сравнение Эрнста с Паганини было широко распространено, не в последнюю очередь благодаря самому Эрнсту и его техническому мастерству[308]308
Rowe M. Henrich Wilhelm Ernst: Virtuoso Violinist. New York: Ashgate & Routledge, 2008.
[Закрыть]. Паганини можно счесть дальним предком итальянца-капельмейстера из «Неточки Незвановой». Более того, ужасающая музыка, которую Ефимов играет над трупом жены, соответствует современной рецепции пьесы Эрнста «Élégie sur la mort d’un objet chéri», написанной – по легенде, переданной Стасовым, – после смерти возлюбленной композитора. Обозреватель «Русского инвалида» услышал в этой пьесе «раздирающий голос отчаяния над охладевшим трупом возлюбленной»[309]309
Цит. по: Гозенпуд А. А. Указ. соч. С. 47.
[Закрыть]. В сходных выражениях Неточка описывает игру отчима: «целое отчаяние выливалось в этих звуках ‹…› загремел ужасный финальный аккорд, в котором было всё, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске» (2: 184). По сообщению «Allgemeine musikalische Zeitung», элегия Эрнста была особенно востребована в Петербурге и исполнялась на каждом его концерте; в соответствии с романтической логикой, этот факт объяснялся ее созвучием с меланхолическим строем русской народной музыки[310]310
Exploring Virtuosities. Heinrich Wilhelm Ernst, Nineteenth-Century Musical Practices and Beyond / Hoppe C., von Goldbeck M., Kawabata M. (eds) Göttingen Studies in Musicology, 2018. P. 362.
[Закрыть]. Как видно, хотя история Ефимова отнесена к более раннему времени, повествование Неточки глубоко укоренено в культурной и журнальной атмосфере 1840‐х годов.
Любовь к Ефимову – отчиму, именуемому отцом или «батюшкой», – способствует пробуждению «богатой фантазии» Неточки. Она выучилась читать «скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему» (2: 165). Когда он читал ей «какую-то книжку», она «ничего не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить ему этим большое удовольствие» (2: 165). Она воображает себе, что «когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы» (2: 166). Эта фантазия девочки о новой жизни в богатом доме «с красными занавесами» сопутствует мечтам Ефимова о том, что он «великий артист» и «человек с большим талантом» (2: 166, 167). (Вспомним Джейн Эйр, чье двойственное положение на грани нищеты тоже разворачивается за «гардинами из красного штофа».) Неточка учится иметь дело с повествованиями, письменными и устными; в то же самое время она узнает о возможности социального роста и оказывается заворожена этой идеей.
Рассказ о продвижении Неточки по социальной лестнице обнаруживает эстетическую гетерогенность романа. Ее расставание с Ефимовым после смерти матери ознаменовано памятным и ощутимым столкновением с деньгами. Надо сказать, что в начальных главах романа, предшествующих этому эпизоду, Неточка часто имела дело с деньгами: она, «прикрыв свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой, шла в лавочку с медными деньгами купить на несколько грошей сахару, чаю или хлеба», приносила домой сдачу и наблюдала, как мать «вслух считала медные деньги, – жалкую сумму, которою могла располагать» (2: 160–161, 163). Однако при всем том Неточка утверждает, что только после смерти матери поняла значение денег. Когда они вместе покидают чердак с оставшимся там трупом, Ефимов дает Неточке деньги:
он мне положил сначала деньги в руку, потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я как будто только теперь поняла, что такое деньги (2: 185).
Можно было бы ожидать, что этой сценой обозначается вхождение героини в экономическую жизнь. Однако это не так. Вскоре после того героиня оказывается в доме князя Х., и экономические заботы исчезают из поля зрения романа. Парадоксальным образом, экономическое существование намного осязаемей очерчено в сценах нищего детства Неточки, чем в последующем рассказе о ее взрослении у князя и Александры Михайловны. Значимость прикосновения серебра к ее телу в этом контексте оказывается не столько экономической, сколько эстетической: этот эпизод сигнализирует о сдвиге изобразительных приемов. Момент, когда Неточка «как будто ‹…› поняла, что такое деньги», пронизан эстетической неоднородностью: готический элемент (холодная монета на теле напоминает об остывающем трупе матери) уступает место романтическому (проявленному в обостренной чувствительности героини) и реалистическому (связанному с интересом к деньгам и рациональному осмыслению чувственного опыта). Можно сказать, что в демонстративно-эклектическом устройстве романа эта сцена фиксирует преимущественно-реалистический взгляд на изображаемый вещный мир как на предмет осязательного переживания. В этом смысле вполне закономерна приуроченность этого эпизода к моменту ухода Ефимова, в котором исследователи видят точку перехода романа в иной эстетический модус.
Означает ли это, что в «Неточке Незвановой» изображается преодоление романтизма? История Ефимова, выдержанная в двойном жанровом ключе романа о воспитании и романа о художнике, явно осуществляет обычное для этой эпохи снижение романтического образа творческого гения. Ефимов, чья «мечта о собственном гении» не соответствует его действительному таланту, сопоставлен со своим товарищем – «знаменитым скрипачом Б.», немцем, признающим в себе «чернорабочего в искусстве» и достигающим успеха трудолюбием (2: 149, 142, 150). Эта пара напоминает о многих подобных парах в литературе 1840‐х годов, например о дяде и племяннике Адуевых в «Обыкновенной истории» (1847) Гончарова. Однако сочинения такого рода, представленные романом Гончарова, не упраздняют романтизма. И в «Обыкновенной истории», и в «Неточке Незвановой» романтизм сочетается с реализмом в продуктивной гибридности.
После того как Ефимов умирает и исчезает со страниц романа, новая жизнь Неточки в доме князя Х. продолжает разворачиваться в гибридном, реалистическом и романтическом, предметном мире и пространстве литературного воображения. Эта жизнь предстает своего рода воплощением фантазий Неточки об аристократическом быте в «богатом доме с красными занавесами» (2: 163). Последняя предметная деталь имеет разнообразные эстетические коннотации. Подчеркнутая материальность делает ее реалистической; символическая нагруженность красного цвета напоминает о готике (вспомним «красные гардины», «red moreen curtain», «красную комнату», «red room», и Ридов, Reeds, в «Джейн Эйр»[311]311
Brontë C. Op. cit. P. 7, passim.
[Закрыть]); а мечтательность, проявленная в этой связи Неточкой, служит обычной характеристической чертой позднего русского романтизма, проявившейся не в последнюю очередь в ранних сочинениях самого Достоевского[312]312
Имеются в виду такие вещи, как «Слабое сердце», «Хозяйка» и «Белые ночи».
[Закрыть].
Продвижение Неточки по социальной лестнице сказывается (как в «Джейн Эйр» и многих других европейских романах воспитания) в смене одежды. Когда Неточка поправилась, «меня одели в чистое тонкое белье, надели на меня черное шерстяное платье, с белыми плерезами ‹…› и повели с верхних комнат вниз, в комнаты княгини» (2: 190). Подобно Жюльену Сорелю из «Красного и черного» и героям иных романов, Джейн очень внимательна к переменам своего наряда. Если Жюльен меняет наряды и общественные обличия с почти комедийной частотой, отвечающей стремительным политическим переменам в постнаполеоновской Франции[313]313
Stendhal. Le Rouge et le noir. Chronique du XIX siècle. Paris: Librairie Garnier Frères, 1952. Характернейший случай смены нарядов находится в главе «Король в Верьере», где «из-под долгополой сутаны Жюльена выглядывали шпоры почетного стража». В дальнейшем Жюльен будет чередовать черный костюм, подобающий секретарю маркиза де ла-Моля, с «синим фраком», делающим его ровней маркизу, сыном «старого герцога».
[Закрыть], – то Джейн склонна отказываться от предлагаемых ей все более дорогих одежд. Ее настойчивое предпочтение простого наряда читается как требование политических прав в нынешнем положении (хотя дальнейшее развитие сюжета не оставляет места для этой чартистской позиции[314]314
Современные рецензенты усматривали в «Джейн Эйр» чартистские настроения. О связи романа с чартизмом см.: Fraiman S. Unbecoming Women: British Women Writers and The Novel of Development. New York: Columbia University Press, 1993. P. 88–94. Оперируя обширным историческим материалом, исследовательница показывает, что политический опыт обучил чартисток «политической практике и открыл им риторику правовых требований» (Ibid. P. 91).
[Закрыть]). Неточка, в свою очередь, смотрит «с каким-то унылым недоумением» на свой новый наряд, но не артикулирует никакой политической позиции (2: 190). Конечно, роман Достоевского принадлежит «натуральной школе» с ее реалистическим исследованием «петербургских углов» и имплицитно может быть соотнесен с лежащими в ее основе идеями эмансипации. В «Неточке Незвановой» они, однако, находят себе иной выход.
В комнатах княгини обнаруживается любовь Неточки к книгам. Ретроспективно излагающая свою историю повествовательница как будто знает, как она могла бы рассказать ее тогда своим благодетелям, хотя ребенку этого не удается. Когда ее привели к княгине, Неточка «никак не могла собраться с силами ответить что-нибудь на ее вопросы» и «ничего не выиграла в ее мнении» (2: 190). Она осознает, однако, что ее рассказ мог бы понравиться княгине и ее гостям:
моя история была очень необыкновенная и в ней большую часть играла судьба, разные, положим, даже таинственные пути, и вообще было много интересного, неизъяснимого, даже чего-то фантастического (2: 190).
Здесь названы главные эстетические элементы ее повествования о собственном детстве. Этот эстетический анализ принадлежит взрослой Неточке, в которой мы можем предположить осведомленного читателя русской художественной прозы конца 1840‐х годов. Книжность этой сцены проявляется и в другой детали: посадив девочку рядом с княгиней, ей «дали прекрасную книжку с картинками и приказали рассматривать» (2: 190). Неточка оказывается в том же положении, что и Джейн, еще одна сирота-приживалка. Однако, в отличие от Джейн, Неточка в этой сцене не находит в книге повод к мечтательности и вообще не выказывает реакции на нее. Возобновление читательской фантазии Неточки относится к более поздним сегментам романа, хотя и эпизод с княгиней указывает на внутренний мир читающего ребенка как возможную тему для будущей художественной разработки.
По мере того как Неточка взрослеет и переходит к Александре Михайловне, она снова начинает фантазировать и, кроме того, учится рассказывать о себе. Неточка становится homo narrans. Сперва это происходит на уроках истории и географии, которые дает Неточке ее новая благодетельница, заместившая ей мать. В отличие от настоящей матери, не владевшей навыком повествования[315]315
Как пишет Элизабет Аллен, «в немногих случаях, когда мать выказывает любовь к Неточке, она не способна даже составить предложение, не то что рассказать историю» (Allen E. C. Dostoevsky’s Orphan Text: Netochka Nezvanova // Before They Were Titans: Essays on The Early Works of Dostoevsky and Tolstoy / Ed. by E. Cheresh Allen. Boston: Academic Studies Press, 2015. P. 126).
[Закрыть], Александра Михайловна учит Неточку рассказывать о своем детстве. Затем Неточка получает доступ к библиотеке, найдя ключ от нее на полу. С этого начинается напряженная жизнь ее воображения: «я с неудержимым любопытством, в припадке страха и радости и какого-то особенного, безотчетного чувства, отворила первый шкаф и вынула первую книгу» (2: 233). Как и на родительском чердаке с Ефимовым, приобщение Неточки к современной культурной жизни сопровождается страхом.
Однажды начав читать, Неточка не может оторваться:
Я начала читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления, все еще неясные порывы моего отроческого возраста, так беспокойно и мятежно восставшие было в душе моей, нетерпеливо вызванные моим слишком ранним развитием, – всё это вдруг уклонилось в другой, неожиданно представший исход надолго, как будто вполне удовлетворилось новою пищею, как будто найдя себе правильный путь. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир, который доселе окружал меня. ‹…› Теперь же сознание как будто вдруг осветило для меня всю прошлую жизнь мою. Действительно, почти каждая страница, прочитанная мною, была мне уж как будто знакома, как будто уже давно прожита; как будто все эти страсти, вся эта жизнь, представшая передо мною в таких неожиданных формах, в таких волшебных картинах, уже была мною испытана. И как не завлечься было мне до забвения настоящего, почти до отчуждения от действительности, когда передо мной в каждой книге, прочитанной мною, воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил над жизнию человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасения, охранения и счастия (2: 233–234).
Три года жизни героини проходят в чтении и фантазиях, обособляющих ее от внешнего мира. Как часто случается у Достоевского, это обыкновение оборачивается своего рода навязчивой манией. Можно сказать, что Неточка предвосхищает более поздних персонажей Достоевского, черпающих глубокий эмоциональный опыт из уединенного обращения с книгами. В известной мере этот фрагмент «Неточки Незвановой» представляет собой распространенную и перегруженную аффектом версию начальной сцены «Джейн Эйр» – тем более что Неточка, в отличие от Джейн, читает без перерывов.
Именно таким образом она учится рассказывать о своей судьбе. Немаловажно, что читать она уже научилась от Ефимова. Неточка-повествовательница хорошо понимает его узловую роль в ее рассказе о своем пути к оперной сцене и вообще сфере культурного существования: «Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был понятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию» (2: 142). Вместе с тем начальная формула «Неточки Незвановой» – «Отца моего я не помню» (2: 142) – соответствует одной из главных тем европейского романа воспитания: непроясненное, неустойчивое или осложненное отцовство обозначает и неопределенность происхождения, и подвижность социополитического положения, описанные Питером Бруксом на материале «Красного и черного»[316]316
Майкл Холквист пишет об ином, хоть и смежном типе неоднозначного отцовства в «Братьях Карамазовых»; см.: Holquist M. Dostoevsky and the Novel. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1977. Мы опираемся, кроме того, на предложенное Питером Бруксом прочтение «Красного и черного». См.: Brooks P. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York: Alfred A. Knopf, 1984. Конечно, отцовство можно понимать в широком культурном контексте. Как указывает Лина Стайнер, «читая романы Достоевского в свете критических работ Аполлона Григорьева, можно заметить, что одной из важнейших целей Достоевского в его зрелый период было создание истинно русского романа воспитания. В средоточии его должен был находиться герой, достигнувший самосознания через примирение двойного, русского и европейского, наследия» (Steiner L. For Humanity’s Sake: The Bildungsroman in Russian Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2012. P. 8).
[Закрыть].
Как это часто бывает с героями романов воспитания, происхождение Неточки неопределенно. Она, вероятнее всего, дворянка по рождению, но это обстоятельство намеренно замутняется в повествовании. Вопрос о родовом упадке и его экономических последствиях занимал важное место в прозе зрелого Достоевского[317]317
См.: Карпи Г. Достоевский-экономист: Очерки по социологии литературы. М.: Фаланстер, 2012. С. 143–166; Kokobobo, A. Russian Grotesque Realism: The Great Reforms and the Gentry Decline. Columbus: The Ohio State University Press, 2018. P. 42–61, 117–134.
[Закрыть]. «Неточка Незванова» – не исключение. По словам Ефимова, его жена – «баба, кухарка, необразованная, грубая женщина» (2: 153). Однако сама Неточка сообщает нам, что мать ее была «прекрасно образована», то есть скорее всего происходила из дворян (2: 154). Старый чиновник, ее первый муж и настоящий отец Неточки, тоже, вероятно, успел выслужить дворянство. Неточка, таким образом, представляет собой типическую фигуру «среднего» слоя, происходящего из обедневшего дворянства[318]318
Г. Карпи пишет о героях-мечтателях у Достоевского 1840‐х годов: «это портрет абортивной буржуазии, того зарождавшегося среднего класса, о котором с излишним оптимизмом мечтали либералы 40‐х и укреплению которого пытался в 30‐е годы способствовать сам Николай I» (Карпи Г. Указ. соч. С. 26–27).
[Закрыть]. Обратим внимание, что в портрете матери Неточки отображается важный вопрос викторианской «средней» культуры: неопределенное общественно-экономическое положение гувернанток и, конкретней, участь гувернанток без места[319]319
Как подчеркивает в своем анализе «Джейн Эйр» Мэри Пуви, «в фигуре гувернантки воплощались все тяготы, на которые рыночные капиталистические отношения обрекали обделенных» (Poovey M. Uneven Developments: The Ideological Work of Gender in Mid-Victorian England. Chicago: University of Chicago Press, 1988. P. 126). О «Джейн Эйр» в связи с современными роману общественными спорами о гувернантках см.: Beaty J. Op. cit. Р. 49–51.
[Закрыть]. Перед замужеством мать Неточки «была гувернантка» (2: 154). После рождения ребенка и смерти мужа она осталась «одна со мною, с ничтожною суммою денег», а «идти в гувернантки опять, с малолетним ребенком на руках, было трудно» (2: 154). В этом положении она выходит замуж за Ефимова. Когда семья остается без денег, ради «пропитания семейства» она начинает готовить «для приходящих», потом занимается «мытьем белья и перекрашиванием старого платья» (2: 155). Ее тяготы созвучны викторианскому страху социального падения гувернантки, вынужденной обратиться к самым простым рабочим профессиям. Как показывает Мэри Пуви, социальная тревога, сопряженная с ролью гувернантки и женским трудом вообще, принципиально важна для истолкования «Джейн Эйр»[320]320
Poovey M. Op. cit. P. 148–163.
[Закрыть].
Достоевский мог заметить сходство романа Бронте со своим, когда писал брату из Петропавловской крепости 14 сентября 1849 года: «В „Отечественных записк<ах>“ английский роман чрезвычайно хорош» (28: 161). По мнению комментаторов, речь идет именно о «Джейн Эйр» в переводе Введенского. «Неточку Незванову» Достоевский не закончил. Вернувшись из ссылки, он принялся было править роман, но бросил – вероятно, потому, что темы 1840‐х годов к тому времени потеряли свой интерес. Сочетание романтической и реалистической эстетики и дальше оставалось характерной чертой его прозы, однако напряженное соревнование двух течений утратило актуальность к началу 1860‐х годов, когда Достоевский стал по-настоящему возвращаться в культурную жизнь.
И все же мы можем говорить о «Неточке Незвановой» как о первом большом романе Достоевского, в котором – как в «Воспитании чувств» Флобера – дается социологический анализ национальной культуры в переходный момент. Это двойной роман о художнике (Künstlerroman), исследующий процесс профессионализации русской художественной культуры. Важнейшим элементом этого процесса было становление фигуры критика, посредующего между художниками и новой, растущей публикой. На этом фоне нужно рассматривать и характеристику, которую дает Ефимову его друг Б.:
в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства, – было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства ‹…› что не диво, если [он] принял себя, вместо глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науки, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это всё, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись ‹…› (2: 149–150).
Позднее, когда Б. пристраивает Ефимова в театральный оркестр, тот сперва начинает «толковать какую-то новую теорию музыки» (2: 156–157), а затем забавляет сослуживцев точной и злой критикой, напоминающей об искусстве фельетониста:
Они любили его злость, его едкие замечания, любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперников ‹…› Даже эти самые артисты, над которыми он так насмехался, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападок его и в справедливости его суждения в том случае, когда нужно было хулить (2: 157).
Хотя сам Ефимов так и не находит себе места в культурной жизни и печати своей эпохи, Неточка (насколько мы можем восстановить замысел романа) добивается успеха и в качестве оперной певицы, и как автор автобиографии, обнаруживающей узнаваемые черты «средней» культуры николаевской эпохи: склонность к мелодраматизму, ходячие приемы готики и элементы фельетона. Исследователи романа усматривают в нем воздействие «Матильды» Эжена Сю и сочинений Жорж Санд[321]321
См.: Terras V. The Young Dostoevsky (1846–1849). A Critical Study. The Hague: Mouton, 1969. P. 52–54, 101–103.
[Закрыть]. Иными словами, «Неточка Незванова» смонтирована из элементов разных художественных систем, на которые опирается Достоевский и, что нам сейчас важнее, Неточка-повествовательница.
Для чего же Неточка пишет? Как уже говорилось, Неточка принимает на себя роль, которую Джозеф Слотер определяет заимствованным из теории коммуникации понятием homo narrans – роль рассказчицы собственной истории, вписанной в форму романа воспитания. Книга Слотера «Инкорпорация и права человека: мировой роман, повествовательная форма и международное право» («Human Rights, Inc.: The World Novel, Narrative Form, and International Law») посвящена романам воспитания XVIII–XIX веков и современным образцам этого жанра с глобального Юга. Согласно тезису Слотера, роман воспитания опирается на те же концептуальные структуры, что и международная юридическая доктрина прав человека, зафиксированная как во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, так и в Декларации прав человека и гражданина (1789) и других правовых манифестах конца XVIII века. Слотер подробно пишет о заложенной в романе воспитания потенции политического уполномочивания и инкорпорации homo narrans – повествующего субъекта. Инкорпорацию Слотер понимает множественным образом. Во-первых, это «представление о том, что развитие личности осуществляется в процессе социализации, в процессе уполномочивания в рамках „тех социальных практик и правил, правовых установлений и институциональных обыкновений, которые собирают индивидов в действующее политическое сообщество“». Во-вторых, под инкорпорацией понимается то, как «юридическая доктрина прав человека осознает и производит человеческую личность как единицу, наделенную правами и обязанностями»[322]322
Slaughter J. Op. cit. P. 20.
[Закрыть]. В известном смысле именно это осуществляется в восклицании Джейн Эйр: «Несправедливо! несправедливо!»[323]323
Обратим внимание, что Джейн больше всего задумывается о несправедливости в первой трети романа.
[Закрыть] Таков ее чартизм. Но что же Неточка и ее роман? Если Джейн требует справедливости и выказывает бунтарские наклонности, подлежащие усмирению в консервативной форме романа воспитания, инсценирующей примирение между аристократией и буржуазией после Великой французской и индустриальной революций, – то Неточка занята, главным образом, привлечением и удержанием читателя[324]324
Moretti F. The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture. London: Verso, 1987.
[Закрыть].
Искусная повествовательница, умело обращающаяся с разными культурными регистрами и эстетическими системами, она видит в составляющих роман историях изготавливаемый и продаваемый продукт. Иными словами, воспитание (Bildung) Неточки в николаевской России коммодифицируется прежде, чем успевает обрести эмансипаторные черты. Нам не хотелось бы повторять общие места о репрессивном характере николаевского режима и доказывать, например, что Неточка и стоящий за ней романист стремятся обнаружить вполне осязаемую невозможность гражданского и правового самосознания в России 1840‐х годов. (Нужно учитывать и то, что и в европейском романе воспитания политическое уполномочивание остается только потенцией, предметом надежд и иллюзий.) Вместо этого можно констатировать, что Неточка прибегает к иному, хоть и родственному, способу инкорпорации. Оперируя хорошо разработанными изобразительными модусами – мелодрамой, готическим романом, фельетоном – для рассказа о своей судьбе, она выстраивает автобиографическое повествование как товар, рассчитанный на книжный рынок. Мы сталкиваемся здесь с третьим значением инкорпорации по Слотеру: она может обозначать коммодификацию рассказов о человеческом страдании и надеждах на облегчение, превращающихся в ходячий товар[325]325
Slaughter J. Op. cit. P. 34.
[Закрыть]. В «Неточке Незвановой» коммодификация боли осуществляется с огромной силой. Роман Достоевского сознательно стремится вызвать сочувствие читателя посредством позднеромантических клише[326]326
Сходным образом можно истолковать «Джейн Эйр» – вымышленную автобиографию, оперирующую хорошо знакомыми читателю жанровыми клише. Джейн тоже выступает в роли умелой и начитанной рассказчицы, искусно удерживающей читательское внимание. Интересно в этом смысле, что и в Европе, и – как выясняется – в России роман первоначально читался как реальная автобиография. Как устанавливает Демидова, русские рецензенты середины XIX века подчеркивали «автобиографическую природу» «Джейн Эйр». См.: Demidova О. Op. cit. P. 692.
[Закрыть]. Это, возможно, самая интересная черта этого романа воспитания николаевской эпохи: не его отступление от западных образцов вроде «Джейн Эйр» и «Красного и черного», но его поиски иных форм уполномочивания в коммерческом языке «средней» артистической культуры 1840‐х годов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































