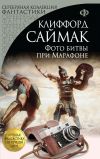Текст книги "Город. Сборник рассказов и повестей"
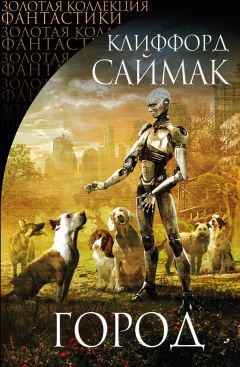
Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– Я предлагаю не писать имена на бумажках! Это же все равно что встать и выкрикнуть вслух! Форестер сразу же поймет, где чей почерк!
– Мне это даже в голову не пришло! – запротестовал Форестер. – Уж прошу поверить. Хотя Крейвен прав. По почерку я действительно узнаю каждого…
– Тогда как поступим? – требовательно спросил Лодж.
– Давайте сделаем бюллетени, как для тайного голосования, – предложил Крейвен. – Со списком персонажей. Каждый поставит крестик напротив своего.
– А вы не боитесь, что вас опознают по крестику? – не удержался Лодж.
Крейвен бесстрастно посмотрел на него, словно не заметив издевки.
– Ваша правда. Вы можете.
– Штемпель возьмем, – устало проговорил Форестер. – В лабораториях есть штемпели для маркировки образцов.
– Такой вариант вас устроит? – спросил Лодж Крейвена.
Тот кивнул.
Лодж тяжело поднялся с кресла.
– Я пошел за штемпелем, – объявил он, – а вы тут пока бюллетени готовьте.
«Ну дети! – думал он. – Просто дети. Недоверчивые, эгоистичные, боязливые, как загнанные в угол зверьки. Пойманные меж смыкающихся стен вины и страха в темном углу собственной неуверенности».
Он спускался по лестнице к лабораториям, металлические ступеньки звенели под подошвами, и звон эхом разносился по многим углам страха и вины.
«Если бы только Генри не умер, – в который раз повторял Лодж про себя, – все было бы в порядке. Мы бы еще продержались».
Но он уже сам понимал, что это не так. Не умер бы Генри, случилось бы что-нибудь другое. Что-то непременно сработало бы катализатором распада, они ведь были к этому готовы, уже давно готовы. В последние недели фитиль мог вспыхнуть в любой момент, от самой маленькой искры.
Лодж нашел штемпель и чернильную подушечку, загромыхал по ступенькам назад.
В салоне на столе уже были разложены бюллетени, кто-то раздобыл обувную коробку и сделал в ней прорезь, соорудив таким образом урну для голосования.
– Сядем в дальнем углу, – распорядился Форестер. – Будем подходить по одному и ставить штамп в бюллетене.
Если кто и видел комизм этого «голосования», то вида не подал. Лодж опустил на стол чернильную подушечку со штемпелем и занял место в дальнем углу среди остальных.
– Кто начнет? – спросил Форестер.
Тишина.
«Даже этого боятся», – подумал Лодж.
Первым вызвался Мэйтленд.
В полном молчании они по одному подходили к столу, ставили оттиск в бюллетене, сворачивали листок и опускали в урну. Никто не спешил – лишь когда предыдущий возвращался на свое место, вставал следующий. Наконец «голосование» было окончено. Форестер как следует встряхнул коробку, чтобы перемешать бюллетени, и объявил:
– Нужны два наблюдателя. – Он обвел глазами группу. – Крейвен. И Сью.
Наблюдатели подошли к столу. Форестер по одному доставал бюллетени, зачитывал, передавал Сьюзен, а та передавала Крейвену.
Беззащитная Сиротка.
Провинциальный Хлыщ.
Инопланетный Монстр.
Красивая Стерва.
Юная Прелестница.
«Ошибся, – подумал Лодж. – Как же так? Она ведь явилась последней!»
Посланник Внеземной Цивилизации.
Правильный Юноша.
«Осталось двое. Всего двое… – лихорадочно размышлял Лодж. – Хорошо. Заключу с собой пари. Ставлю на Злодея. Генри – это Злодей».
– Усатый Злодей, – прочел Форестер, развернув последний листок.
«Вот я и проиграл», – подумал Лодж, а все вокруг сдавленно ахнули, потрясенные страшным открытием.
Персонажем Генри был тот, кто играл во вчерашнем Спектакле самую заметную, самую активную роль. Нищий Философ.
Блокнот Генри был исписан мелким неразборчивым почерком, угловатым и резким, как его обладатель. Символы и уравнения представляли собой триумф простоты и ясности, при этом буквы имели чудной и вздорный обратный наклон, а фразы были лаконичны настолько, что их краткость граничила с грубостью. Впрочем, кого бы Генри мог этим оскорбить, кроме себя самого?
Мэйтленд резко захлопнул блокнот и оттолкнул его к центру стола.
– Вот в чем дело… – проговорил он.
Все сидели молча, бледные и застывшие, словно воочию увидели призрака, на которого совсем недавно намекал Крейвен.
Первым не выдержал Сиффорд.
– Ну все, довольно! – вскричал он. – Я не стану…
– Что вы не станете? – произнес Лодж.
Сиффорд не ответил. Положив руки на стол, он сжимал и разжимал кулаки, вытягивал пальцы, словно хотел одной силой воли выгнуть их дальше, чем было заложено природой.
– Генри сошел с ума, – резко сказала Сьюзен. – Только душевнобольной мог бы придумать такую ересь.
– Вы медик, от вас следовало ожидать подобной реакции, – заметил Мэйтленд.
– Я изучаю жизнь, – ответила ему Сьюзен. – Я уважаю жизнь. Моя работа – сохранять ее в теле как можно дольше. И я испытываю глубочайшее сопереживание всему живому.
– Вы намекаете, что мы не испытываем?
– Я намекаю, что лишь тот, кто видел жизнь во многих ее проявлениях, кто познал ее могущество и великолепие, может понять, какое это чудо.
– Сьюзен…
– Я знаю точно, – перебила она. – Я знаю совершенно точно, что жизнь – это нечто большее, чем продукт распада. Она больше, чем старение материи. Больше, чем недуг. Назвать жизнь последним этапом разложения благородной неорганики – все равно что заявить, будто норма существования Вселенной – в полном отсутствии развития и смысла.
– Это семантическая путаница, – возразил Форестер. – Мы живые существа, и термины, которыми мы оперируем, невозможно сопоставить с терминами, применимыми для норм существования Вселенной, даже если бы мы такие термины знали.
– А мы их не знаем, – подхватила Хелен Грей. – Может, вы и правы, Форестер. Особенно если догадка Генри окажется верна.
– Мы изучим все записи Генри, – мрачно заключил Лодж. – Мы шаг за шагом восстановим ход его мысли. Я сомневаюсь, что он прав, но проверить необходимо. Нельзя упускать открытие, которое может принести пользу.
– То есть вы хотите продолжать?! – взвился Сиффорд. – Не побрезгуете даже таким унизительным для человечества открытием – все ради цели?!
– Разумеется, я намерен продолжать! – оборвал его Лодж. – Жизнь – это болезнь и разложение? Хорошо, пускай. Кент и Хелен совершенно правы, наши термины не универсальны. Что для Вселенной яд, то для нас жизнь. Если гипотеза Генри верна, он всего лишь открыл испокон веков существовавший порядок вещей.
– Вы не понимаете, что говорите! – воскликнул Сиффорд.
– Прекрасно понимаю. А вам мешает неврастения. Вам и некоторым другим. Тут у многих расшалились нервы. Может, и у меня. Может, у всех. Нами правит страх – вы боитесь своей работы, я боюсь, что вы ее не выполните. Жизнь взаперти, постоянное напряжение разума, ежедневное его столкновение с совестью – и вот критерии морали вдруг сбросили с себя вековую пыль и засияли, как щит Галахада. На Земле идея Генри вас бы не смутила. Может, поначалу вы и поперхнулись бы слегка, но будь она доказана, вы бы проглотили ее как миленькие и продолжили бы изучать принципы устройства той гнили, которая для нас является жизнью. Информация о том, что такова ее природа, была бы для вас исключительно фактором, который надо принять к сведению, рабочим инструментом – просто информацией! Но здесь – нет, здесь вам угодно визжать и лезть на стену.
– Байярд! – возмутился Форестер. – Вы не смеете!
– Еще как смею. Я слышать уже не могу их нытье. Устал я от изнеженных фанатиков, которые сами довели себя до фанатической одержимости, пестуя свои надуманные страхи. Чтобы достичь нашей цели, нужны люди с острым умом и железной волей.
У Крейвена от ярости побелели губы.
– Мы работали! – выкрикнул он. – Мы продолжали работу вопреки всем доводам рассудка, религиозной этике, собственной порядочности! Не думайте, что это вы убедили нас – льстивыми словами, шуточками, панибратским ободрением! Ваши жалкие потуги тут ни при чем!
Форестер обрушил кулак на стол.
– Хватит препираться! – рявкнул он. – К делу!
Крейвен сел, по-прежнему бледный от злости. Сиффорд продолжал сжимать и разжимать пальцы.
– Генри написал вывод, – произнес Форестер. – Не то чтобы доказанный вывод, назовем это гипотезой. Как вы хотите с ней поступить? Игнорировать ее, постараться забыть или все-таки проверить?
– Я считаю, надо проверить, – ответил Крейвен. – Генри умер и не может сам защищать свою гипотезу. Наш долг – сделать для него хотя бы это.
– Если ее вообще можно проверить, – ввернул Мэйтленд. – По-моему, она ближе к философии, чем к науке.
– Философия идет с наукой рука об руку, – заметила Элис Пейдж. – Нельзя отмахиваться от гипотезы лишь потому, что она кажется пристрастной.
– Да не говорил я, что она пристрастна! – возмутился Мэйтленд. – Ну вас. Давайте проверим.
– Я тоже за то, чтобы проверить, – пробурчал Сиффорд и развернулся к Лоджу. – И если она подтвердится, если будет хоть малейшее подозрение, что она соответствует действительности, если мы не сможем ее опровергнуть, я ухожу. Считайте, что я вас предупредил.
– Ваше право, Сиффорд. Когда пожелаете.
– Подтвердить ее может быть очень сложно, – задумчиво проговорила Хелен Грэй. – А опровергнуть и того сложнее…
Лодж поймал на себе взгляд Сью. В глазах у нее был мрачный смех, и читалось что-то вроде неохотного восхищения и конфуза от посрамленного цинизма. Она словно говорила: ну что ж, вам снова удалось, не ожидала, что вы и на этот раз выкрутитесь, только не спешите обольщаться, придет время и…
– Хотите пари? – прошептал он ей.
– Хотите цианиду? – парировала Сью.
И хотя Лодж рассмеялся в ответ, в душе он понимал, что Сью права – и даже сама не подозревает насколько. Час пробил. Третью группу исследования жизни настало время распускать.
Конечно, они еще продержатся какое-то время на исследовательском азарте, который вызвала у них гипотеза покойного Генри. Они продолжат упорно трудиться, как велит им профессия. Но увы, сердце они потеряли. Слишком глубоко проросли в их душах страх и предрассудки, смятение мыслей стало их частью, от него уже нельзя излечить…
Если Генри Гриффит поставил себе целью сорвать работу над проектом, ему это удалось, причем мертвым он добился на этом поприще куда больше, чем мог бы добиться живым.
Лодж почти услышал над ухом едкий смешок Генри и сам удивился игре своего воображения – ведь Генри был напрочь лишен чувства юмора.
Удивительно было и то, что персонажем Генри оказался Нищий Философ – старый прохвост, скрывающий свою лживую сущность за изысканными манерами и пышным красноречием. Генри не имел со своим творением ничего общего – он был человек прямой и безыскусный, горбил спину, изъяснялся просто и сухо, да и вообще все больше помалкивал, разве что мог буркнуть что-нибудь коротко.
Выходит, все-таки он был плут? Высмеивал всех устами Философа и никто не подозревал?
Лодж даже головой затряс, настолько дикой представилась ему эта мысль.
Если Философ и потешался над ними, то так мягко и тонко, что никто не заметил сарказма.
В том, что Генри мог смеяться над коллегами, не было ничего страшного. Ужасало другое: Философ вышел на экран вторым. Он появился сразу за Провинциальным Хлыщом и оставался в центре внимания на протяжении всей сцены – жевал индейку и толкал бесконечную напыщенную речь. По сути, во вчерашнем эпизоде он был самым ярким действующим лицом.
И никто не мог вести его вместо Генри, потому что никто не вычислил бы нужный персонаж в самом начале Спектакля. Да никто и не сумел бы без тренировки с первого раза так точно попасть в характер! А ведь нужно было еще и управлять собственным персонажем – учитывая, что треклятый Философ вообще не затыкался!
Значит, как минимум четверо однозначно выходят из-под подозрения – те, чьи герои играли вчера хоть сколько-нибудь активную роль.
Что это может означать?
Либо у них и правда завелся призрак.
Либо Философом управляла память компьютера.
Либо у всех восьмерых членов группы случилась массовая галлюцинация.
Последнее предположение Лодж отмел сразу, а потом и оба оставшихся. Все три версии не выдерживали критики. Происходящее вообще было необъяснимо.
Что может раздавить самообладание команды людей, профессионально обученных искать факты и с великим скепсисом относиться ко всему, что однозначным фактом не является? Изоляции на далеком астероиде для этого мало. Мало угрызений совести от конфликта с устоявшимися этическими нормами. Мало записанного на подкорке средневекового страха перед сверхъестественным.
Нет, должно быть что-то еще. Какой-то фактор, который они пока упустили из виду. Накануне за ужином Мэйтленд говорил о необходимости отыскать новый подход к решению задачи. Пожалуй, он подразумевал, что для их цели старые научные методы, основанные на поиске фактов, потеряли свою актуальность, и, чтобы добиться успеха, надо сойти с проторенной колеи…
Может, Генри подсказал им новый подход? А заодно и привел команду в состояние неработоспособности – этим и своей смертью?
Или был еще какой-то фактор – не вписывающийся в проторенную колею человеческого мышления и стандартной психологии?
А не является ли этим фактором Спектакль? Не стало ли развлечение, призванное удержать людей в здравом уме, причиной их помешательства?
Сейчас они уже расходятся по своим комнатам. Переоденутся, выйдут к ужину, а после снова будет Спектакль.
Вот она, сила привычки. Все полетело к чертям, но Спектакль будет, потому что так положено. Переодеться, поужинать, отыграть роль, утром вернуться на рабочее место и продолжить свой труд, который стал бессмысленным под гнетом постоянного страха, душевного конфликта, смерти, призраков…
Кто-то тронул его за локоть. Подняв глаза, Лодж увидел, что это Форестер.
– Что вам, Кент?
– Как себя чувствуете?
– Нормально. – Он немного помедлил и спросил: – Вы же понимаете, что теперь все кончено?
– Мы предпримем еще попытку.
Лодж покачал головой:
– Без меня. Пытайтесь, вы помоложе. А я выгорел, как они.
Спектакль продолжился с того самого места, на каком прервался накануне. На сцене появилась Юная Прелестница, и Нищий Философ, потирая руки, провозгласил:
– Ну что ж, вот мы все и в сборе. Все девятеро.
– Полноте, Философ, – пролепетала Прелестница, слегка запинаясь. – Ну, в сборе мы… Не понимаю, зачем акцентировать на этом внимание. Да, мне пришлось задержаться. Обстоятельства непреодолимой силы, знаете ли…
– Конечно, знаем, – с глупой ухмылкой сообщил Провинциальный Хлыщ зрителям. – Джин-тоник и автоматы игровые…
Инопланетный Монстр, высунув голову из-за дерева, выдал щелкающую тираду на своем языке.
Что-то шло не так.
В Спектакле чувствовалась какая-то механическая неправильность, дефект, нечто неуловимое, пугающе чужеродное.
Неправильность была в Нищем Философе – и заключалась она даже не в самом его присутствии, а в чем-то ином. Неправильными были и Прелестница, и Красивая Стерва, и Правильный Юноша, и все остальные.
Но острее всего ощущалась неправильность Провинциального Хлыща. Все-таки Байярд Лодж знал Хлыща, как никто другой, – знал как облупленного, до кишок, знал все его мысли и мечты, его вахлацкое самомнение, его наглую ухмылку, его напускную развязность, вызванную жгучим комплексом неполноценности… Знал, потому что сам это придумал, сам воплотил в персонаже, и для него, как и для всех зрителей, собственный персонаж стал чем-то бо́льшим, нежели живой человек, и даже бо́льшим, чем близкий друг. Между ними с Хлыщом были узы, связующие творца и его детище. Однако сегодня Хлыщ отстранился, словно оборвал ниточки, посредством которых создатель им управлял. Он сам встал на ноги, пробуя на вкус новообретенную самостоятельность.
– Как же не акцентировать на этом внимание? – ответил Прелестнице Философ. – Все-таки один из нас мертв…
В зрительном зале была тишина – ни шороха, ни вздоха, но охватившее всех нервное напряжение почти звенело, как лопнувшая скрипичная струна.
– Мы проекции человеческого сознания, которые играют назначенные роли, – произнес Усатый Злодей.
– Мы проекции человечества, – объявил Провинциальный Хлыщ.
Лодж чуть не вскочил с кресла.
Он не подсказывал Хлыщу этих слов! Он не хотел, чтобы они звучали вслух! Да, он думал об этом, вот и все! Боже милостивый, он же просто подумал!
Его вдруг осенило. Вот в чем неправильность! Они не на экране, а на сцене!
Все персонажи стояли на сцене – на узких подмостках между стеной и зрительным залом. Уже не проекции, а вполне материальные существа. Воображаемые марионетки, обретшие плоть и кровь.
Открытие заставило Байярда Лоджа похолодеть. Он обмер, придавленный набирающим силу осознанием: посредством одного лишь воображения – воображения и электронной аппаратуры – Человек создал жизнь.
«Новый подход», – сказал накануне Мэйтленд.
Господи! Новый подход!
Они потерпели поражение в лабораториях, но добились оглушительного успеха в театре. Не понадобится теперь собирать новую группу. Больше никто не будет в поте лица трудиться в серой зоне, где жизнь и смерть взаимозаменяемы. Чтобы создать человеческого монстра, достаточно сесть перед экраном и сочинить его – кость за костью, волос за волосом. Сочинить ему мозг, внутренние органы, уникальные способности и все такое прочее. Миллиарды человеческих монстров для заселения всех планет. И это действительно будут люди, потому что создадут их человеческие собратья по своим проектам.
Прямо сейчас персонажи Спектакля сойдут с подмостков и смешаются с толпой своих творцов. И как же творцы отреагируют? Завопят от ужаса? Сойдут с ума?
Что он, Байярд Лодж, скажет Провинциальному Хлыщу?
Что он вообще может Хлыщу сказать?
Но куда важнее – что скажет Провинциальный Хлыщ ему?
Замерев в кресле, Байярд Лодж ждал момента, когда они все сойдут в зал.
Находка
Перевод Е. Корягиной
Эту штуку Джонни заметил в кустах ежевики, когда разыскивал коров. Сквозь кроны высоких тополей опускался вечер, и видно было плоховато, и разглядывать было некогда: дядя Эб и так уже сердился из-за того, что он потерял двух телок и до сих пор не привел. Дядя Эб непременно опять возьмется за ремень, а ведь сегодня ему и так выдали по первое число. И вдобавок без ужина оставили, – за то, что забыл сходить к ручью за свежей водой. И тетя Эм весь день бранилась, – за то, что грядки полол из рук вон плохо.
– В жизни не видала такого беспутного мальчишки! – разорялась она, да не забывала прибавить, что, дескать, ждала от него хоть какой-то благодарности, ведь они с дядей Эбом взяли его к себе и спасли от сиротского приюта, так нет, не умеет он быть благодарным, а только пакостит, и лодырь, каких поискать, и она знать не знает, – и слава богу! – что из него вырастет!
Мальчик отыскал телок в дальнем углу выгона, у рощицы грецких орехов, и погнал их домой, а сам плелся позади и по обыкновению мечтал, как сбежит из дому, хотя и знал, что не сбежит – бежать-то некуда. Впрочем, говорил он себе, где угодно лучше, чем здесь, у дяди Эба и тети Эм, которые ему вовсе не дядя и тетя, а просто чужие люди, взявшие его к себе жить.
Когда он завел телок в хлев, дядя Эб как раз заканчивал доить и все еще сердился, что мальчик, пригоняя других коров, не заметил пропажи.
– Ну вот, – сказал он, – мне пришлось доить и за себя, и за тебя, а все ты: не сосчитал коров, хотя я тебе вечно твержу – надо сначала сосчитать, убедиться, что все на месте. Вот теперь и подои этих двух, – будет тебе наука.
Джонни получил трехногий табурет, подойник и стал доить – а первотелок доить куда труднее, чем других коров, да еще они пугливые; рыжая так его лягнула, что он полетел прямо в сток и разлил все, что успел надоить.
Дядя Эб, видя такое дело, снял со стены ремень и немножко поучил Джонни, чтобы тот был поаккуратнее и помнил: молоко стоит денег.
Потом они пошли домой, и дядя Эб всю дорогу бурчал, что от всякой мелюзги хлопот больше, чем она того стоит, а тетя Эм, встретившая их на пороге, потребовала, чтобы Джонни хорошенько вымыл ноги, а то изгваздает ее чистые простыни.
– Тетя Эм, – сказал он, – мне ужасно хочется есть.
– Ни крошки не получишь, – заявила она, сурово поджимая губы. – Может, если чуток поголодаешь – станешь не такой забывчивый.
– Ну хоть хлеба кусочек, – попросил Джонни. – Без масла, без ничего, только хлеба.
– Молодой человек, – вмешался дядя Эб, – вы слышали, что сказала тетя. Мыть ноги – и в постель.
– Да как следует помой, – добавила тетя.
Джонни помыл ноги и пошел спать. Лежа в постели, он вспомнил ту штуку, которую видел в кустах, и вспомнил, что никому про нее не рассказал – просто не успел, ведь тетя Эм и дядя Эб непрерывно его пилили.
Наверное, так оно и лучше, решил он, и не нужно им рассказывать. Им только расскажи – и они эту вещь отберут, как все у него всегда отбирают. А если не отберут, то сломают или еще что-нибудь учинят, и ему не станет от нее никакой радости.
Единственным имуществом Джонни был старый карманный нож с отломанным кончиком. Больше всего на свете мальчику хотелось получить новый нож, но не дурак же он был просить. Однажды он об этом заикнулся, так дядя Эб и тетя Эм завели на много дней: какое он неблагодарное и ненасытное создание, они взяли его с улицы, а ему все мало, трать еще деньги ему на карманный ножик.
Джонни здорово достали разговоры о том, что его взяли с улицы; насколько он помнил, на улице ему жить не приходилось.
Лежа в постели и глядя в окно на звезды, Джонни задумался: что же такое он видел в кустах ежевики? Ведь толком не запомнил, да и не разглядел – не было времени остановиться. Хотя кое-что интересное он заметил, и теперь, чем больше думал, тем больше ему хотелось рассмотреть как следует.
Завтра, подумал мальчик. Завтра погляжу хорошенько. Если получится – завтра.
Потом он вспомнил, что завтра не сможет: утром, как только он управится с обычной работой, тетя Эм заставит его полоть в саду, да притом глаз с него не спустит, и удрать не получится.
Он лежал и прикидывал, и наконец ему стало совершено ясно: если он хочет посмотреть на эту штуку, нужно идти сейчас.
Судя по доносившемуся храпу, дядя Эб и тетя Эм уснули. Джонни вылез из постели, быстро нацепил рубашку и штаны и прокрался вниз по лестнице, стараясь не наступать на самые скрипучие ступеньки. В кухне он встал на стул – добраться до спичечного коробка, лежавшего наверху старой дровяной печки. Набрал горсть спичек, подумал – и вернул бо́льшую часть в коробку: если взять много, тетя Эм заметит.
Трава была холодная и мокрая от росы; Джонни закатал штанины, чтобы не намокли, и припустил на выгон.
В лесу местами было страшновато, но Джонни боялся совсем чуть-чуть; и вообще – никто не сможет разгуливать по ночному лесу и нисколько не бояться.
Наконец он дошел до кустов ежевики и остановился, размышляя – как бы пролезть в заросли, не изодрав одежды и не исколов босых ног. А еще подумал, на месте ли вчерашняя находка, и сразу понял: на месте, потому что почувствовал исходившее от нее дружелюбие. Находка словно говорила: да, на месте, и бояться не нужно.
Мальчик немного растерялся, потому что к дружелюбию не привык. Единственным другом Джонни был его ровесник Бенни Смит; виделись они только в школе, да и там не всегда: Бенни часто болел и дни напролет сидел дома. А в каникулы они не встречались, поскольку Бенни жил очень далеко.
Глаза Джонни понемногу привыкли к темноте, и среди кустов ежевики он как будто стал различать очертания предмета. Мальчик не мог понять, почему он чувствует дружелюбие этой штуки, ведь она, по его мнению, была неживая, вроде автомобиля или сенокосилки – в общем, просто вещь. Приди ему в голову что она живая, он бы перепугался.
Находка продолжала излучать дружелюбие.
Джонни вытянул руки, собираясь раздвинуть кусты, потрогать и понять, что же это такое. Если подойти поближе, думал он, можно зажечь спичку и разглядеть.
– Стой! – велело ему излучаемое дружелюбие, и он моментально остановился, хотя и не знал, точно ли слышал это слово. – Не нужно смотреть на нас вблизи.
Джонни немного опешил: он ни на что и не смотрел, особенно вблизи.
– Ладно. Не буду.
Может, это игра вроде пряток, в какую он играл в школе?
– Когда мы подружимся, – сказали ему, – сможем смотреть друг на друга и вблизи – мы уже будем знать, каков каждый внутри, и внешность потеряет значение.
Наверное, видок у них жуткий, подумал Джонни, раз они не хотят ему показываться. И услышал ответ:
– Мы на вид жуткие для тебя. Ты на вид жуткий для нас.
– Тогда, значит, оно и к лучшему, что я в темноте не вижу.
– Ты не видишь в темноте? – переспросили его, и он подтвердил – нет, не видит.
Судя по молчанию, их сильно озадачило, что Джонни не видит в темноте.
Затем его спросили, а может ли он… Джонни не понял, что именно, а его собеседники пришли к выводу, что он и этого не может.
– Ты боишься, – сказали ему. – Нас не нужно бояться.
Джонни объяснил: он боится не их, ведь они добрые, а боится, что про них разнюхают дядя Эб и тетя Эм. Тогда его принялись расспрашивать про дядю Эба и тетю Эм. Джонни пытался растолковать, однако они не совсем поняли и, кажется, подумали, будто речь идет о правительстве. Он еще раз попытался, но они поняли и того меньше.
Наконец, очень вежливо, стараясь никого не обидеть, Джонни сказал, что ему пора идти, и поскольку задержался намного дольше, чем планировал, всю обратную дорогу бежал бегом.
Он благополучно пробрался в дом и лег в постель, но на следующее утро тетя Эм обнаружила у него в кармане спички и закатила целую лекцию о том, как легко нечаянно спалить хлев. Чтобы было убедительней, она принялась хлестать его по ногам, да так сильно, что Джонни, хотя и старался вести себя как мужчина, от боли кричал и подпрыгивал.
Целый день он полол в саду, а перед закатом пошел пригнать коров.
Заросли ежевики были как раз по пути; впрочем, будь они даже в стороне, Джонни непременно завернул бы туда: весь день он не мог забыть, какую ощущал там ласку.
Было еще не совсем темно, ночь только приближалась, и Джонни увидал, что его находка – не живое существо, а просто металлическая штука, словно две сложенные вместе глубокие тарелки, а по краю идет ободок – в точности как у сложенных вместе глубоких тарелок. Металл выглядел старым, как будто пролежал там немалый срок – видны были даже ржавые пятна, какие появляются на долго провалявшейся на улице железяке.
Эта штука пробила туннель в зарослях ежевики и вспахала дорожку длиною футов двадцать; Джонни посмотрел в том направлении, откуда она прилетела, и увидел сломанные ветки на верхушке высокого тополя.
С ним заговорили – без слов, как и ночью, – с добротой и участием, хотя последнего слова Джонни не знал, поскольку в школьных учебниках оно ему не попадалось.
Ему сказали:
– Теперь можно на нас немножко посмотреть. Быстро посмотри – и сразу отвернись. Долго не смотри. На нас – и сразу в сторону. Так и привыкнешь к нам. Понемножку.
– А вы где? – спросил Джонни.
– Прямо здесь.
– Там, внутри?
– Здесь, внутри.
– Ну так я вас не увижу, – сказал Джонни. – Сквозь металл я видеть не могу.
– Он не может видеть сквозь металл, – сказал один из них.
– И не видит, когда звезда не светит, – добавил другой.
– Значит, он нас не видит, – заключили оба.
– Так выйдите, – предложил Джонни.
– Мы не можем выйти. Если мы выйдем, мы умрем.
– Значит, я вас так и не увижу.
– Ты нас не увидишь, Джонни.
Мальчик опять ощутил ужасное одиночество: он никогда не увидит своих новых друзей!
– Нам непонятно, кто ты такой, – сказали они. – Объясни нам, кто ты.
И потому что они были такие дружелюбные, он рассказал, кто он такой, и как осиротел, и как его взяли к себе дядя Эб и тетя Эм, которые на самом деле ему вовсе не тетя и не дядя. Он не стал рассказывать, как с ним обращаются, лупят кнутом, ругают, отправляют спать без ужина, но они и так все это почувствовали, и теперь от них исходило не просто дружелюбие. Теперь было настоящее сочувствие и то, что у них могло считаться материнской любовью.
– Он еще маленький, – сказал один другому.
Они словно протянули руки и крепко его обняли. Джонни, сам того не замечая, опустился на колени и тоже протянул руки к тому, что лежало в кустах, и громко позвал, словно там было что-то, что можно прижать к себе, словно обрел некое утешение, по которому он всегда тосковал. Сердце его выкрикнуло то, чего он не мог сказать вслух, отчаянную мольбу, которая никогда бы не слетела с его губ. И ему ответили:
– Нет, Джонни, мы тебя не бросим. Мы не сможем тебя бросить, Джонни.
– Обещаете?
Его собеседники стали печальны.
– Нам незачем обещать. Наш аппарат сломался, и мы не в силах его исправить. Один из нас умирает, другой тоже скоро умрет.
Джонни стоял на коленях, и в него проникали слова, и проникал их смысл, и это было больше, чем он мог вынести: обрести друзей, которые вот-вот погибнут.
– Джонни, – позвали они.
– Да? – Джонни едва сдерживал слезы.
– Хочешь с нами поменяться?
– Поменяться?
– Ну, как друзья меняются. Ты нам что-нибудь дашь, и мы тебе дадим.
– Но у меня нет ничего… – И тут он вспомнил: есть! Карманный нож. Вещица, конечно, так себе, кончик лезвия обломан, но хоть что-то.
– Отлично, – сказали они. – Самое то. Положи на землю рядом с аппаратом.
Джонни положил ножик рядом с аппаратом, и, хотя он ждал, когда это произойдет, все случилось очень быстро, он и заметить не успел. Так или иначе, нож пропал, а на его месте оказалось что-то другое.
– Спасибо, Джонни. Ты молодец, что с нами поменялся.
Джонни протянул руку и взял то, что ему оставили; даже в темноте эта вещь вспыхивала скрытым пламенем. Мальчик повертел ее на ладони. Она походила на драгоценный камень со многими гранями, и изнутри шло свечение, переливавшееся разными цветами.
Только увидев это яркое свечение, Джонни вдруг понял, как вокруг стало темно и как сильно он задержался, и вскочил, и, не дав себе времени попрощаться, побежал.
Для поиска коров уже стало слишком темно, оставалось только надеяться, что они сами пошли домой и он найдет их по пути и пригонит. Скажет дяде Эбу, что ему пришлось долго за ними гоняться. Скажет, что телки сломали изгородь и он загонял их обратно. Скажет…
От бега у Джонни перехватило дыхание, сердце выпрыгивало из груди. Его обуял страх, страх перед собственным проступком, которому нет прощения, – и это после всех прочих грехов, после того, как он забыл сходить к ручью за водой, потерял вчера двух телок, а еще в кармане у него нашли спички…
Коров он не нагнал – они были дома, причем уже подоенные, и Джонни понял, что задержался гораздо дольше, чем ему казалось, и все гораздо хуже, чем он боялся.
Он подошел к крыльцу, дрожа от страха. В кухне было светло: его ждали.
Дядя и тетя сидели за столом, повернувшись к нему, и свет падал на их суровые лица, будто вытесанные из камня.
Дядя Эб встал, возвышаясь до самого потолка; на руках с закатанными по локоть рукавами вздулись мышцы. Он шагнул к Джонни, Джонни кинулся прочь, однако тяжелая рука легла сзади ему на шею, и пальцы обхватили горло, приподняли его и встряхнули с молчаливой злобой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?