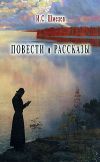Текст книги "Воспоминания о Николае Шмелеве"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Жизнь яркая, жизнь глубокая
Подумать только – ведь я был знаком с Николаем Петровичем 55 лет! Из них мы по-настоящему дружили лет двадцать. Во всяком случае, в 70–80-х гг. не было, кажется, ни одного дня рождения Николая, на котором я бы не был в качестве тамады. После того как он женился на Гюле, свои дни рождения он отмечал дома, был всегда примерно один и тот же состав гостей, среди которых выделялся, пожалуй, самый близкий друг Николая, тоже покойный Станислав Шаталин.
Первое впечатление от Николая было: элегантный, чистенький, румяный, улыбающийся мальчик. Всегда с иголочки одетый, с обязательным белым платочком в верхнем кармане пиджака, он резко отличался от всех нас, еще выглядевших «по-совковому». Что-то в нем сразу чувствовалось «не совсем наше», что-то особенное. Я только недавно поступил в ИМЭМО, был уже кандидатом наук, а Николай был аспирантом в Институте экономики стран социалистической системы, который располагался с ИМЭМО в одном здании. Так мы и познакомились, он сразу удивил меня интересом к проблемам развивающихся стран, чем мы занимались в отделе, который создал Виктор Тягуненко. И Николай быстро стал своим в нашей компании «третьемироведов», подружился с Тягуненко, Степановым, Аваковым, Рымаловым, Солоницким, Оксаной Ульрих и Леной Брагиной. Его научные интересы все время находились на грани «между социалистическим лагерем и третьим миром». Забегая вперед, скажу, что впоследствии мне довелось быть (редкий случай!) оппонентом у Николая на обеих защитах диссертаций – и кандидатской, и докторской.
Когда мы познакомились, он был еще женат на Юле, удочеренной внучке Хрущёва, и, следовательно, был в какой-то степени вхож в самую верхнюю верхушку советского истэблишмента, но это не чувствовалось абсолютно. Ни малейшего снобизма, ни даже намека на то, что он приобщен к «верхам» и стоит на голову выше простых смертных. В этом сразу были видны хорошее воспитание и настоящая интеллигентность. Собственно, иначе мы бы и не сблизились, ведь разница в возрасте была приличной: я был старше на десять лет, и мой жизненный путь был совершенно иным. Я в юности пять лет был рабочим, он принадлежал к «сливкам общества». Но моментально почувствовалась какая-то взаимная тяга, как говорят американцы, «химия». Мне, по крайней мере, с самого начала было с ним удивительно хорошо, легко, приятно и в то же время интересно. Как-то сразу попали «на одну волну», нашли общий язык, и выявилось удивительное сходство взглядов и вкусов, впоследствии только укреплявшееся. Я был поражен, откуда у этого «кремлевского юноши» такое понимание жизни, внутренних и мировых проблем.
Удивительно, но факт: за все десятилетия нашего знакомства у нас ни разу не было ни малейших размолвок, никакого обострения отношений. Не припомню случая, когда один из нас говорил другому резкие слова. В моей жизни это совершенно необычное, уникальное явление. Мы со Шмелёвым как-то сразу «притерлись» друг к другу, понимали один другого с полуслова и с каждым годом убеждались, что одинаково смотрим на все основные вещи.
При этом люди мы были по своей структуре совершенно разные. В отличие от меня, Коля был невероятно общительным, компанейским человеком: казалось, что он со всех сторон окружен друзьями, все время проводит в компаниях, ресторанах, застольях. Мало знавшие его люди и представить себе не могли бы, что этот самый человек находит время для того, чтобы писать и научные трактаты, и книги. Я и сам никогда не мог понять, как Николай умудряется сочетать в себе различные свойства и способности, как он умеет переключаться от своей исключительно бурной, насыщенной светской жизни к серьезнейшим, требующим глубокого раздумья в уединении исследованиям экономики.
Одно время мы были близки в самых разных сферах. Были женщины, которые на одном этапе своей жизни любили его, на другом – меня. Это никогда не влияло на наши взаимоотношения. А уж выпито было немало за эти долгие годы! Иногда добраться до дома после ужина на квартире у Коли было целой проблемой. Пить он был, как все знают, большой мастер, и я об этом упоминаю, так как иначе облик этого незаурядного человека был бы неполон. При этом я никогда, ни единого раза не видел его пьяным. Под хмельком, навеселе – сколько угодно, но все ему нипочем. Поразительный организм. Вообще в Николае была заложена такая жизненная сила, в него был вставлен такой мощный аккумулятор (сколько ни разряжался, сам собой заряжался опять, пока не иссяк окончательно), что можно было просто изумляться и восхищаться.
Карьера Николая была столь же противоречивой, неоднозначной, многокрасочной, как и сама его натура. Был период, когда он был «невыездным», точно не знаю почему. Однажды, если не ошибаюсь, его жену и дочь пустили отдыхать в Венгрию, а его «зарубили». Он смирился с мыслью, что его будут тормозить, и однажды сказал мне: «Если будет удобно, поговори при случае с Иноземцевым (директором ИМЭМО) о том, что хорошо было бы образовать в институте отдел по изучению истории мировой экономики. Я мог бы его возглавить, работы хватит на всю жизнь». Я засомневался, нужно ли это Иноземцеву; Николай ответил: «Ну убеди его, ведь это надо для респектабельности института!» Излишне говорить, что ничего из этого не вышло.
Но вдруг – неожиданный зигзаг. Николай попал в ЦК КПСС, если память мне не изменяет, в лекторскую группу. Стал пользоваться соответствующими привилегиями, познакомился с «ответственными работниками», особенно с Александром Николаевичем Яковлевым. Кстати, вспоминаю, как он мне рассказывал такую историю: на следующий день после защиты докторской диссертации Николай встретил Яковлева, который пожал ему руку и сказал: «Вот, Николай Петрович, со вчерашнего дня резко увеличилось число людей, которых вы можете послать на …».
И книги стал писать одну за другой. Писал и раньше, но не публиковали. И вдруг – как прорвало! Все мы, его друзья, просто ахали, получая от него в подарок очередную книгу: какой диапазон, какая способность заглянуть в прошлое, уловить что-то главное, дойти до сути, пройти в самую глубину. То наша сегодняшняя жизнь, а то – Иван Грозный, а вот еще – последняя любовь Гёте! Как сил хватает, откуда время берется, что за невероятная работоспособность, усидчивость у этого бонвивана… И ведь при этом научные труды пишет. Наконец, уже потом – статья «Авансы и долги», сразу прославившая его на всю страну.
Эта статья, безусловно, стала вехой в жизни Шмелёва. Не только в силу блестящего экономического анализа – все знавшие его люди и так понимали, что он один из самых глубоких и проницательных экономистов, человек редкой эрудиции и глобального масштаба мышления. Здесь Николай показал себя как политический мыслитель, причем совершенно определенной ориентации. Он стал одним из главных идеологов перестройки, смело и безоговорочно встал в ряды борцов за решительное обновление всей нашей политической и общественной жизни. И когда в январе 1991 г. произошли кровавые события в Вильнюсе, Николай сдал авиабилет, по которому он должен был вылететь в Париж. Остался в Москве, чтобы лично участвовать в борьбе против тех, кто еще пытался любыми средствами удержать уже отжившую свой век, обанкротившуюся систему.
Здесь можно спросить: как Шмелёв относился к советской власти? Ни одного хорошего слова я никогда от него не слышал о тоталитарной системе, самым страшным воплощением которой был сталинизм. Сколько у нас было разговоров на эту тему, с какой ненавистью он отзывался о системе, которая лично ему ничего плохого не сделала; я сначала удивлялся, что такие настроения могут быть у бывшего зятя Хрущёва. Потом понял, что в этом как раз и проявлялась его внутренняя порядочность наряду с умением объективно осмыслить суть исторических событий. В отличие от многих отпрысков советских вельмож, не способных примириться с фактом крушения советской власти, Николай смог подняться выше личных интересов. Напомню, что он работал в «святая святых» системы, в ЦК, имел массу льгот, впереди светила прекрасная карьера. Кто мог знать, что будет после смены власти, не рухнет ли и он, и ему подобные «идеологические столпы» системы? И уж во всяком случае меньше всего он мог предполагать, что при новой власти станет академиком и директором института. Но он пошел тем путем, который считал необходимым для страны, пошел с Шаталиным за Горбачёвым и Яковлевым.
Помню, мы сидели втроем: Николай, я и наш общий друг, покойный Лев Степанов. Был разгар перестройки. Лев сказал: «Мы даже еще не можем представить себе, что изменения пойдут лавинообразно». Шмелёв тут же откликнулся: «Правильно, Лева, нашел верное слово! Будет лавина, и нас, может быть, погребет, но не должна эта античеловеческая система быть вечной, надо же наконец дать людям свободно дышать!» Это буквально его слова, я их запомнил в точности и годы спустя ему же их напомнил.
Николай Шмелёв по своей природе, по структуре своей личности был демократом и либералом. Сколько раз я слышал, как он последними словами клеймил всякий авторитаризм, диктатуру, деспотизм, преследование свободы мысли. Вот что он ненавидел органически – это всякое насилие, исходит ли оно от человека или государства. Ему были совершенно чужды такие распространенные в нашей стране черты, как грубость, хамство, непримиримость и нетерпимость, отношение к человеку с иным мнением как к врагу. И вместе с тем Николай был настоящим русским человеком в лучшем смысле слова и русским патриотом.
А вообще он с огромным любопытством наблюдал за жизнью как у нас, так и за рубежом, впитывал в себя что-то новое. Помню, как мы с ним ходили по Буэнос-Айресу и как он вглядывался в памятные места этого чудесного города, уже изучив историю Аргентины. Чего он, кстати, терпеть не мог, так это дилетантского, поверхностного отношения к истории и особенностям различных обществ. Если Николай не чувствовал себя компетентным высказать о чем-то действительно веское мнение, он воздерживался от оценок. Безаппеляционность, самомнение, склонность рубить с плеча, не стесняясь обидеть человека, – все это было ему абсолютно чуждо. Когда-то я ему сказал о чьем-то афоризме на тему самооценки: «Оценивая себя, я скромен, но сравнивая – горд». Он тут же за это схватился и даже записал, чтобы не забыть.
И все же: что это была за личность?
Я бы выделил несколько ипостасей Николая Шмелёва, человека на редкость многогранного и не поддающегося общеизвестным шаблонным оценкам.
Первая: вальяжный русский интеллигент старого, дореволюционного образца, в кресле и с трубкой в зубах, начитанный, философствующий, озирающий мудрым взглядом вереницу минувших столетий.
Вторая: плейбой второй половины ХХ века, ровесник и сотрапезник «шестидесятников», любитель жизни во всех ее проявлениях, ценитель красивого застолья, любимец женщин.
Третья: типичный кабинетный ученый, способный, изолировавшись от мирской суеты, часами сидеть над книгами, трактатами, статистикой, обдумывать и писать научные исследования.
Четвертая: писатель, литератор, сочинитель беллетристических повестей и романов, с наслаждением копающийся в пыли веков, проникающий в мысли и чувства давно ушедших персонажей, дающий простор фантазии, отбрасывающий сухую научную прозу.
Как можно было все это совместить? Я не знаю другого человека, в котором бы могли сочетаться столь различные грани личности. Может быть, именно поэтому, из желания все охватить, и в экономике свое слово сказать, и в литературе попробовать сравняться если не с классиками, то по крайней мере с Нагибиным, Битовым, Аксёновым, и в академической иерархии двигаться до потолка (а ради этого – со сколькими фигурами надо завязывать отношения, сколько потом чертыхаться и отплевываться, сколько погружаться в суету сует) – может быть, поэтому и не все получилось, о чем мечталось? Внешне, формально – куда уж больше, а внутренне? О чем, может быть, жалел Николай, чего бы он не стал повторять, будь возможна другая жизнь, – не знаем…
В давние времена я подарил Николаю котенка. Оказалось, что это норвежский лесной кот. Он прожил 19 лет. И каждый раз, когда я приходил в гости, навстречу мне бросалась, только я успевал открыть дверь, Катя, дочь Николая, держа в руках огромного кота. После этого выходил из кабинета хозяин, и я неизменно спрашивал: «Ну, что нового написал?» Такой был неизменный ритуал. Я знал, что главным в жизни Николая было – писать книги. Он написал бы больше, возможно, создал бы шедевр, если бы… если бы не был тем Николаем Шмелёвым – разносторонним и жадным до всех проявлений жизни, – которого мы знали. И мы должны быть рады, что жили рядом с таким человеком.
Г. И. Мирский
Доктор исторических наук
Заслуженный деятель науки РФ
Николай Петрович Шмелёв: он первым выступил за реформы и первым – против того, как они проводились
Про Николая Петровича писать будут многие. Он был человеком крупного калибра и в литературе, и в экономике, и в судьбе многих людей оставил след на всю их последующую жизнь. В том числе и в моей судьбе. Он был моим начальником, старшим товарищем и соавтором в 1983–1991 гг., когда я работал в Институте США и Канады АН СССР; а после 1991 г. мы общались регулярно и по работе, и как друзья. В 1989 г. в России, а потом и в США вышла наша книга «На переломе»[23]23
Шмелёв Н. П., Попов В. В. На переломе: экономическая перестройка в СССР. М., 1989; Shmelev N. V., Popov V. V. The Turning Point: Revitalizing the Soviet Economy. NY, 1990.
[Закрыть]; в 1991 г. под нашей редакцией вышла другая книга[24]24
Советская экономика: от плана к рынку / Под ред. В. В. Попова и Н.П. Шмелёва. М., 1991.
[Закрыть]; до этого и после этого мы писали вместе докладные записки, статьи, главы в книгах[25]25
Шмелёв Н. П., Попов В. В. 1) Анатомия дефицита // Знамя. 1988. № 5; 2) План и экономика. М., 1988; 3) На развилке дорог (Так была ли альтернатива 1929 году?) // Студенческий меридиан. 1989. № 1.
[Закрыть].
В 1983 г. я закончил рукопись книги про экономические циклы, ее раскритиковали как подрывающую марксистские догмы (хотя мне казалось, что, наоборот, я восстанавливаю творческий марксизм). Николай Петрович отнесся к книге с симпатией, взялся помочь, и в итоге я перешел в сектор мирохозяйственных связей Института США и Канады, который тогда Шмелёв и возглавлял. Во время первого серьезного разговора я посчитал нужным рассказать Шмелёву, имевшему репутацию либерала, о своих политических взглядах:
– Я социал-демократ, Николай Петрович, верю в международное братство всех людей труда. Нынешнюю советскую систему критикую, как и все, но социалистические идеи разделяю. Может, и не вполне большевик, но как минимум «меньшевик-интернационалист».
Шмелёв улыбнулся.
– М-да, сколько вам лет?
– Скоро 30.
– Знаете, что Черчилль говорил? Кто в молодости не был левым, у того нет сердца. Но кто к старости не стал правым, у того нет ума. У вас еще есть время, но не так много…
Наверное, в последующие годы я поправел, а может, и Шмелёв полевел, так или иначе мы сработались. Мне повезло, что судьба нас свела, я понял это сразу. Николай Петрович отличался от остальных так, что лишь слепой мог не заметить, что по широте кругозора, по общей культуре и по умению анализировать и видеть глубже он превосходил других на порядок. Это было очевидно в науке, в экономике: многие специалисты, знавшие досконально «свои» темы, которыми занимались десятилетиями, не могли, что называется, взять быка за рога – сформулировать суть дела так четко, как Николай Петрович. И не могли сделать более верные прогнозы. Это было очевидно и в его художественной прозе – он писал о Гёте и Пиросмани, о Питере Брейгеле и Иване Грозном, о московской интеллигенции и советской жизни. Его повести, романы и рассказы были «настоящими», написанными «не понарошку», все они запоминались и «не отпускали» – заставляли мысленно возвращаться к ним опять и опять, искать ответы на вопросы вечные и непреходящие, которые волновали человека сотни лет назад и будут волновать всегда.
Николай Петрович одним из самых первых выступил за реформы в статье «Авансы и долги», опубликованной в «Новом мире» в 1987 г.[26]26
Шмелёв Н. П. Авансы и долги // Новый мир. 1987. № 6.
[Закрыть], и одним из первых выступил против того, как они проводятся. При всем своем уважении к Горбачёву («европеец со ставропольским акцентом») он резко критиковал его макроэкономическую политику, создавшую огромные вынужденные сбережения – отложенный потребительский спрос и повсеместные дефициты. В начале 90-х гг. ему предлагали войти в правительство (пост министра приватизации или другой), но он отказался. Он любил говорить: «Я не губернатор, я еврей при губернаторе», но отказался он, конечно, из-за принципиального несогласия с «безжалостными» шокотерапистскими методами. Он переживал и за судьбу СССР, и за судьбу России, и за судьбу социалистической идеи.
В своей экономической публицистике конца 80-х Шмелёв определил главную экономическую проблему тогдашнего развития: рыночные реформы, ставка на экономические стимулы требуют стабильного рубля, а бюджетный дефицит и его монетизация эту самую стабильность подрывают, дискредитируя реформы и реформаторов. Тогда же он предложил варианты разумной политики – отказ от антиалкогольной кампании для восстановления потерянных от акцизов на водку доходов бюджета, продажа реальных активов (малая приватизация) и финансовых активов (облигационные займы) населению для откачки отложенного потребительского спроса, импорт ширпотреба за счет валютных резервов и иностранных займов для немедленного наполнения потребительского рынка. Такие рекомендации могли помочь профинансировать издержки перехода к рынку, осуществить своего рода «хирургию под наркозом», но, к сожалению, они если и были использованы, то в слишком малой степени и слишком поздно. Накопленные вынужденные сбережения населения в конце концов были ликвидированы самым жестоким и разрушительным способом – павловская денежная реформа 1991 г. и апрельское «регулируемое» повышение цен, а потом и полное освобождение цен 2 января 1992 г., положившее начало периоду сверхвысокой инфляции.
В период высокой инфляции 1992–1995 гг., когда деньги раздавали на все, кроме того, на что действительно было нужно, Шмелёв возмущался безжалостностью реформаторов в отношении пенсионеров, врачей, учителей, университетов, фундаментальной науки. «Если они печатают деньги вагонными составами, то разве нельзя прицепить к этому поезду еще маленькую тележку, чтобы спасти от развала Академию наук? Сохранить в науке и в России сотрудников Математического института Стеклова стоит максимум несколько миллионов долларов – копеечные деньги в государственном масштабе; даже если на эту величину увеличить дефицит бюджета и погасить его печатанием денег, инфляция вырастет только с 1000 % в год до 1002 %. Какая разница. Кто это заметит?»
Наверное, лучше, чем кто-либо, Шмелёв понимал, как в реальности работает советская экономика и вся административная система. «Если сказать, что система абсурдна, то это нас далеко не продвинет, – объяснял он. – Задача состоит в том, чтобы вскрыть механизм функционирования системы, законы ее развития».
«В чем состоит самая глубокая тайна советской системы? Я не сразу это понял, – говорил Шмелёв, – мне понадобились годы, чтобы понять. Я думал, на Лубянке есть подвал, там клетка, в клетке – три мудреца. Когда “припекает”, возникают серьезные проблемы, члены Политбюро идут в подвал к клетке за советом. Мудрецы им и говорят: “Вводите войска в Чехословакию”, или: “Стройте “Атоммаш”, или: “Поднимайте цены на мясомолочные продукты”. Так вот, самая главная тайна советской системы состоит в том, что не только мудрецов, но и клетки и даже подвала на Лубянке нет».
В каждой шутке есть доля шутки: этот образ системы был и у Войновича в «Москва 2042» – суперкомпьютер, якобы вычислявший оптимальную траекторию развития, а на самом деле сломанный и давно не работающий, в подвале, охранявшемся как святилище. Но есть и в шутке доля правды. Советская система, вопреки представлениям плановиков, развивалась совсем не по плану, а по неведомым никому законам, причем развивалась относительно устойчиво и одно время (до середины 60-х) даже сокращала разрыв с западными странами по подушевому доходу, да и по социальным показателям (продолжительность жизни, например) была впереди многих. Каковы эти законы и механизмы развития плановой системы, мы до сих пор не знаем (это один из крупнейших пробелов в экономической науке), но благодаря Шмелёву имеем много «наводок».
Собственно говоря, в этой области художественные произведения Шмелёва, особенно его сборник рассказов «Curriculum vitae», дают не меньше пищи для размышления, чем его научные работы. Перечитайте рассказы про А. И. Соболева, спасшего от разъяренного быка секретаря ЦК по международным связям Б. Н. Пономарева, про Иди Амина и его друга – агента советской разведки поневоле, про Н. П. Фирюбина, секретаря московского горкома партии после войны, которого Сталин заподозрил в желании «отключить канализацию и провода в Кремле перерезать», – это ценные документы эпохи, реальные истории, записанные настоящим писателем, человеком, умевшим видеть и схватывать главное. Для серьезных будущих исследователей советского социализма эти рассказы дадут не меньше, чем архивы и статистические сводки.
От Шмелёва я впервые услышал, что создание совнархозов в 1957 г., которое, как считали многие, не имело никакого экономического смысла, на самом деле было продиктовано соображениями политической борьбы. Хрущёв старался тогда преодолеть сопротивление министерской бюрократии и решил создать «две партии» – по сельскому хозяйству и промышленности (а в перспективе хотел создать шесть – по птицеводству, свиноводству и т. д.). Так что получалось, что совнархозы отчасти сродни китайской «культурной революции», цель которой тоже состояла в том, чтобы предотвратить бюрократизацию аппарата.
От Шмелёва я впервые узнал, какие широкие полномочия и невиданная в плановой системе экономическая самостоятельность были предоставлены наркомам вооружений, танков, самолетов, боеприпасов во время Второй мировой войны – вплоть до права устанавливать зарплаты, которые они считали нужными. Получалось, что в критические моменты административная система могла наплевать на все табу и использовать чисто рыночные методы.
Многое из того, что говорил Николай Петрович, он не успел записать. Те, кто знали его, наверное, как и я, только сейчас понимают, что многие его неопубликованные мысли будет трудно восстановить и додумать до конца.
В рассказе «Последний этаж»[27]27
Шмелёв Н. П. Последний этаж. Сборник современной прозы. М., 1989.
[Закрыть], который сам Николай Петрович считал «самым важным из написанного», главный герой говорит так: «…никому еще и никогда не удавалось додуматься в этих вечных вопросах до большего, чем простая констатация унылого, согласен, неприятного и тем не менее абсолютно бесспорного факта: каждый из нас – лишь песчинка в пустыне бытия, и приходил ли ты в мир или вовсе не был в нем, не имеет ровным счетом никакого значения ни для кого, кроме разве что тебя самого да еще немногих твоих близких, кого судьба так или иначе связала с тобой в один узел».
Я спорил, говорил, что есть какой-то смысл, предназначение, что человечество в конце концов добьется того, что люди будут жить вечно и мы узнаем, что там, за пределами Вселенной. Я цитировал Конфуция: «Живи так, будто завтра умрешь; учись так, будто проживешь вечно».
– Да, я могу принять неизбежность смерти, – отвечал Николай Петрович. – Но смириться с тем, что мы никогда не узнаем, в чем смысл, зачем нам была дана эта жизнь, – с этим смириться я никогда не смогу.
Что же тут скажешь, действительно, трудно смириться. Еще труднее умирать, так и не узнав, в чем этот смысл. Но если мы не знаем, это не значит, что смысла нет. Для меня этот смысл определяется достижениями и нравственными ориентирами таких людей, как Шмелёв. Николай Петрович не конъюнктурил ни в советское, ни в постсоветское время. Его художественную прозу не печатали четверть века, но он все равно продолжал писать в стол, не подстраиваясь ни под цензуру, ни под «политкорректность». Он успел сделать много и прожил жизнь достойно по самому высокому гамбургскому счету.
В последние годы жизни Шмелёв полушутя жаловался на груз прожитых лет.
– Мне уже трудно вникать в смысл дискуссий, когда я сижу на Ученом совете или на конференции, мне трудно сконцентрировать внимание, мне надо сделать усилие, чтобы понять, о чем они там говорят и какие новые идеи провозглашают. Но в конце концов я делаю усилие и вникаю в суть – господи, о чем они говорят, я все это 30 лет назад знал!
Таким он останется в моей памяти. Навсегда.
В. В. Попов
Доктор экономических наук
профессор РАНХиГС
почетный профессор Российской экономической школы
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.