Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
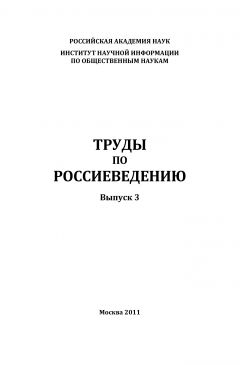
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Война заканчивается в мифе чудесным избавлением – торжеством над всесильным прежде врагом. При этом речь идет не просто о военной победе, поражении в битве (или битвах) и бегстве врага. Мотив торжества над завоевателем, опять же не уникальный для христианской традиции, получает в русской культуре специфическое разрешение. Враг не просто уничтожается – он поглощается: победители восстанавливают сакральное пространство «своего» мира; в него втягивается и им перерабатывается «нечистая» вражеская территория. Утрачивая пространство, теряя тем самым силу, враг как бы перестает быть – во всяком случае, в прежнем своем качестве: субъекта, творца собственной истории. Он присоединяется к миру победителей на положении вассала, приобщается к его системе ценностей (переходом в «нашу» веру, т.е. своего рода мировоззренческим обращением, подчинением «нашей» власти). Тем самым «очищается», снимая с себя вину.
Правда торжествует: побежденный становится победителем, раб – хозяином, творцом и собственной истории, и истории побежденных (это, кстати, типологически напоминает схему революционного мифа: «кто был ничем…»). «Вредоносный» вражеский мир разрушается. Хаос отступает – восстанавливается порядок. Так, в имперско-религиозном духе культура освоила реальный исторический опыт: многовековая порабощенность Степью сменилась в XVI–XVIII вв. завоеванием вражеских территорий (Казанского, Астраханского, Сибирского ханств, затем Крыма), их подчинением Русскому государству, религиозной и культурной ассимиляцией. Многотрудный и долгий исторический процесс был свернут в мифический мотив Победы, который в конечном счете определяет логику мифа.
Фактически в этом сценарии сталкиваются два главных смыслопорождающих мифологических начала: в священной войне умирает и воскресает, возрождается народ. Именно миф войны становится в нашей культуре ареной столкновения добра и зла, персонифицированных в конкретных силах. Через него проигрывается центральная для христианской культуры история конца света – апокалипсис, Страшный суд, установление Царства справедливости. Конец всего и начало всего, катастрофа разрушения мироустройства и созидание нового мира, невиданные народные жертвы и чудесное избавление – все эти мотивы присутствуют в мифологическом рассказе о великой войне. Начавшись как оборонительная и потому справедливая, она – благодаря жертвенности и долготерпению народа – перерастает в победно-наступательную, в которой торжествует Правда. В мифологической войне гибнет материальная, но спасается духовная, священная основа жизни – «душа» народа и Святая Русская Земля. Из нее и вырастает национально-государственное единство.
Специально укажем на одну из определяющих функций мифа священной войны – добиться приемлемого для культуры соотношения тем завоевания и победы. В мифе не просто оправдывается поражение – проигрыш оборонной войны и связанные с ним человеческие, материальные, территориальные потери. А ведь именно в этом – парадокс, главное противоречие военного мифа: он «поет» оборону как единственно оправданный сценарий начала священной народной войны и в то же время мирит с ее безуспешностью. В контексте мифа поражение оказывается логически необходимым – таков сценарий священной войны. Поражение и завоевание в мифологической логике еще не конец, а лишь некое переходное состояние; в то же время – необходимая для победы искупительная народная жертва. Победой же снимается весь негатив неудач, «комплекс ига».
Такое проигрывание исторических нашествия и ига в культуре были, видимо, необходимы для ее выживания. Имея, безусловно, защитно-компенсаторный характер, миф священной войны нес положительный, жизнеутверждающий заряд. Он обещал победу после поражений, давая надежду в исторически безнадежной ситуации. Посредством мифа в пространстве культуры перерабатывались национальные страхи от увязвимости территории перед внешней агрессией, шок от ощущения несостоятельности, вызванный военными неудачами.
В конечном счете миф наделяет войну высоким статусом, связывая ее с «предельными» ценностями культуры. Или, говоря иными словами, в русской традиции только через военный миф возможна (осуществляется) такая связь. Поэтому война у нас – время действия высшей нравственной меры. Показательно, что только в рамках военного интереса служба – этот краеугольный камень русского социального порядка – понималась как служение. Только на войне и в военном мифе она приобретала всеобщий характер, объединяя и уравнивая все сословия, нивелируя социально-статусные различия. Тем самым символически преодолевался традиционно иерархический характер нашей социальности, решалась важнейшая для нее проблема социальной справедливости. В мифе и мифом оборонительная война, типологическая для русской военной истории, возвышалась до священной. И требовала для своего описания высокого, героического и сурово-романтического языка.
Рост нации из «первой Отечественной»
В мифе дан сценарий нормативной для нашей культуры войны. Не случайно Россия всегда выигрывала войны, в которых он реализовывался: оборонительные и потому справедливые, сплачивавшие людей разных сословий, состояний, статусных позиций в единый народ. В критической ситуации миф начинал работать; его энергетика проецировалась на реальность, а та, в свою очередь, подзаряжала его «правдой истории».
Логика мифа просматривается в событиях начала XVII в.; современная к ним апелляция явно не случайна. Вспомним: тотальная и всеобщая Смута закончилась противостоянием внешнему врагу, с нарастанием справедливой, оборонительной, спасительной для народа и потому священной войны. Именно в ней обнаруживается объединяющий, высший смысл; она – против логики Смуты, сильнее ее. Окончание Смуты типологически подобно завершению священной войны: ликвидируется «иноземное иго», (вос)создается государство, (воз)рождаются русская власть и народ как общность, субъект истории. Именно со Смутой (точнее, с патриотическим ее «мотивом») историки связывают окончательное закрепление в русском сознании понятия Отечества124124
Попутно заметим, что «слово… Родина (в значении “родная страна”) первым начнет употреблять Г.Р. Державин лишь в конце XVIII столетия» (15, с. 203).
[Закрыть]. И не случайно памятник гр-ну Минину и кн. Пожарскому появляется на Красной площади в Москве после войны 1812 г. (в 1818 г.) как напоминание об имеющемся в русской истории опыте отечественных. Кстати, в этом контексте подвиг Ивана Сусанина из проходного эпизода Смуты превращается в организующее пространство мифа событие125125
Отмечу странный, на первый взгляд, момент: образ Сусанина типологически и функционально схож с важнейшим для национальной памяти французов образом Жанны д’Арк. «Через» них культура представляет «сценарий» выхода из исторических катастроф – жертвенным служением, подвижничеством и мученической гибелью во имя общего спасения. В этом смысле образ Сусанина выше, значительнее образа «Минина–Пожарского»: они ближе, понятнее, но имеют, скорее, инструментальное значение (отвечают на вопрос «как делать?»), тогда как костромской крестьянин несет в себе смысл («что делать?»). Потому это идеальный персонаж русской культуры (как Дева – французской).
[Закрыть]. Конечно, мифологический сценарий не реализовался в Смуту в полной мере; тем не менее «химия» от столкновения мифа культуры с фактом истории возникла. А именно это давало жизнь мифу и очищало, оправдывало реальную жизнь.
С точки зрения логики мифа священной войны в народной культуре оценивались агрессивно-наступательные, экспансионистские эпохи нашей истории. С этих позиций петровский и екатерининский экспансионизм, в целом имперство XVIII – начала XIX в. еще могли быть оправданы идеей возвращения (у завоевателей – шведов, поляков, степных разбойников-крымцев) утраченных прежде территорий (отложенность процесса во времени в данном случае не нарушала целостности и логики мифа). Однако блестящие победы елизаветинских и павловских орлов, александровское участие в антинаполеоновских коалициях – на чужой территории и за чужой интерес – выглядели сомнительными, если не бессмысленными авантюрами126126
Это народное ощущение, кстати, передано в главном мифологическом тексте о священной войне – толстовской эпопее. Мир в ней кончается только с наступлением Отечественной. Всё, что происходит до этого, – бессмысленная военно-царская игра ради игры, пустая и кровавая забава «вождей», культивировавших войну во имя собственного культа.
[Закрыть]. Их несправедливость, с точки зрения культурно-мифологической войны, объясняла неудачи и делала несущественными приобретения – особенно в том случае, если в войнах росли не пространства Отечества, а влияние и престиж власти.
Показательно, что агрессивно-наступальный, тщеславный и самоуверенный XVIII век со всеми его военными победами фактически стерся из народной памяти – точнее, не зафиксировался как военно-победоносный. Из военных героев в ней остался, пожалуй, только А.В. Суворов – да и то не как идеальный полководец, а скорее идеалтипический «отец солдатам» и в этом смысле «предтеча» М.И. Кутузова (речь, конечно, идет не о реальной фигуре, а о мифологической роли: главного военного деятеля Отечественной). В трактовке войн народное миропонимание входило в явное противоречие с государственной целесообразностью, государственными задачами.
Конфликт народного и имперско-государственного образов «правильной» войны был преодолен в 1812 г. В той войне, крепко отпечатавшейся в русской памяти, мистическим образом едва ли не «дословно» реализовался мифологический сценарий. Миф стал реальностью, получив свое название на все времена – Отечественная война: народная, справедливая, победоносная, священная127127
Заметим, что категория «священная война», активно использовавшаяся в текстах о 1812 г., взята из лексикона западной культуры. В круге этих материалов тиражировались также метафоры «Россия – Священная империя славянской нации», «Освобождение Европы», русский император – «освободитель народов» (6, с. 216, 217).
[Закрыть], связанная с приращением территории и мировым (тогдашняя Европа и была всем миром) доминированием. Следует заметить, что при всей своей случайности историческое событие пришлось на время, на удивление подходящее для окончательного утверждения мифа в национальной культуре. В наполеоновскую эпоху созидалась новая Европа: шло активное «государственное строительство», романтизировалась (и «придумывалась») национальная традиция, были заметны первые переживания национальной идентичности. В ходе общеевропейского процесса национального самоутверждения и у нас родилось Отечество – из войны, названной поэтому Отечественной. Вместе с появлением Отечества возникла патриотическая идея, стали складываться технологии ее продвижения.
Благодаря войне миф, лишь нащупанный, угаданный культурой, стал ее фактом и достоянием. Разрозненные мифообразы сложились в миф национального уровня – готовый фундамент для здания российской нации. Будучи воспет в литературно-художественной традиции, вершинами которой являются лермонтовское «Бородино» и толстовская «Война и мира», 1812 год и в народное историческое сознание вошел в мифологической форме. Этому способствовал тот факт, что после войны значительно расширился круг текстов, втянутых в поле притяжения мифа.
Современные исследователи считают, что процесс информирования о ходе военной кампании представлял собой не информационное обеспечение общества, а управление сознанием современников. Уже в ходе войны в опоре на опыт наполеоновской Франции «пропагандисты» (см. манифесты А.С. Шишкова, афиши Ф.В. Растопчина, публикации Н.И. Греча и др.) конструировали идеологию народной войны. Однако в послевоенной официальной версии события, созданной при Александре I и Николае I, в качестве коллективного героя фигурировал уже не «единый русский народ», а Российская империя – «наследница Священной империи германской нации». Русские представлялись в официозе неким священным воинством, орудием в «Божьем деле» – войне («великой брани») со «всемирным злом и неверием» (6, с. 160, 161, 168–169). В противовес официозу, представившему версию «наднациональной» священной войны, «определенный сегмент российской элиты интерпретировал… столкновение как борьбу за национальную независимость России» (там же, с. 167, 168). Не все смыслы, появившиеся в интерпретациях 12-го года, были приняты мифом. Главное – было отвергнуто представление о наднациональном характере войны. Отечественная осталась в памяти народа как внутреннее дело, имеющее тем не менее «всемирно-историческое» значение.
В начале XIX в. произошел важнейший, пожалуй, после монголо-татарского нашествия и ига взаимообмен исторического и мифологического128128
Современники, кстати, видели связь двух вторжений – монгольского и французского: «Отечество станет под игом новых татар», – писал патриотический журнал «Сын Отечества» (цит. по: 6, с. 169). У одного мемуариста известие о появлении французских войск в пределах империи вызвало воспоминание о том, что «Россия была некогда подвластна татарам»; он уже «воображал себя пленником», и «эта участь устрашала» его (9, с. 172). По аналогии с нападением татар наполеоновская агрессия воспринималась как нашествие – неуклонное, неумолимое, ведущее к установлению «ига»: «Быстрое занятие неприятелем городов внушало опасение, что этот поток ничто не остановит и что он скоро дойдет до нас и поглотит» (там же, с. 173).
[Закрыть]. Реальная история Отечественной «вошла» в миф, найдя в нем живой и непосредственный отклик. С этого времени миф священной войны, постоянно питаемый множащимися текстами об истории 12-го года, составлял рамку национального восприятия войны вообще. Этот культурный механизм точно описан Б. Малиновским – правда, в отношении «примитивного» общества: «Миф в том виде, в каком он существует в общине дикарей, т.е. в своей живой примитивной форме, является не просто пересказываемой историей, а переживаемой реальностью… <Она>, как верят туземцы… продолжает оказывать воздействие на мир и человеческие судьбы… Наше священное писание живет в наших обрядах, в нашей морали, руководит нашей верой и управляет нашим поведением; ту же роль играет и миф в жизни дикаря» (42, с. 98). Это описание верно и для общества современного; его во многом направляют мифы национальной культуры.
События 1812–1814 гг. были, с точки зрения мифа, нашей «правильной» войной. Более того, единственно правильной – «первой Отечественной»129129
Интересно, что последний всплеск текстов об Отечественной войне пришелся на начало ХХ в. К столетию 1812 года было собрано и записано немало «передававшихся из поколение в поколение, бытовавших безымянно-устных повествований, близких к историческим преданиям фольклорного типа» (59, с. 63–64). То есть именно этот пласт источников был в значительной степени мифологизирован. Ими транслировалось то представление о войне, которое утвердилось в культуре, став своего рода нормативным. Оно воспроизводилось и в научных исследованиях (см., например: 2 и др.). «Народная», «Отечественная» – так вспоминали о войне 1812 года накануне Первой мировой.
[Закрыть]. Ее сложные «сюжеты» получали в текстах о ней (и благодаря им – в общественных представлениях) «правильное», т.е. соответствующее мифологической логике, объяснение. Пожалуй, самым травматичным военным событием для русского сознания оказалась сдача Москвы – кошмар гибели в пожаре столицы как бы вернулся из времен степных нашествий, Смуты. Травма «снималась» включением мифологической логики. В соответствии с ней событие выглядело как своего рода супержертва во имя победы130130
Управляющий III Отделением Императорской канцелярии и начальник штаба корпуса жандармов граф А.Х. Бенкендорф вспоминал: «Довольно долго русское общество не желало признавать, что Москву сожгли сами русские: еще в начале 1813 г. большинство было убеждено, что московский пожар – дело рук французов. Но с течением времени… полностью изменило свой взгляд.., и французское вандальство превратилось в жертву, принесенную русским народом… для спасения отечества» (цит. по: 27, с. 283).
[Закрыть]. Кроме того, его отчасти компенсировала трактовка решающего сражения оборонительной войны как победоносного. Во время войны это сражение, как известно, разочаровало русских. Вот одно из свидетельств: «Бородинский бой, составляющий славу русского оружия, не принес никакой отрады; он не обратил неприятеля назад, а этого-то желало робкое чувство безопасности. Напротив, как последствием его было отступление наших войск, то страх более усилился… Последний способ к защите: генеральное сражение, было дано и не послужило к лучшему» (9, с. 173). Однако в течение всего ХIХ в. русские стремились переинтерпретировать это событие в безусловную для себя победу. И сейчас в мифологизированной истории 1812 г. Бородино предстает чем-то средним между выигрышем и «ничьей».
Ну, и конечно, все искупалось чудом Победы, религиозно-мистическая природа которой противилась, не поддавалась анализу. Классическую формулу этого «чуда» дал Пушкин в десятой главе «Евгения Онеги-на»: «Гроза двенадцатого года / Настала – кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима, иль русский Бог?» Кстати, здесь наш великий поэт, сам ставший мифом национальной культуре («наше всё»), явно позволил себе вольность, «назначив» героем народной войны немца и отодвинув так подходящего мифу Кутузова. Большинство современников судило иначе. «Неодобрение, даже ропот выражался на Барклая де Толли за отступление армий; его считали изменником, называли французом и утверждали, что сын его служит в армии Наполеона против нас, – свидетельствует житель г. Касимова Рязанской губ., заставший войну мальчиком. – Вот как верны были тогда слухи и мнения. Было всеобщее нетерпеливое желание… чтоб на место Барклая де Толли назначили русского генерала, и особенно смотрели, как на надежный щит, на Багратиона» (9, с. 173).
Тема Барклая как антигероя Отечественной – пожалуй, первое достаточно явное проявление особого механизма: активизации в массовой культуре в связи с войной мифологемы «внутреннего» (скрытого, тайного) врага – пособника внешнего (возникла из проработки культурой исторического опыта ига, Смуты). Так объяснялись поражения; им придавался исключительный характер (они не обусловлены самой логикой войны и потому неизбежны, а как бы противоречат ей), а вина за них списывалась с русских и переносилась на «чужих» – даже не внешних врагов, что было бы естественно, а на «своих чужих» (внутренних «немцев»). Такова, видимо, реакция как «низовой», народной, так и «элитарной» традиционалистской культуры на неоднородность социума – сословно-статусную, экономическую, культурную, этническую.
Но вернемся к разговору о победоносно-экспансионистской логике мифа «первой Отечественной». Речь – в реальной войне и историческом мифе – шла о двойной победе над завоевателем: на своей территории и на европейском («чужом», занятом врагом) пространстве. «Освободительный поход» русской армии 1813–1814 гг. остался в нашей национальной памяти как победоносно-героический и едва ли не романтический исторический эпизод. И не оттого (или не только оттого), что мы «владели» Европой, пытались решать ее судьбу, а потому, что этот опыт дал нам, русским, толчок к осмыслению собственного прошлого и настоящего, требовал «улучшения», преобразования себя. Однако нельзя игнорировать и тот факт, что история «первой Отечественной» как бы подтверждала мифологическую связь победы над внешним врагом (агрессором) и расширения территории Отечества. Одно неизбежно влекло за собой другое: пространственный рост/державное величие интерпретировалось в культуре как воздаяние за военные жертвы, уничтожение никем прежде не побежденного врага и освобождение порабощенных им народов.
И наконец, следует указать на еще одну связующую линию мифа и истории Отечественной. Тема русской жертвы и неоплатного долга <Запада>, ведущая в мифологическом сюжете нашествия/ига, соединилась в войне 1812 года и мифе о ней с темой превосходства над врагом, определявшей сюжет победы. Тема превосходства, столь необходимая для идентификационной полноценности образа русского – этого европейского «отстающего», «ученика» Европы, – впервые получила историческое обоснование в XVIII в. (благодаря военным победам Петра, Елизаветы, Екатерины). Но окончательно она подтвердилась историей 1812 г. Изгнание Наполеона и освобождение Европы давали русским повод думать, что их опыт, запечатленный в оригинальной культуре и общем прошлом, более весум и жизнеспособен, чем «европейский». Казалось, тем самым были дискредитированы не французские войска, а сами претензии Запада на лидерство/гегемонию/менторство. Война послужила «доказательством» глубинной правоты («правды») всего строя жизни русского народа131131
Не случайно, более того, закономерно, что «победа стала основой для официального утверждения легитимирующего мифа о правильности российской монархии и обеспеченного ею социального порядка» (6, с. 223).
[Закрыть]. Ощущение этого превосходства и этой правды легло в основу новой идентичности, культивировавшей русское – не воспеванием достоинств этноса, а прославлением русской имперскости как милитаристского и культурного проекта.
Война 1812 года, открывшая лучший для русских – XIX – век, указала наш путь «нациостроительства». В отличие от европейского, он милитарный, а не гражданский: через всеобщие сплочение, службу («не за страх, а за совесть», не прислуживаясь) и самоограничение перед лицом внешнего врага. Нация у нас выходит из горнила войны, пусть и священной; механизмы ее сплочения имеют милитарную природу. Поэтому интеграция любого рода в России, видимо, невозможна без отсылок к военному опыту, чрезвычайным ситуациям, без актуализации страха внешней агрессии и образа врага. Такой механизм сложился в момент рождения народа/государственности, закрепился в Смуту, сработал в начале XIX в. Однако специфика «первой Отечественной» была в том, что процесс национального самоопределения захватил прежде всего и в основном элиты.
Отечественная начала XIX в. была временем обретения Отечества «верхней», европеизированной субкультурой: появления у ее представителей национального чувства, горделивого осознания себя русскими и создания тем самым условий для роста из нее гражданского общества132132
В.О. Ключевский отмечал важную перемену, «совершившуюся в том поколении, которое сменило екатерининских вольнодумцев; веселая космополитическая сентиментальность отцов превратилась… в детях в патриотическую скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Ключевский называет это «настроением… поколения, которое сделало 14 декабря» (33, с. 420).
[Закрыть]. В 12-м году в России появилась национальная элита – еще до рождения нации. Это не просто особенность русского «нациостроения», но его изъян. Народ в войне получил лишь первое впечатление, первый опыт национального единения, который фактически не был отрефлектирован. Тогда еще не существовало массовых средств внесения этого опыта в народное сознание и его фиксации133133
Хотя попытки такого рода предпринимались уже во время войны. В «Сыне Отечества», например, для «обращения к простонародью» использовались возможности фольклорной речи и сатирических картинок. Военные истории «стилизовались под народные былины или сказания, сопровождались а-ля лубочными иллюстрациями» (6, с. 160, 161). Существенно, что в текстах о 1812 г. «простонародье» (крестьяне и городские низы) не просто стало «видимым», оно и олицетворяло «истинно, подлинно, природно русского», весь сражающийся русский народ. Так образованные «верхи» пытались «снять остроту социального непонимания, тлеющего внутри отечественной культуры и препятствующего порождению всенародного и всесословного единства». Образ народного героя, описанного в категориях крестьянской эстетики, являлся «манифестацией общей культурной идентичности «верхов» и «низов», «демонстрировал готовность элит общаться с социальными «иными» как с «себе подобными» (там же, с. 190, 195, 209). Правда, после войны, еще при Александре и особенно при Николае I, власть приостановила демократизацию памяти о ней (это, кстати, отличало Россию от Европы). Обобщенный образ героя войны был представлен, например, в Военной галерее Зимнего дворца – как священного воинства (там же, с. 220, 222, 223), своего рода сообщества избранных. Однако военное «послание» «верхов» о своей общности с народом получило живой и активный отклик «низовой» культуры. Так, в военном лубке, испытавшем после войны 1812 г. бурный расцвет, обыгрывались (в «опрощенной», доступной народу форме) те же значения, что и в «Сыне Отечества» – о «народной победе»; о том, что «русская культура выше дьявольского зла» и т.п. В массовой развлекательной культуре военным героем стал человек из народа («вооруженные кольями и вилами старостихи василисы и их дочери, деревенские мужики, старики и дети») (там же, с. 254, 258–260). На этой проекции исторической реальности базировались представления о войне 1812 года как о всенародном деле, возобладавшие в общественном сознании.
[Закрыть]. Возможности церковной проповеди и народного творчества были в этом смысле ограничены. Но главное – отсутствовали внутренняя готовность принять этот опыт, способность выработать на его основе национальное самосознание, которые даются просвещением, долгой культурной работой, а также практикой свободной самореализации, самоощущением свободного человека.
Тем не менее война вызвала важные изменения и в народном (крестьянском) мироощущении. 12-й год напитал новой живительной силой «старомосковскую» народную веру в царя – защитника и заступника/покровителя, укрепив традиционную ментальную основу отношений массы народонаселения и власти. Снимались сомнения в народном характере верховной власти, порожденные петровскими новациями, всем «дворянским» (иными словами, «антикрестьянским») XVIII в. Из священной войны царская власть вышла как бы очищенной от неправд, «исправленной», а потому служба и покорность ей получали высшее обоснование. Крестьянская Россия и царь вновь слились в народном мировоззрении. В победоносной Отечественной 1812 года – народная легитимация романовской империи; ею был поставлен крест на пугачевщине. Эта символическая основа властенародного единства, стабилизировавшая общественный порядок, стала разрушаться только в ходе тиктанического социального сдвига последней трети XIX – начала ХХ в.
Парадоксальным образом из Отечественной вышел также могильщик монархии (как оказалось, и империи), получивший в войне эмансипационный заряд, необходимый для самоопределения. С 12-го года начинается отсчет самостоятельного бытия элит, точнее их инобытия – они внутренне освободились от (породившей их когда-то) власти. Ощутив свою отдельность от власти, разделив в сознании ее и Отечество, сделав антивластность основой собственной идентичности, элиты (для начала ХХ в. уместно объединять их термином «интеллигенция», но при этом следует понимать, что это не только «отщепенцы» «общественники» и «художественники», но и административно-управленческая, бизнес, военная и т.п. элита) вступили на путь, который привел к Февралю 17-го. Первой вехой на этом пути была попытка антидворцового – не дворцового, заметьте – переворота декабристов (или антисамодержавная революция дворянской аристократии).
Рождение нового мира: от «войны империалистической» – к войне гражданской
XIX век для России во многом был определен Отечественной войной, но вовсе не исчерпывался ею. В символическом универсуме «развито́й империи» она не заняла того места, которое получила война 1941–1945 гг. в советском. Это свидетельствует о том, что Россия, вышедшая из 1812 г., не была сосредоточена исключительно на чрезвычайщине, военном интересе; зажила гражданской жизнью, занялась внутренним обустройством. Фактически век закончился для нее в 1914 г. – новой большой (европейской) войной. Сложись она по сценарию Отечественной, Россия имела все шансы выйти из нее гражданской нацией – одной из европейских. Но она вывалилась в Гражданскую войну – и до сих пор, считая ее проигранной, не желает о ней вспоминать. Первая мировая – наша забытая война. Кажется, что забвением и версией проигрыша прикрываются ущербность, «неправда» произошедшего, ощущаемые подсознательно.
Несмотря на патриотический подъем первых дней, Первая мировая изначально воспринималась народом как «непонятная» (за что, зачем воюем?). При этом, как указывают исследователи, в традиционном крестьянском сознании и в начале ХХ в. существовал сакрализованный «жертвенный» образ войны, что делало его восприимчивым к национал-патриотической идеологии (58, с. 417, 425, 433). В традиционном восприятии, в архетипах крестьянского сознания война прочитывалась с позиций жертвенного служения «Царю и Отечеству и святой нашей Руси». При этом согласие не жалеть «живота своего» в соответствии с традиционными представлениями о справедливом мироустройстве уравновешивалось ожиданием «забот» и «милостей», а главное – особой царской «награды» «за понесенные жертвы» («черного передела», по которому «вся земля» станет крестьянской) . В войне крестьяне-солдаты традиционно видели и «очищающее» начало: ведь интересы защиты Отечества требовали преодоления внутренней розни, восстановления социального единства, исправления нравственности (там же, с. 385, 433). Война представлялась временем возрождения и укрепления привычных, традиционных основ жизни, разрушавшихся модернизационными процессами. В войну, в идеале, сметались все «неправды», накопившиеся в эпоху мира. Критическое несовпадение ожиданий и военных реалий было одним из двигателей общей смуты, традиционалистской крестьянской революции.
Первая мировая оказалась «неправильной», с точки зрения мифологизированного сознания простого человека, войной, и закончилась она неправильно. В ней сработал «закон» перерастания неудачной Отечественной в социальную. В этом смысле она перекликается с историей начала XVII в.: тогда Смуту, расстроившую весь русский мир, «прикончила» удача Отечественной (в данном случае определение, конечно, условно); в начале ХХ в. Отечественная не удалась и началась Гражданская. Заметим, и в ней был элемент отечественной оборонительной, что придавало особый смысл ленинскому призыву «Все на защиту <социалистического> Отечества!»134134
Особое значение в этом смысле имела советско-польская война 1920 г. Польское вторжение на Украину вызвало в Советской России взрыв патриотизма. Ленинская партия, преследовавшая и высмеивавшая лозунг «патриотизма» как буржуазный, взяла его на вооружение весной 1920 г. 29 апреля ЦК РКП(б) обратился с призывом защищать Советскую Республику не только к «рабочим и крестьянам», но и к «уважаемым гражданам России». На некоторое время было воскрешено понятие – Россия, которое революция объявила уничтоженным. ЦК напомнил в Обращении о вековой польско-русской вражде, о других вторжениях – 1612, 1812, 1914 гг. и выразил уверенность, что «уважаемые граждане» не позволят польским панам навязать свою волю русскому народу (8, с. 89). «Патриотическая тревога» впервые объединила красных и белых – родина была в опасности.
[Закрыть]. Но борьба с интервенцией не выделилась и не стала смыслоопределяющей в событиях 1918–1922 гг., а логично вписалась в социальную войну. Связь же «белых» с интервентами послужила веским основанием для того, чтобы записать их во враги. В большевистско-народной интерпретации они даже дважды враги: «классовые» и «пособники» внешнего врага.
И все же главный вопрос – почему в 1914 г. не удалась Отечественная? – до сих пор остается без ответа. Ведь тогда уже появились технологии и стратегии массового информирования, велась – и весьма активно – соответствующая пропаганда. Кстати, главным в пропагандистской кампании было определение, данное войне, – Отечественная. Это вносило (или должно было внести) определенный смысл в происходящее, создавало массовый настрой на жертвенную защиту Отечества. Не случайно уже в первые военные дни в прессе появились отсылки к текстам о войне 1812 года, в значительной степени мифологизированным (дело, напомню, облегчалось тем, что буквально накануне Первой мировой страна отметила 100-летний юбилей «первой Отечественной»).
На мой взгляд, причины неудачи среди прочего следует искать в мифологической области, в особенностях массового восприятия той войны (как сознательного, так и интуитивного). Статус Отечественной в массовом российском сознании не могли получить (и не получали) войны, в которых отсутствовали мифологические сюжетные линии – прежде всего сюжет нашествия, дававший ясное ощущение того, что наступила «решительная минута для Отечества» (формула начала XIX в.). Этого сюжета не было ни в большой войне 1914 г., ни в последующих «маленьких» войнах ХХ в. (начиная с финской и заканчивая афганской). Видимо, во многом поэтому они не стали для нас победоносными, о них почти не помнят. Без нашествия не возникало ощущения справедливости, а значит моральной оправданности войны, чрезвычайно важного для массового сознания. В отсутствии убежденности в правде войны не возникало то высокое напряжение, которое способно разрядиться в героическо-жертвенном, наступательном порыве – «убей врага!»; «все для фронта, все для победы!». Без этого не могла «заработать» магическая формула победоносной народной войны за Отечество: «Наше дело правое; враг будет разбит; победа будет за нами!».
В Феврале 17-го с уничтожением царской власти, которая для солдата-крестьянина только и делала осмысленной военную службу, Первая мировая для народа России закончилась. Все остальное – история про «разложение фронта» (с нее стартовал у нас «век масс»). На первый план для солдатско-рабоче-крестьянской страны вышла другая, невоенная проблема – социальной справедливости, чрезвычайно важная для бедного социума с традиционно иерархическим устройством135135
Под социальной справедливостью крестьянско-солдатские массы понимали всеобщее социальное (без статусов и иерархий) и имущественное равенство, «равномерное» распределение государством материальных благ, ограничение государственного насилия (в том числе податного/налогового бремени) над неимущим большинством, репрессирование государством имущего меньшинства (и справедливое, т.е. поровну, перераспределение его «наследия»), снятие с человека внешних ограничений и обязательств (прежде всего формально-юридических), его «вольную» самореализацию (см.: 30, с. 104–129, 195, 198, 204–205). В революции и гражданской войне носители традиционного сознания пытались реализовать эгалитарный идеал. Причем субъектом такой реализации считали государство/власть, персонифицированных в «добром» начальстве (категория, скорее, воображаемая – из разряда вечно ожидаемого). Оно противопоставлялось начальству «злому», выстраивавшему несправедливое общество (см. об этом: там же, с. 125). «Злым» после ухода самодержавия и ликвидации его репрессивно-принудительного аппарата стало начальство царских времен – его громили. «Добрым» считали новое, большевистское – пока оно одобряло погром. Но и потом большевики, особенно при Сталине, делали много такого, что давало простому народу основание не только проклинать их как «людоедов», но и воспевать за справедливое устроение мира.
[Закрыть]. Народная – городская и общинная – революция была попыткой через социальную войну, т.е. милитарным способом, чрезвычайными методами, решить гражданскую проблему. И вот здесь, казалось, все удалось: в гражданской красно-зеленые одолели белых – своих «немцев», «буржуев», «кровопийцев»136136
К концу Первой мировой главным врагом для солдатско-крестьянской массы стали внутренний «немец», «начальство», «офицер», «спекулянт», «тыловой» (даже свой, деревенский). В течение 1917 г. (в том числе с помощью большевиков) все враждебные крестьянину/солдату силы персонифицировались в образе «буржуя»/барина (см.: 58, с. 420, 434–439, 480–485). Апелляция к внутреннему «врагу» и его конкретизация («враги» – все, кто персонифицирует «старый мир») явились средством социальной мобилизации, двигателем Гражданской войны.
[Закрыть]. Произошла своеобразная подмена одной победы другой: народ не победил внешнего врага в «империалистической», но одержал верх над внутренним в гражданской. И способствовал утверждению у власти в стране (т.е. над собою) тех, кто на уровне государственной политики оправдал уничтожение этого внутреннего и организовал на борьбу с ним, – большевиков.
Первоисточником нашего массового (т.е. советского) общества оказались две войны – неудавшаяся Отечественная и Гражданская. А одним из решающих обстоятельств его формирования стало следующее: тема врага сплелась в нем с проблемной социальной справедливости. Уничтожение темы, т.е. не только реального врага, но и самой «почвы» для его появления, понималось как условие решения проблемы. Причем враг определялся по принципу не классовой, а социально-культурной чуждости. Этот образ мыслей (и тип «мироделания») торжествовал в Гражданскую войну, что понятно – на то она и гражданская. Но и с ее окончанием не был преодолен, потому что не только не преодолевался, но пестовался, поощрялся, воспитывался. И тем больше определял собой символическую политику, советскую пропаганду, чем понятнее становилось (всем – и массам, и новой власти), что в социальной практике он не работает.
В мирные 1920-е эйфория от победы над «классовым» врагом (иначе говоря, от удавшейся Гражданской) сменилась непониманием, разочарованием, апатией – общества социальной справедливости с его (врага) уничтожением не возникло (см. об этом, например: 30, с. 118–123). Социум 20-х годов отличали политическая апатия, задавленность нуждой, усталость от ожидания перемен. Он (в массе своей) не принимал обозначившегося социального расслоения (появления «новых советских»), остро реагировал на экономические кризисы и «болезни» нэпа (например, безработицу) (там же, с. 134). То было время массовых сомнений: а что, если ошиблись? Может, следовало оставить все, как было? Заметьте, такие сомнения настигли нас и в 1990-е – результатом стала массовая ностальгия по советскому. Совсем не случайно в 20-е уцелевшие «враги» за границами советской республики заговорили о возможностях реставрации имперского перерождения режима и т.п.
«Коренной перелом»: от перманентной гражданской – к Отечественной
Не поставь Советская власть предел этим сомнениям, ее не стало бы – в прежнем виде, в прежних лицах. Она и поставила, предложив конкретную программу построения идеального мира (индустриализация– коллективизация–культурная революция, но не по-ленински, а по-сталински137137
Сталин действовал в принципиально иных, чем Ленин, условиях (но он, безусловно, «Ленин сегодня» – и в этом мера ленинской ответственности за то, что произошло в стране после него). К концу 20-х завершилась «революция во власти»: если сталинский «поворот» («отступление» и т.п.) и можно считать «Термидором», то только по отношению к «элитам». Послеленинская советская власть – ее конструкция, лица, стратегия, порождаемая ею атмосфера – определилась. И пошла в наступление на социум, «взяв» его в «переделку». Социальная революция продолжилась. В ее ходе примитивными (т.е. насильственными) методами менялась традиционная (и очень устойчивая) структура социальности. Коллективизацией был сломан хребет крестьянству – как главной силе революции 1917– 1918 гг. и традиционалистскому большинству общества. (Знаменательно, что, работая над «Кратким курсом», Сталин определил коллективизацию как «революцию сверху»: «Это был глубочайший революционный переворот, скачок от старого качественного состояния общества в новое качественное состояние, равнозначный по своим последствиям революционному перевороту в Октябре 1917 г.» (цит. по: 43, с. 254).) Кроме того, она служила необходимым условием и источником индустриализации. Индустриализация – помимо того что была милитарной, ограниченной в социально-производительном отношении – имела характер «штурмовой», т.е. чрезвычайный, чрезмерный, обеспечивалась преимущественно принудительным (в том числе рабским) трудом. Культурная же революция предполагала не только полную замену «культурного общественного элемента», но и снабжение «новых спецов» идеологически профильтрованным, усеченным и упрощенным, «правильным» (с точки зрения режима) знанием. Советская интеллигенция должна была стать безопасной для власти (режимной). В ходе такой «переделки» родился советский, т.е. смоделированный сталинской властью и на нее центрированный, человек.
[Закрыть]), заговорив об истории (своими, конечно, словами138138
Существо этих «разговоров» очень точно определили М. Геллер и А. Некрич: «История в наивысшей степени сознательно и последовательно была поставлена на службу власти. После Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства, национализируются все области жизни. И прежде всего – память, история». Обращение к прошлому в 1930-е было подчинено очередным властным задачам – укоренения в данном социальном и геополитическом пространстве и его «переработки». Сталин, подчеркивают Геллер и Некрич, «не может – возможно, и не хочет – быть наследником революции, разрушающей стихии, в то время когда он – строит. Он выбирает себе поэтому новую линию предков – русских князей и царей – собирателей и строителей могучего государства. После 1934 г. Сталин, а за ним все советские историки, перестают говорить о том, что Россию «все били». Начинают говорить о том, что она всех била… История России, которая после 1917 г. пересматривалась с точки зрения классовой борьбы, начинает пересматриваться с точки зрения борьбы за создание сильного государства. В центре остается народ: но у Покровского он хотел освобождения, у Сталина он хочет сильной власти» (8, с. 5, 260–261). При этом эксплуатировалась внеисторичность массового, т.е. по преимуществу крестьянского сознания.
[Закрыть]) и вернувшись к вражеской теме. Идеал в общих чертах обрисовывал перспективы, в рамках исторического проекта моделировалось прошлое, а враг стал настоящим для каждого советского человека. Теперь вражеская тема предлагалась не как вре́менная, а как местная: гражданская – на все времена. Объяснение было вполне доступно и приемлемо для масс. Цели не достигли не потому, что выбрали неверный путь (вопрос о недостижимости абсолюта и жизненности относительностей – простенький, в общем, вопросик – не ставился вовсе), а потому, что недоработали по средствам: не добили. Массы, в общем-то, и сами так думали(см., например: 30, с. 106– 109, 205, 208–209, 221–223, 228–229, 262–264)139139
Интересно, что в ходе революции и Гражданской войны со всей очевидностью выявилось (помимо прочих) глубочайшее, антагонистическое противоречие между городом и деревней, существовавшее в массовом сознании (30, с. 126–128). Его основа – подозрения в преимуществах и «незаслуженных» выгодах, т.е. в неравномерном распределении тягот и благ между горожанами (рабочими) и крестьянством, что противоречило традиционному идеалу социальной справедливости. Поэтому «город» согласился на коллективизацию и стал инструментом уничтожения крестьянства, а крестьяне, массово пойдя в города (став «ходоками»/«беженцами»), «задавили» «городских», уничтожив стиль, нормы, структуры дореволюционной городской жизни. Следствием этого стала, как точно заметил А.С. Ахиезер, не урбанизация и «интеллектуализация деревни», а «деревенизация» города (4, с. 577).
[Закрыть], только не подозревали, кого им теперь назначат во враги.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































