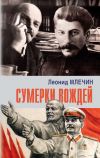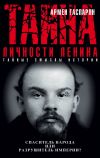Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
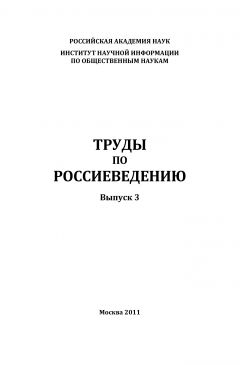
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
21. Население России в XX веке: Исторические очерки / Под ред. Жиромской В.Б. – M.: РОССПЭН, 2000. – Т. 1. – 463 с.
22. Очерки истории Саратовского Поволжья (1894–1917) / Под ред. И.В. Пороха. – Саратов: СГУ-ИИЦ АО «Заволжье», 1995. – Т. 2 – Ч. 1. – 318 с.; Т. 2. – Ч. 2. – 431 с.
23. Посадский A.В. Социально-политические интересы крестьянства и их проявления в 1914–1921 гг. (На материалах Саратовского Поволжья): Дис. … канд. ист. наук. – Саратов, 1997. – 222 с.
24. Шацилло K.Ф. Русский либерализм в конце XIX – начале XX в. // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX века: Сб. ст. – СПб., 1999. – С. 285–296.
25. Шелохаев В.В. Национальные интересы России и конфронтационная борьба между властью и обществом в начале ХХ века // Проблемы политической и экономической истории России: Сб. ст. – M., 1998. – С. 23–59.
26. Brandes D. Die Rußlanddeutschen und der Staat // Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland / Hrsg. Stricker G. – B., 1997. – S. 101–110.
27. Brandes D. Von den Zaren adoptiert: Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurussland und Bessarabien, 1751–1914. – München: R. Olden-Bourg Verlag, 1993. – 549 S.
28. Hilfer M. Die deutschen Kolonien in Rußland und die neueste russische Agrarreform // Deutsche Monatsschrift für Russland. – Riga, 1914. – N 56. – S. 439–444.
29. Janssen S. Vom Zarenreich in den amerikanischen Westen: Russlanddeutsche Immigranten in North Dakota und Nebraska (1870–1928) // Deutsche in Russland / Hrsg. von Hans Rothe. – Köln, 1996. – S. 87–101.
30. Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung – Geschichte – Zerfall. – München: Verlag C.H.Beck, 1993. – 395 S.
31. Kloberdanz T.J. Die Auswanderung nach Amerika und ihre Auswirkung auf Identität und Weltanschauung der Wolgadeutschen in Rußland // Zwischen Reform und Revolution: die Deutschen an der Wolga, 1870–1917 / Hrsg. von Dittmar Dahlmann – Ralph Tuchtenhagen. – Essen, 1994. – S. 172–189.
32. Long J.W. From privileged to dispossessed: The Volga Germans, 1860–1917. – Lincoln; London: University of Nebraska Press, 1988. – 337 p.
33. Neutatz D. «Musterwirte»: Zum Selbstbild der Schwarzmeerdeutschen, insbesondere der Mennoniten // Die Rußlanddeutschen in Rußland und Deutschland: Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit / Hrsg. Barbašina E. Detlef Brandes, Dietmar Neutatz. – Essen, 1999. – S. 73–83.
34. Neutatz D. Bäuerliche Lebenswelten des späten Zarenreiches im Vergleich // Gemeinsam getrennt. Bäuerliche Lebenswelten in multiethnischen Regionen des späten Zarenreiches: Am Beispiel des Schwarzmeer– und des Wolgagebietes / Hrsg. Herdt V., Neutatz D. – Lüneburg, 2010. – S. 7–24.
35. Raleigh D.J. Revolution on the Volga: 1917 in Saratov. – Ithaca (N.Y.): Cornell univ. press, 1986. – 373 p.
36. Rath G. Die Rußlanddeutschen in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika // Heimatbuch der Deutschen aus Russland. – Stuttgart, 1963. – S. 22–55.
37. Schippan M., Striegnitz S. Wolgadeutsche: Geschichte und Gegenwart. – B.: Dietz, 1992. – 240 S.
38. Schmidt C. Die Revolution von 1905 in den deutschen Kolonien an der Wolga // Freie Flur. Deutscher Bauernkalender für 1927. – Pokrovsk. – S. 21–22.
39. Schmidt D. Studien über die Geschichte der Wolgadeutschen. – Teil 1: Seit der Einwanderung bis zum imperialistischen Weltkriege. – Pokrowsk; Moskau: Charkow, 1930. – 386 S.
40. Stojentin M. von. Ein deutscher Stamm auf fremder Erde // Landwirtschaftliche Wochenschrift für Pommern. – Stettin, 1908. – S. 19–31.
41. Stumpp K. Das Rußlanddeutschtum in Übersee // Heimatbuch der Deutschen aus Russland. – Stuttgart, 1963. – S. 5–21.
Великая Отечественная война: История и память
Отечественная война в русской культуре
И.И. Глебова
Посвящаю моему деду Георгию Ильичу Глебову, гвардии подполковнику, Герою Советского Союза (за форсирование Днепра)
Этот текст посвящен не истории войны, а ее месту в национальном сознании. Мне хотелось бы понять, как память общества реагирует на важнейшие исторические события, какое символическое значение в них вкладывает. В работе предпринимается попытка выявления роли мифа войны, одного из определяющих для национальной культуры, в процессах конструирования легитимности современного режима и идентичности российского общества.
Механизмы постсоветской памяти: редукция и оправдание
Когда-то Н.М. Карамзин написал историю России, сведя ее к истории государства, власти. Этот подход утвердился в качестве господствующего в науке и общественном сознании. Известно, что в XIX в. при всем разнообразии мнений лидировала государственно-юридическая школа, где по преимуществу анализировались властные институты, но не история общества104104
Ею занимались славянофилы и некоторые историки, но сделать ее мейнстримом науки и общественного сознания не удалось.
[Закрыть].
В постсоветское время сложилась своя конструкция ближайшей, т.е. советской, истории, тоже связанная с «усечением» прошлого. Это достаточно очевидно сегодня, в год не только 70-летия начала войны, но и 20-летия распада СССР и возникновения нового государственного образования – РФ. При анализе исторического сознания российского общества и «исторической политики» власти105105
«Историческая политика» – многозначный термин, употребляемый в разных значениях. Некоторые исследователи видят в исторической политике «набор практик, с помощью которых отдельные политические силы, <используя административные и финансовые ресурсы государства>, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие», отличающихся в посткоммунистических обществах особым своеобразием» (44, с. 10). Существует другая точка зрения на историческую политику: ее предлагают не сводить к официозной трактовке истории, но трактовать в широком смысле – как процесс «формирования общественно значимых исторических образов и образов идентичности… которые реализуются в ритуалах и дискурсе, претерпевая изменения со сменой поколений или по мере эволюции социальной среды» (66, с. 90). В этом значении «историческая политика» практически неразличима с «политикой памяти» – так называют практики общественного бытования истории. Говоря об исторической политике, я имею в виду не «политику памяти» вообще и не использование истории в политических целях, а более частный случай: государственную политику «формирования» общественного исторического сознания и коллективной памяти, государственную пропаганду официальной версии истории, влияние государства на политику памяти и исторические исследования с целью собственной легитимации и укрепления господства.
[Закрыть] становится очевидным, что итог в основном таков: история сведена к советской (досоветская, русская «интересна» по-прежнему как «пролог» к чему-то действительно важному, касающемуся впрямую ныне живущих; тот же Александр Невский, победитель шведов и псов-рыцарей, любим как герой именно сталинской эпохи, эдакий маршал–победитель германцев…), последняя же редуцирована к Великой Отечественной войне. Это, конечно, не значит, что общество и историки забыли все остальное. Но война, безусловно, стала главным историческим событием, на основе которого выстраиваются идентичность и легитимность постсоветского строя. В центре внимания общества и власти находятся те проблемы, которые связаны с войной (точнее, связываются войной) и ею же оправдываются.
К войне, как оказалось, можно «привязать» если не всё, то очень многое в советской истории (точнее, в массовых о ней представлениях – что и составляет историю в массовом сознании, в массовой культуре). Вторая установочная дата постсоветского календаря – 12 апреля, полет Ю. Гагарина – тоже имеет отношение к войне. Ведь именно в результате победоносного окончания Второй мировой СССР стал сверхдержавой, а космос еще одна (своего рода побочная) победа – в гонке вооружений, в холодной войне. С Гагариным связаны и другие космические достижения – прежде всего запуск спутников.
Мифом войны очень логично оправдываются, говоря принятым в СССР и всем еще (или опять?) привычным языком, «ошибки» и «недостатки» советской системы, т.е. травматические моменты советской истории. Так, даже неосталинисты (нынешние сторонники Сталина) признают, что в СССР были репрессии, но вводят их в контекст подготовки к войне. Массовый психоз разоблачения «пятой колонны», «предателей» в «рядах строителей социализма» объясняется происками внешних врагов и угрозой нападения. В конечном счете оказывается, что так страна готовилась к войне.
С той же точки зрения оценивается в официально-массовой истории и пакт Молотова–Риббентропа; благодаря ему удалось отодвинуть границы, выиграть время для подготовки к войне. В ту же логику встраиваются не только индустриализация, но и коллективизация: без нее СССР не выиграл бы войны – индивидуальный крестьянин поприжал бы хлеб, как он это делал в 1916–1917 гг. и 1920-е годы, что не позволило бы наладить снабжение армии. Да и послевоенное героическое восстановление тоже «идет» из войны. Тяжелая жизнь, голод (который, кстати, был и в Европе), даже послевоенные репрессии объясняются ее последствиями.
Так, через урезание, упрощение и оправдание советской истории новым режимом выстраивается единая историческая логика, определенная победой в войне. Война является инструментом реабилитации советской истории, ее очищения от всего «ошибочного», «вредного», стыдного и преступного. Благодаря ей можно легитимировать укорененность постсоветского порядка в советском, положительно интерпретировать и даже героизировать их связь. В этом остро нуждаются и постсоветский человек, ощущающий именно там корни своей идентичности, и постсоветская власть, видящая в советском основания своей легитимности. Через народный подвиг конструируется преемственность двух режимов.
И здесь возникает целая серия вопросов: почему постсоветская Россия в качестве основания идентификации и легитимации выбрала именно войну? По какой причине наши массовые сознание и культура оказались так привязаны к военному проекту? Какая версия войны оказалась органична постсоветизму? Казалось бы, на эти вопросы уже даны убедительные ответы (см.: 11, 13, 17, 18, 22, 39, 40 и др.). По-моему, однако, здесь еще есть о чем говорить.
Опыт истории – миф национальной культуры
Примем за основу постсоветский подход – не его оправдательную логику, но своего рода «завороженность» войной, центрированность на Отечественную. Действительно, «через» войну, ее историю, мифологию, память о ней многое можно понять – и не только в советской эпохе. Это один из «ключей» к нашей истории, культуре, порожденному ими человеку («элитарному» и «массовому»).
Употребление в связи с темой Отечественной войны термина «миф», конечно, требует пояснения. Он не используется мною в негативном значении – для того, чтобы «поставить под сомнение величие победы советского народа…» и т.п., как возопят (и, кстати, вопят) нештатные сотрудники Комиссии о фальсификации и заинтересованная общественность106106
Одной из причин появления этого текста было удивление тем, какую власть над умами многих наших людей имеют слова «миф», «фальсификатор» – в особенности в отношении Отечественной войны.
[Закрыть]. Привлекая этот термин для описания образа войны, утвердившегося в советско-постсоветском общественном сознании, я хотела бы подчеркнуть следующее. Историческое событие вообще не «укладывается» в массовое сознание как последовательная сумма фактов. При усвоении оно неизбежно мифологизируется, причем не только вследствие воздействия пропагандистских, легитимационно-социализирующих инструментов, но и под влиянием работы механизмов национальной культуры. Чем масштабнее событие, чем больше оно будоражит глубины данного типа культуры, тем вернее подвергнется мифологизирующей «проработке».
В ходе такой «проработки» не то чтобы страдает (искажается) фактологическая канва (историческая «действительность»); она вообще становится несущественной. Факт рожден определенным временем, вводит в него и с ним связан; миф темпорально не фиксирован – это способ самоосуществления, существования культуры107107
Миф – познавательный механизм культуры, обладающий объяснительной, регулятивной и психотерапевтической функциями. Под мифом понимается «один из древнейших, опробованных временем типов социального кодирования, свойственный не только традиционному обществу, но и всем этапам развития человеческой цивилизации. Мифы «живут» и «вымирают», но и заново возникают, и степень их значимости все время меняется» (1, с. 10–11). Начало изучения мифа и мифического (мифологического) сознания было положено трудами Э. Дюркгейма, А. Юбера, М. Мосса; классический статус ему придали работы М. Элиаде, Г. Беккера, С. Брэндона и др. Заметный вклад в развитие темы внесли российские авторы – Е. Мелетинский, С. Аверинцев, В. Иванов, С. Токарев, В. Топоров и др.
[Закрыть]. Миф строится на фоне исторического факта и в связи с ним, но «вокруг него» нет времени – он выводится за временные рамки, ставится над временем. Миф больше говорит об определенностях культуры, чем о конкретике события, о метаморфозах массового сознания, чем о ходе истории. Миф лишает событие временно́й адекватности, но обнаруживает в нем смысл, адекватный национальной ментальности, национальной культуре. Поэтому воспринимать миф национальной культуры в значении фальсификации исторического события могут люди или совершенно неподготовленные (непросвещенные на этот счет), или политически ангажированные и идеологизированные.
Здесь уместно указать на разницу в отношении к мифу историка и этнолога (или антрополога). «Для историка мифологический образ исторического события является упрощающей действительность абстракцией. Для антрополога такой образ, безотносительно к тому, что произошло на самом деле, обладает собственной ценностью. Этнолога интересует не то, соответствует ли миф действительности, а то, как мифологические верования регулируют поведение человека, определяют собой мораль, социальные институты, формы общественной жизни» (62, с. 40–41). Для меня предпочтительна именно эта точка зрения на миф, эта исследовательская перспектива. Причем здесь мифология важна даже не сама по себе, а в ее отношении к человеку, культурной традиции. Этот подход разрабатывал один из классиков мировой этнологии ХХ в. Б. Малиновский: «Мы должны изучать миф в его влиянии на жизнь людей. На языке антропологии это означает, что миф или священная история определяются своей функцией. Это та история, которая излагается для того, чтобы утвердить веру… засвидетельствовать прецеденты образа и ритуала или увековечить образцы морального или религиозного поведения» (42, с. 281).
Исторический миф есть отражение национальной истории в национальной культуре. Он рождается из переработанного культурой исторического опыта, а актуализируется в обстоятельствах, как-то этому опыту созвучных. Важнейшим для России оказался военный опыт; она по существу милитарная страна. И дело здесь не в частых войнах – в конце концов, воевали все и всегда. У нас социальная ткань, сама конструкция социальности во многом созданы войной, выросли из военных нужд, в удовлетворение военных потребностей (см. об этом: 34, 35)108108
Милитаризация, в интерпретации И.М. Клямкина, «это выстраивание не только военной, но и мирной повседневности по военному образцу, это насаждение определенного образа жизни» (41, с. 275). Здесь важно учитывать следующий момент, на который указал при обсуждении концепции Клямкина А. Пелипенко: «Милитаристская модель общества присуща не только России. Первичный и наиболее глубокий пласт соответствующих ментально-культурных установок восходит к очень древним и универсальным историческим этапам. И эти установки впоследствии уже не исчезают, сохраняясь во всех культурах». Из этих установок рождался в культуре соответствующий мифоритуальный комплекс, главными компонентами которого являлись: образ врага («существа, самим своим существованием отрицающего единственно правильный миропорядок»), культ победы (она «отмечает точку в мифическом времени, связанную с сакральным обновлением космоса»), идентификация человека (мужчины) как воина. На переходе от архаики к цивилизации окончательно оформились универсальные функции этого комплекса: «консолидация социума; самоопределение (идентификация) по отношению к врагу (иному); мобилизация культурного ресурса» (41, с. 298–299). Это, так сказать, исходная база для размышлений. Далее, обращаясь к России, следует понять, что консервирует «милитаристские» установки в культуре; более того, обеспечивает им доминирующее положение, в результате чего социальность и система управления строятся в соответствии с ними. Это и делает И.М. Клямкин. Моя задача – выявить специфику военного мифоритуального комплекса русской культуры: его «статус», характер организации, назначение, механизмы актуализации.
[Закрыть]. Милитаризации подверглось сознание – и элит, и народа; милитарность – родовая черта ментальности «модального» русского человека.
В течение столетий мирная жизнь в России переживалась как короткая межвоенная передышка; гражданские отношения отягощала органика войны – безразличие, жестокость, даже безжалостность людей по отношению друг к другу. Об этом – розановское: «В России так же жалеют человека, как трамвай жалеет человека, через которого он переехал» (53); отсюда – сталинское: «Незаменимых у нас нет»109109
В данном случае несущественно, принадлежит ли высказывание Сталину или приписывается ему. Важно то, что оно прочно вошло в нашу речь, в наше сознание. А это значит, что советский человек адекватно понимал политику партии, ее ценностные ориентиры.
[Закрыть]. И царство, и империю отличали не то чтобы талант к войне (мы вовсе не так часто, как представляется нашему милитаризованному сознанию, побеждали), но неспособность избавиться от психологии войны с ее страхом врага и завороженностью им, потребностью доминировать и самоутверждаться силой, а также какое-то странное отсутствие таланта к миру, к осмысленной организации жизни нации в мирное время. В государстве трудящихся все это приняло крайние, опасные с точки зрения национального самосохранения формы. Оно жило войной, даже когда не воевало; вся его история есть перманентная война (гражданская: с врагом явным, а затем «тайным» – мировая – холодная); мир строился на остаточные средства – те, что не съела война; тяготы быта казались не такими уж безнадежными в проекции архетипической советской формулы «только бы не было войны».
В процессе освоения такого исторического опыта русская культура выработала один из установочных своих мифов – миф <священной (жертвенной, справедливой, победоносной)> войны110110
Этот термин встречается в некоторых современных исследованиях, посвященных Отечественной войне. Немецкий историк И. Хёслер, например, отмечает: «Наряду с мифом об основании Советского Союза вторым столпом легитимности стал миф о «священной войне» (63, с. 90). Российский исследователь И. Кукулин пишет: «Война стала легитимирующим “мифом основания” – она-то и должна была обосновывать советскую идентичность» (36, с. 333). С конца 1980-х годов широко употребимым стало понятие «государственный миф о войне» – это основополагающий элемент советской исторической мифологии, подменявшей историю (47). Однако это культурное явление связывается только с войной 1941–1945 гг.; оно лишено исторической перспективы и соответствующей исследовательской проработки.
[Закрыть]. Он зафиксирован как в народно-фольклорной, устной и письменной, так и в элитарной, церковно-государственной и интеллектуально-художественной традициях. Основные функции мифа – идентификационная и интеграционная, «нациопорождающая». Это миф национального единства, единения власти и народа во имя высшей цели – защиты Отечества. Под данную мифом архетипическую модель войны народным сознанием подверстывались (и верстаются теперь) реальные войны. Миф ориентирует на освященный традицией образец – то дулжное, чему подобало бы существовать. Его смысловая ткань чрезвычайно сложна, что предполагает разнообразие прочтений.
Война в мифе не то чтобы не осуждается, но предстает неким естественным состоянием – по крайней мере столь же естественным, сколь мир. Более того, война обеспечивает мир, является его условием. При этом речь идет вовсе не о той воинствующей милитарности, которая бросала в грабительско-завоевательные походы дружины викингов или орды монгол. Война ради войны, военное «молодечество» как бунт/бурление молодой, не находящей себе иного применения силы – все это неорганично русской культуре. Возможно, поэтому в ней нет воинственно-гламурного культа рыцарства, но существует былинный культ богатырей – защитников рубежей Отечества, охраняющих/сберегающих русскую землю. Война в русской культурной традиции – не нападение, а оборона: отражение внешней агрессии, противостояние врагу, персонифицирующему мировое Зло («злой вражеской силе», «поганым», «воинству антихристову» из былин, сказок, летописных историй). Миф войны внутренне мотивирован, если угодно, не избытком силы, а ощущением слабости, уязвимости.
Такой тип освоения опыта войны обусловлен своеобразием истории и географии и связанными с ними особенностями культуры. Россия как государственная и культурно-историческая единица – это прежде всего территория (измерять мощь государства в километрах – типично русский алгоритм). Она мыслит себя пространственными категориями; «выстраивалась», организовывалась в и для освоения пространства. Об этом написано так много, что нет необходимости пояснять. Но география этого пространства явно не отвечала требованиям безопасности; исторически данная русским для колонизации территория открыта, не защищена естественными преградами. Землю, пригодную для жизни, столетиями приходилось отвоевывать у природы или отстаивать в противостоянии с легко проникавшими сюда завоевателями.
История о «начале» русской земли – это история о постоянном вторжении кочевников, о бесконечных волнах степных нашествий. Народ, живший на этой территории, очень долго был вовсе не завоевателем, а жертвой геополитических обстоятельств. Внешняя уязвимость, страх врага, напряжение от постоянного ожидания нападения компенсировались в мифе оборонительной войны. (Это вполне логичная находка доминирующего у нас типа сознания – военно-оборонного.) В том понимании, которое свойственно русской культуре, оправдана и справедлива именно она, а не внешняя агрессия. Правда, за которой сила, а значит, и Божественное покровительство/заступничество – на стороне тех, кто обороняет родную землю, защищает Отечество. Как бы ни был силен враг, в логике мифа он обречен – за ним нет Правды.
Истоки, драматургия и основные смыслообразы мифа
Миф оборонительной войны вырос из негативного опыта и имел прежде всего компенсаторную функцию, гася высокую тревожность русской культуры. Начальный опыт, переработанный в миф, получен из постоянных столкновений со степными кочевниками. Его сердцевина – нашествие татаромонгол, пожалуй, самое травматическое для древней и средневековой истории нашей страны событие. Именно в нем источник военного мифа; опыт иноземного нашествия и ига определил его сценарий.
Прежде чем описать мифологический сценарий, следует сделать важное предварительное замечание. Миф священной оборонительной войны складывается вовсе не в момент нашествия. Напротив, сам образ этого народного бедствия, созданный в современной ему летописной литературе, полностью противоречит мифологии111111
По наблюдениям Г. Подскальски, В.В. Каргалова и В.Н. Рудакова, «в описаниях монгольского нашествия… в первые полтора века после Батыева нашествия в летописании… идеальной фигурой был вовсе не воин, “<не князь-защитник>”, сражающийся с поработителями, а смиренный страдалец Иов, само имя которого значит “угнетенный, враждебно преследуемый”». Основные темы летописных текстов, появившихся во времена установления ига, – отчаяние, «страх и трепет», покорность перед Божьими казнями (15, с. 250, 168, 169), но не борьба, сопротивление, оборонничество.
[Закрыть]. Суть традиционной для русской публицистики XIII – первой половины XIV в. концепции ига, восходящей к библейской Книге пророка Даниила, так толкуется современными исследователями: «Тяжелое наказание, ниспосланное свыше за согрешения Руси», предполагавшее «покорность» «беззаконному царю» как правителю, но «стойкость в защите своей веры» (15, с. 163, 269). Противостояние иноземцам рассматривалось как греховное и потому заведомо обреченное дело; христианину предлагались смиренное принятие «Божией кары» и покаяние (15, с. 168, 180). Мученическая смерть, а вовсе не сопротивление «поганым», по версии современников событий 1237–1242 гг., обеспечивала спасение. Такой настрой оборонявшихся был одной из причин неожиданно быстрого разгрома татарами Руси. И в то же время таково объяснение неспособности противостоять «поганым», найденное современниками и зафиксированное в культуре.
Единственное исключение из «пораженческой» традиции – южнорусский Ипатьевский летописный свод, где «борьба с ордынцами» <«безбожными»> выглядит как «наиболее предпочтительный способ поведения» (15, с. 151). Типичному случаю «непротивления» (или слабого, недостаточного, заранее «обреченного» сопротивления) – взятию татаро-монголами Владимира-на-Клязьме – южнорусский летописец противопоставил подвиг жителей Козельска. Для него это – пример для подражания. Как вы понимаете, мотив противостояния захватчикам не случайно возобладал именно в южнорусских текстах. Это отражение того выбора, который сделали «элиты» разных русских земель – в пользу Орды или против нее. Властным персонификатором антиордынской позиции является, как известно, галицкий князь Даниил Романович; его антиподом – наш «национальный герой» Александр Невский.
Тема борьбы с иноземными захватчиками и воспевание «беззаветного мужества народа» стали ведущими в летописании Северо-Восточной Руси позже112112
По мнению исследователей, «для летописцев в первые полтора века после нашествия Батыя» свойственно «примирительное отношение к татарскому владычеству» (15, с. 181). Сложный и продолжительный исторический процесс русского самоопределения и внутреннего отмежевания от Орды приходится на столетие 1340–1440 гг., «когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя». Тогда воспитались люди «куликовского поколения», «отваживавшиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды» (32, с. 72).
[Закрыть]. Возникли они на «негативной» основе – для размежевания с чужой землей, чуждым государством как с иными по вере. Источники показывают, что «ордынские» русские (жители «царева улуса», которые «и страх держали, и пошлины платили, и послов царевых чтили»113113
Из грамоты эмира Едигея, пытавшегося в начале XV в. восстановить престиж Золотой Орды, московскому князю Василию Дмитриевичу, сыну Дмитрия Донского, 1408 г. (цит. по: 60, с. 78).
[Закрыть]) впервые отчетливо поняли свою «отдельность» от Орды и вре́менность ордынской власти после принятия в 1312 г. ислама ханом Узбеком. Анализируя «Повесть об убиении Михаила Тверского» – тверской памятник первой четверти XIV в., где впервые высказана антиордынская (т.е. освободительная) идея, И.Н. Данилевский предположил: «Установление в Орде государственной религии (несмотря на сохранение Узбеком всех льгот православному духовенству, данных предыдущими ханами) рассматривалось летописцем и его современниками как нарушение того состояния конфессиональной «нейтральности», которое делало ордынское иго до того приемлемым для русских земель» (15, с. 249). Интересы защиты веры, с точки зрения летописца, требовали уже не покорности, а сопротивления «беззаконному» ордынскому царю114114
Летописец фактически отождествлял Русь с Иерусалимом и Царьградом, подчеркивая тем самым, что на нее снизошла «благодать Божия» (15, с. 253). Подтверждением этого «статуса» должно было стать избавление от ига.
[Закрыть].
Однако в целом древнерусские авторы середины XIII – первой четверти XIV в. еще не ставили под сомнение законность «Богом установленной» власти ордынских ханов. Переломной здесь стала победа «православного воинства» в Куликовской битве 1380 г., которую, по мнению русских книжников, обеспечило Божие Проведение (не случайно, рассказывая о ней, летописец вкладывает в уста русских князей слова: «Не в силе Бог, а в правде» (цит. по: 10, с. 220). Показательно, что со «Сказания о Мамаевом побоище» и других памятников Куликовского цикла понятия «Русская земля» и «православная вера» стали практически неразделимы115115
Замечу: приблизительно в то же время, т.е. не ранее последней четверти XIV в., по мнению А.Л. Юрганова, формируется современное понимание Отечества как всей Русской земли (а не только своего княжества, как прежде). У «послекуликовских» книжников «Русская земля» начинает отделяться от Орды, противопоставляться «земле Половечьской Татарьской» (15, с. 278, 301). В то же время еще в «Задонщине» (памятнике конца XIV – начала XV вв.) в качестве синонима «Русской» или «Залеской земле» используется термин «орда Залеская» (там же, с. 282). После Куликовской битвы эти самоинтерпретации (Русь как Орда и Русь–не–Орда) активно борются в русском сознании.
[Закрыть].
Тогда и начинается формирование военного мифа, его текстовая реализация116116
Тексты выступают трансляторами мифологической информации. При их анализе надо иметь в виду следующее: «Формулирование важнейших обобщений и идей различной степени отвлеченности (о времени и пространстве, космосе и хаосе, жизни и смерти, душе и судьбе и т.д.) через наглядные образы действительности приводит к их повышенному насыщению мифологической символикой, и они начинают функционировать как язык, выражающий мифологические или мифопоэтические смыслы (особенно в текстах фольклора, древних и средневековых литератур). Это обусловливает использование подобных образов для передачи мифологической информации (или даже вычитывание ее в текстах, в которых она первоначально не была заложена)… Иногда мифологические темы лишь косвенно отражаются в повествовательных мотивах, метафорах, эпитетах фольклора и литературы, причем их мифологический смысл обычно не осознается» (46, с. 28).
[Закрыть]. Весьма показательно, что исторически «начала» православного царства/Русского государства и военной мифологии практически совпадают.
Сценарий мифа священной оборонительной войны кратко может быть описан так: нашествие – сопротивление/оборона – поражение/иго – возрождение/наступательная война – чудесная победа/полное торжество над врагом. Центральный для этого мифа мотив завоевания/нашествия, конечно, не уникален, свойствен общехристианской традиции. Но в русской культуре он решается особым образом, имеет свою драматургию. Нашествие предстает в мифе как внезапное, неожиданное и вероломное нападение врага. Оно полностью снимает с русской стороны ответственность за войну; более того, устраняет саму возможность обсуждения этой темы. Вся вина за войну перекладывается на врага-завоевателя. Мы отводим себе роль жертвы – обороняющейся и страдающей.
Образ врага – один из центральных в мифе; его символическая нагрузка едва ли не значительнее, чем образ «своего» (хотя в конечном счете враг лишь выполнял функцию его антиобраза), поэтому он ярче, насыщеннее прописан. Русские в мифе имеют дело даже не с превосходящей их военной силой, а с мистическим суперврагом, воплощением всего мирового зла. Сила его безмерна – он непобедим. Этот образ вполне исторически оправдан: монгольское войско, послужившее его источником, было не просто лучшим для своего времени. Подчинив полмира, монголы на века стали образцовыми завоевателями. Миф рассказывает о противостоянии с идеальным, если так можно выразиться, врагом.
Другой прототип врага – воин Запада, трактуемый мифом прежде всего как иноверец, более того – воплощенная угроза утраты души народа, т.е. его «исконной» («правильной») веры117117
С началом мировоззренческого – по вопросу о вере – противостояния русских «татарам» и в их описании утверждался конфессиональный мотив. «Антиправославие», «безбожие», «нечестивость» становятся устойчивыми характеристиками их восприятия в Северо-Восточной Руси. После поражения Золотой Орды и ее наследников – растянувшегося на столетия, но спрессованного мифом в мотив победы – у нас остался только один мифологический враг
[Закрыть]. Такая интерпретация вполне объяснима: национальная мифология в значительной части создана церковной письменной традицией, несшей в себе идею религиозной войны. Этот тезис требует пояснения. Мифологический враг русского человека имеет двойственную сущность: это иноземец (человек другого, чуждого пространства) и иноверец (т.е. чужой по вере – иначе говоря, по мировоззрению, культуре). Война против него неизбежно приобретает не только «территориальный», но и религиозный характер. Это очень важный момент: в русской истории ведь не было религиозных войн – они являлись элементом общевоенной истории, освящая войну идей. И не случайно в военный миф оказался встроен мотив религиозной войны, источник которого – в монгольском завоевании и историческом противостоянии с Западом (военно-силовом и «идейном» мировоззренческом, начавшемся борьбой с «латинством»).
Воин Запада постепенно вытеснил степняка-кочевника из образа врага; так среди прочего было зафиксировано в культуре вхождение России в Новое время118118
Однако еще и в русской графике XVIII в. (карикатурах, популярных в народе лубочных рисунках) враг изображался «восточным человеком» – в чалме, шароварах и с кривой саблей. Конечно, исторически это объяснимо. «Отечественные художники начала XIX в. буквально на ощупь создавали кальку для визуального “овражения» европейца”», – указывает современный исследователь (6, с. 189).
[Закрыть]. В мифе преломился реальный опыт: с XVII в. противостояние/контакты с Западом стали важнейшей частью русской истории, с XVIII в. – элементом самоопределения, а два нашествия (наполеоновское и гитлеровское) и поражение в холодной войне навсегда сделали Запад врагом № 1 для массового сознания. Чрезвычайно важно, что Запад изначально представлен в национальной мифологии, народном сознании как угроза/искушение «своей» (т.е. истинной) вере. Этим архетипическим образом во многом определяется и современное массовое восприятие западной цивилизации: как источник необходимого для выживания в современном мире опыта и в то же время как врага-искусителя – внешней враждебной силы и дьявольского соблазна для души. Управа на такую угрозу должна быть мощной и неколебимой в вере. И не случайно персонификаторами такой управы стали «крутые» даже по меркам своего времени властители – благоверный князь Александр <Невский> и его современное воплощение И.В. Сталин. Всякие попытки развенчать их мифологические образы и дальше будут вызывать агрессивное неприятие традиционного, т.е. антизападнического, по своей сути сознания.
Нашествие врага по своим неотвратимости и чудовищной разрушительности обретает в мифе сходство с природной стихией. От него не укрыться; ему практически бесполезно сопротивляться. Тем не менее мотив героической обороны играет в мифе войны значительную роль119119
Уже в Ипатьевской летописи борьба с завоевателями рассматривалась «как праведная, а гибель при сопротивлении монголам – как христианский подвиг, обеспечивающий жизнь вечную» (15, с. 152). Правда, возобладала эта интерпретация в летописании с последней четверти XIV в.
[Закрыть]. В нем не просто возникают темы жертвы/жертвенности и героизма/подвига, но происходит поиск их нормы. Иначе говоря, миф предлагает свой вариант «правильной» жертвы и «правильного» героя. Героизм и жертвенность осмыслены и оправданы в мифе необходимостью защиты родной земли, т.е. имеют как бы пространственную целесообразность. При этом миф настаивает на сакральной природе своей территории; таким образом дело ее защиты приобретает священный характер, значение миссии. Причем дело это общее; речь в мифе идет о массовых героизме и самопожертвовании, сопротивлении захватчикам ценой жизни, но не человека, а народа. Здесь все защитники, а значит, все герои; миф воспевает не индивидуальный, а народный подвиг. В мифе нет основы для персонализации трагедии (и жалости к ее жертвам). Миф священной войны как бы призывает осознать высокий смысл общей жертвы «на алтарь Отечества».
Самая трагическая часть мифа – поражение/иго. Несмотря на то что оборона сопровождается чудесами народной храбрости, мужества, стойкости в вере и жертвенной любви к родной земле, она обречена. Неизбежность поражения объясняется вовсе не слабостью защитников. Напротив, мифологический мотив сопротивления доказывает их особую силу, источник которой – в Правде защиты Отечества. Миф акцентирует особое мужество русских: из всех современных народов, подвергшихся «агрессии», только они оказываются способны на достойное сопротивление непобедимому врагу. Здесь мифический сценарий приобретает внешний ракурс. Оттягивая на себя вражеские силы, русские спасают «мир чужих» – иноверцев и инородцев, но не врагов (или еще не врагов). (В скобках замечу: в этой не слишком приглядной роли спасенных, а потому должников изначально выступал «Запад».) Правда, по логике мифа, враждебность этого мира к русским не исчезнет. «Чужие» не смогут оценить эту жертву. В лучшем случае забудут, в худшем – пересмотрят в свою пользу (как говорят сейчас, фальсифицируют, станут «отрицать вклад»). Отсюда в русской культуре возникнет тема «их» перед «нами» («внешнего») долга и «оправданности» нашего от них «отставания»120120
Классическую «формулу» этой темы дал А.С. Пушкин в письме П.Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г.: «У нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех» (51, с. 155). Такой интерпретацией снималось элитарное ощущение скомпрометированности русских ордынским прошлым и их «вторичности»/периферийности по отношению к Западу, западной культуре.
[Закрыть].
Сюжет завершается тем, что захватчики («темные силы», «тьма» врагов) торжествуют, – устанавливается иноземное иго (исторический источник термина: монгольская система подчинения и управления Русским улусом, или «ордой Залеской»). Попираются исконные начала народной жизни, обессиленный борьбой народ претерпевает невиданные страдания. Страна полностью разрушена, везде царит «мерзость запустения». Организованный мир распадается, прежняя налаженная жизнь заканчивается – наступает хаос, торжествует неправда121121
Упоминавшийся уже автор «Ипатьевского» варианта «Повести временных лет» считал завоевание Руси не просто военным поражением, но «погибелью Русской земли» (15, с. 152). Со временем эта интерпретация стала своего рода канонической.
[Закрыть].
Этим кончается отрицательная часть мифологического сценария. Ее «уравновешивает» мотив возрождения, определенный победной логикой. Иго и борьба с ним противопоставлены как антагонистические начала: тьма/свет, зло/добро. Темные времена вражеского ига обременены многими неправдами. В тьме рабской жизни одинаково порабощенные завоевателями «портятся» и народ, и власть. Народ разобщен, лишен воли к сопротивлению; власть служит завоевателю, попирая народные интересы. Опустошается не только пространство – пустеют, истончаются души. Но вера, которой единственно и держится жизнь, совершает чудо122122
Чтобы «сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство.., русскому обществу дулжно было встать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием», – отмечал В.О. Ключевский (32, с. 68). «Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения» русский народ получил в XIV в. Великий историк видел в этом влияние преподобного Сергия Радонежского, посвятившего свою жизнь «нравственному воспитанию народа». То, что ему удалось «оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня», уже тогда признавалось чудом, а источник «чудесного, творческого акта» – вера. Впечатление русских людей XIV в. «становилось верованием поколений, за ними следовавших». «Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный порядок. При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое», – пишет Ключевский (там же, с. 74, 75).
[Закрыть]. К народу возвращается внутренняя убежденность в своей правоте. Встав вновь на защиту своего народа и правого дела, «исправляется» власть.
Фактически в мифе зафиксировано рождение (или возрождение) власти в ходе священной войны (это исторически адекватно: самодержавие обретает законченный вид на рубеже XV–XVI вв., в том числе в связи с падением ига и становлением национального государства). В соответствии с идеальной мифологической формулой легитимация русской власти – в обеспечении победы народа над захватчиками; необходимое же условие победы – военно-оборонный союз с народом, освященный церковью (верой, идеей). Такая власть должна быть конкретна, осязаема – она требует себе персонификатора, соединяющего функции военного и религиозного лидера. На эту роль миф предлагает две исторические фигуры, «изымая» их из более ранней эпохи, – князя Дмитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского123123
Обращение к этим фигурам связано с тем, что мифологическое (сконструированное в мифе) освобождение от поработителей и создание собственного государства невозможны без решающей – тяжелой и кровопролитной – битвы. «Стояние на Угре» к решению этой задачи «приспособить» невозможно. Куликовская же битва – в особенности если вывести ее за пределы истории (с последовавшим за ней набегом на Русь хана Тохтамыша и разорением Москвы) и проецировать на нее результаты «стояния» – идеально подходит на роль решающего (возможно, не последнего, но «переломного») сражения священной оборонной войны. Поэтому она и стала «местом памяти» и источником самоидентификации русского человека.
[Закрыть]. Мифологический жанр не противится такой вольности – в пространстве мифа легко смешиваются разные времена. Главное – зафиксировать не исторический момент, а саму потребность народа в освобождении, борьбе с завоевателями, свободной самореализации в истории.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.