Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
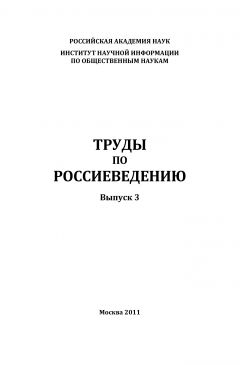
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
На такое социальное строительство потребен был свой вождь – и он во власти нашелся. Сталинский личный задвиг на врагах, вредивших ему, мешавших движению наверх, к вершине – абсолютной власти (в революционности будущего вождя ощущается не только преступно-криминальный дух, но и «старорежимность»: он серьезно относился к карьере, иерархии, да и революцию, видимо, полагал лишь сменой иерархий), наложился на социальный вызов. И страшно срезонировал. Дело в данном случае даже не в репрессиях – это тема не «окончательного» подсчета жертв и их процентовки к непострадавшим, а общественной морали и национального самосохранения, выбора модели развития («народосберегающей» или народозатратной)140140
Когда-то С.М. Соловьев, имея в виду грозненский «порядок» и «смутные» времена, писал: «Вредное влияние на народную нравственность оказывали дела насилия, совершавшиеся в обширных размерах: человек привыкал к случаям насилий, грабежа, смертоубийства – привычка пагубная, ибо ужасное становилось для него более не ужасным» (54, с. 128–132). Массовый террор и в сталинские времена воспринимался не как ужас, но ежедневное, бытовое, обыденное действо, которое, если оно не коснулось тебя лично, можно было не принимать во внимание. Только с преодолением этой пагубной привычки возможен выбор тех «народосберегающих» путей, где определяющим ориентиром является ценность человеческой жизни (причем вовсе не для власти, а для этого самого человека), а не какие-то внешние (пусть даже высшие) цели, для достижения которых все средства (в том числе и жизнь) оправданы.
[Закрыть]. Главным в нашем социалистическо-террористическом прошлом было то, что советский человек десятилетиями воспитывался страхом и ненавистью к «враждебному окружению». А оно было не только вне его, хотя тема внешнего врага и являлась одной из центральных для советского режима все время его существования.
Сталинская власть (народно-антинародный террорист-строитель, служивший только себе даже тогда, когда вставал на защиту национальных интересов) всю страну воспринимала как потенциального врага, как свое враждебное окружение. И с параноидальной периодичностью выбирала из него жертв, которых называла врагами, а потом «выдавала» народу, чтобы тоже поучаствовал в борьбе141141
Назначать врагом (а также героем, святым и т.п.) – это традиционная привилегия русской верховной власти и ресурс ее легитимности. Искать же врагов (как вне, так и внутри себя) – традиционный народный способ восполнения внутренних недостатков, дефицитов, объяснения национальных неудач.
[Закрыть]. Всеобщее же участие (по принципу «народной расправы») всех превращало в потенциальных врагов и враждебное окружение – самим себе. «Я» как народ и потенциальный враг народа – такое самоощущение вело к раздвоению личности и коллективной паранойе. А ведь все еще были и строителями – героями и энтузиастами – нового, прежде невиданного и потому воображавшегося прекрасным мира. И идейными борцами с врагами – «бешеными собаками», «гнусными подонками», «наймитами мирового капитализма»…
В порядке, искавшем справедливости в гражданской войне, не было правды, а для человека инстинктивное ощущение оправданности – в том числе моральной – социального порядка, видимо, все же необходимо. Точнее, была правда режима – он так выжил, так существовал. И решал поставленные перед собой задачи – с ужасающей и неотвратимой последовательностью строил свой, новый мир. Утопия Царства Справедливости, религиозно-мистическая в своей основе, реализовалась в 1930-е в форме массового террора, имевшего, помимо прочего, и уравнительный смысл142142
Террор подравнивал общество не только в потребительском, материально-имущественном отношении, но – и это важнее всего – тем, что ликвидировал «социальные слои, которые несовместимы с социальной однородностью» (4, с. 419). Государственный террор обеспечивал социальное и имущественное равенство, а потому понимался массами как инструмент осуществления социальной справедливости. Тем более что сами массы не представляли движения к справедливости без применения насилия. Как показывают «письма во власть» 1920-х годов, «справедливость мыслилась недостижимой без известной доли насилия по отношению к имущим классам и защитникам их интересов» (30, с. 198). Когда-то обнаружив начала справедливости в войне, вызванной ею всеобщей государственной службе, народ зафиксировал это впечатление в культуре. В момент коренного перелома своей судьбы там, в глубинных основаниях культуры, он находил «рецепты» переустройства.
[Закрыть]. Справедливость была достигнута – так, как только и могло быть в рамках такого режима: всеобщее равенство в бесправии, беззащитности и страхе перед государственной репрессией и относительное равенство в распределении. Созданные системой потребительские преимущества «элит» понимались народом как наследственная «ложь» русских систем – и царской, и советской (см. об этом, например: 30, с. 177–182), а кроме того, компенсировались перманентным тотальным террором против них верховной власти. Искоренение «лжи» (путем уничтожения ее «носителей» – ненавистного «боярства», «сильных», «привластных», «чиновных» людей отчасти оправдывало (и оправдывает сейчас) сталинскую систему в глазах социального большинства.
Но осмысленности существования – какой-то высшей, не связанной только с социально-ущербной, всеупрощающей прагматикой режима, сделавшего ставку на апелляцию к темным сторонам народной ментальности, – человеку, людям, народу порядок 1930-х не давал. А выхода из него – и в прямом смысле слова: за границы системы – не было. Сталинский режим вогнал свой народ в крайне болезненный алгоритм существования, навязав всем и каждому чудовищный синтез социальных ролей: строитель/герой – обвинитель/палач – враг/жертва. При этом постоянно менял ориентиры: кто вчера герой – завтра враг, а послезавтра может опять стать героем (последнее, правда, – лишь исключение из правила); что вчера было единственно верным, завтра становилось ложным. И т.д. Каждое сегодня требовало отречения от вчера и завтра.
Единственная работающая в таких условиях стратегия выживания – даже не уйти в личное (это ведь не пространство приватности, а тоже «враждебное окружение»), но отключиться, не думать, не помнить, не знать, отказаться от всяких – прежде всего идейных, ценностных, нравственных – ориентиров. Жить по принципу: человек человеку – враг; каждый сам за себя (и по себе); не верь никому – даже себе; кто не с нами – тот против нас. И привыкнув к этому, чувствовать себя нормально. Об этой внутренней перекодировке ненормального в норму см: Дж. Оруэлл «1984». Не надо обманываться тем, что это только литература; в реальности – было еще страшнее. Парадоксальным образом стратегия «самоисключения», которая вела к «атомизации» социума, обеспечивала стабильность режима. Ему легко было иметь дело с человеком, ее практиковавшим. Благодаря этому режим получал возможность монопольно предлагать и контролировать основные практики социального взаимодействия, формируя советского человека как общественный тип. В этих условиях не могла возникнуть солидарность – основа для активного сопротивления режиму (даже в ситуациях активного и массового с ним несогласия, а повседневная репрессивность вызывала такую самосохраняющую социальную реакцию). Появились лишь привычка подчиняться, установка на согласие, которые со временем перестали нуждаться в подкреплении репрессией.
Отечественная остановила перманентную гражданскую. На неправде войны с внутренним врагом (т.е. врагом в себе, с собой как врагом) поставила крест правда противостояния внешнему. Отечественная стала своего рода историческим оправданием нового режима, новой страны. Она дала им будущее, став их дорогой в нормальную жизнь. Это парадоксально с точки зрения обычной человеческой логики, но вполне соответствуют российским историческому опыту, традиции, культуре.
Режим и вождь в народной войне: от «маленькой победоносной» до Отечественной
Войны, как и всякие (особенно самые важные) события в жизни, начинаются совсем не так, как ожидают. Произнося слова о неизбежности войны, формируя атмосферу «предвоенности», люди, как правило, не верят, что война может стать реальностью. Даже политикам свойственно недооценивать риски, совершать ошибки. Любая война, особенно просчитанная и предсказанная, оказывается в той или иной мере неожиданной и внезапной. Для нашей же страны «вероломное нападение» – пожалуй, классический случай начала войны. Так и начинаются в России Отечественные. И все же 22 июня 1941 г. является вопиющим примером всеобщей растерянности и распада в ситуации, «под» которую годами «затачивали» страну.
То, как СССР встретил войну, во многом, как мне кажется, объясняется природой сталинского режима. О нем, конечно, можно сказать много, но мою тему определяет одно. Живя войной и с войны, конструируя реальность в милитарных категориях, он внутренне не был готов к противостоянию с реальным врагом. При всех своих ужасающей жестокости и диком прагматизме, умении ставить и решать большие задачи (от Великих строек до Большого террора), режим 1930-х – начала 1940-х был насквозь иллюзорен: являлся фабрикой социальных грез, производя иллюзии и заставляя все население участвовать в их распространении143143
Эти «грезы» (т.е. тиражные творения социальных конструкторов-соцреалистов) суть самоописания, самопредставления системы. Между ними и реальностью был, конечно, гигантский зазор. Но в том, как система себя описывала, проявлялось ее существо. Она выживала, производя двойную реальность, транслируя идеальные образы себя (фиксировали, какими должны быть народ, власть, их ценности и быт). Использовала для этого как настоящее, растворяя в нем социальные ожидания и проекты будущего (сталинское сегодня – это реализовавшееся завтра, «светлый путь», который уже привел к желанной цели, победа социализма «в основном»), так и прошлое («нужные» режиму образы «вчера» суть идеальная модель и «историческое обоснование» дня сегодняшнего). В «совершенно искусственном, воображаемом сюжетном пространстве» «действовали условия, невидимые, скрытые враги и герои, возникали смертельные угрозы всему целому и избавления от них. Но весь этот мир был принципиально непроверяем, неподконтролен частному опыту, поскольку… держался на непреодолимом разрыве между планом коллективных событий и повседневной жизнью» (12, с. 614). В послесталинское время народная вера в образы и стремление рассматривать действительность сквозь их призму сменяются ответным «производством» социальных «двойников». Двоемыслие, двойные экономика (реальная и «теневая») и культура (официальная и «запрещенная») и т.п. особенно пышно расцвели в брежневском СССР.
[Закрыть]. Это лучше всего демонстрирует культивировавшийся в те годы образ войны. Людям годами навязывалось сознание того, что страна обречена на войну («война на пороге» – советское предвоенное клише). Подготовка к этому неизбежному испытанию – одно из главных оснований легитимности режима. И он действительно готовился воевать, но явно не планировал Отечественной. Поразительно, насколько безответственно несерьезный, облегченный, опереточный образ войны предлагал ее будущим участникам тот, кто их к ней вел: «победоносная война» «малой кровью» «на вражеской территории»144144
Маяковский об образе А.С. Пушкина в фильме «Поэт и царь» (1927) сказал, что это потрафление самому пошлому представлению о поэте, которое только может быть у самых пошлых людей. Так же можно характеризовать сталинскую «довоенную войну» – это самый пошлый образ войны, возникший в воображении самых пошлых людей. Он не предупреждал о реалиях войны, которая уже велась в Европе; противоречил природе режима, ни в чем не обходившегося малой кровью. Современная война представала в нем чем-то вроде экранной битвы русских богатырей с Кощеем Бессмертным или воинством «злого Тугарина». Изобрести этот унизительно оболванивающий, отупляющий образ могли только те, кто абсолютно не доверял своему народу.
[Закрыть].
Людей настраивали не на реальную, а на иллюзорную, «экранную», «постановочную» войну145145
Не случайно главным инструментом продвижения образа в массы являлся киноэкран. По мнению исследователей, кино тех лет, «предвоенный сталинский киноэкран сливался с действительностью, замещал ее… Сознательно высветленное и тщательно профильтрованное киноизображение своей исконной документальностью и убеждающей фактографичностью уверяло, что “жить стало лучше, жить стало веселее” (Сталин)». В рамки «экрана-праздника» 1930-х легко вписалось кино «оборонной тематики». Даже в первые месяцы войны «на киноэкране продолжалась военная игра, где деревенские старушки и дети разоблачали переодетых германских шпионов, в оккупированных городах Восточной Европы действовало мощное подпольное Сопротивление, а в любом фронтовом поединке советский боец легко побеждал неловкого врага» (28, с. 379, 380). Исключение составлял, пожалуй, только «Невский» (с его «Вставайте, люди русские!»), но он «заработал» во всю силу уже во время настоящей войны.
[Закрыть]. А в 39-м ее вообще «отменили» – внезапно, вдруг, без объяснения причин: союз с Германией. Главный враг исчез – остались навязанная пропагандой уверенность в интернационализме и солидарности с СССР немецкого рабочего, а также вполне понятные недоумение и вопросы у рабочего (и не только) советского, гасившиеся внутренней самоцензурой146146
«Советские граждане, – как точно подметили современные исследователи сталинизма, – выработали тонкое искусство укрывать свои частные сомнения или свою внутреннюю сущность за публичным фасадом конформизма. Еще больше людей просто не разбирались в своих позициях» (31, с. 81).
[Закрыть]. Зимой 1939–1940 гг. провели – и для массового «зрителя» вполне успешно – репетицию «маленькой победоносной войны». Все как-то совпало с 60-летним юбилеем товарища Сталина147147
Юбилей, как известно, был значительной вехой на пути роста сталинского культа. Некоторые исследователи считают даже, что культ стал складываться только в конце 1940 г., и объясняют это не влиянием террора, а аннексией государств Балтии (см.: 31, с. 128). Это интересное наблюдение: личный культ персонификатора в России базируется на пространственном расширении, имперской мощи. Здесь даже террор имеет вспомогательное значение.
[Закрыть]. Атмосфера праздника укрепляла уверенность советских людей в светлом будущем. Начало Второй мировой, по существу, игнорировалось. Завороженный иллюзиями режима, СССР не заметил реальности истории. Жил как бы в параллельном времени, в другой действительности.
И этот импульс – отключиться от реальности – явно шел от вождя. Система, сведенная к одному человеку (Творцу – в том смысле, что он и являлся ее Истиной), была исключительно чувствительна к его представлениям, настроениям, анализам и прогнозам, решениям, кадровой политике. Это неизбежно и естественно – он так ее и творил: для и под себя. В 30-е в своей стране вождь шел от победы к победе, отчего наступило своего рода «головокружение от успехов». Будущее виделось ему в проекции прошлого – без поражений. Это касалось и «большой» (внешней) политики, и войны.
Утвердившись у власти и строя свой порядок на разжигании гражданской, Сталин, видимо, полагал, что способен на столь же успешное управление европейскими конфликтами, режиссирование европейской войны. Кстати, он мыслил ее по известному ему примеру – Первой мировой; вероятно, хотел имперского реванша, наказания победителей (они же: интервенты) – и руками Гитлера, и вместе с ним (в форме «анти-Антанты–2»: советско-германского или советско-итало-германского блока). В «перманентной» войне Сталин явно видел больше пользы, чем в ленинско-троцкистских безумиях – всемирной, «перманентной» и т.п. революции. Образ (как и практика) войны «малой» были рассчитаны в основном на внутреннее потребление. Представляется, что наш вождь был так же захвачен идеей передела мира в новой большой (мировой) войне, как и немецкий148148
При этом для Сталина союз с Германией был явно предпочтительнее войны с нею. Причина – не только в близости природы режимов (антидемократичности, репрессивности, милитарности, популизме) и их лидеров (типа лидерства). Сталин видел сходство в задачах и потенциалах двух стран. Так, в убийстве Рема и других штурмовиков он усматривал окончание «партийного» периода в истории немецкого национал-социализма и начало «государственного» (31, с. 320). Вероятно, тем же был для него 1937 г. А после войны Сталин отмечал, что германский и советский народы «обладают наибольшими потенциями в Европе для свершения больших акций мирового значения» (цит. по: 8, с. 453). Действительно, обладали – один развязал мировую войну, другой его победил. Такие потенциалы, как, вероятнее всего, считал Сталин, следует объединять, – и весь мир будет в кармане. Собственно, советский вождь поучаствовал во Второй мировой вместе с Германией, как и предполагал, вполне успешно. И союзничал бы дальше, если бы не Гитлер с его стремлением расширить «жизненное» пространство для немцев и презрением к славянским народам как «расово неполноценным» (антикоммунизм здесь, скорее, элемент политики по «решению еврейского вопроса» – борьба с «жидобольшевизмом»). Гитлер сорвал сталинские планы, а вождь тяжело мирился с личными поражениями. Поэтому так сдал в первые дни войны. Однако, надо отметить, что, будучи заинтересован в союзе с Германией, Сталин не был честным союзником. Он прежде всего не желал, чтобы в мире и особенно в СССР его идентифицировали с Гитлером. Даже втянувшись в мировую войну, сталинское руководство делало все, чтобы оправдать агрессию, не выглядеть агрессором в глазах советского народа. Советская пропаганда представила вторжение в Польшу «освободительным походом», братской помощью украинцам и белорусам, которым «угрожает Германия». Такая позиция союзника была явно неприятна, если не оскорбительна для Гитлера. Собственно, два вождя стоили друг друга – союзничая, предавали и, предавая, союзничали; в этом смысле их игра была равна.
[Закрыть]. Вот только война – всерьез, не по «периметру», а с другими претендентами на мировое господство – виделась ему в 1930-е отдаленной перспективой. СССР должен был провоцировать, пользоваться плодами, «наращивать мощь», но не участвовать. Иначе политика Сталина (и внутренняя и внешняя) кануна войны (1936–1941) необъяснима, не имеет внутренней логики. Вождь решил, что время еще есть, и люди, страны, история должны были ему подчиниться. Ведь научилась же соответствовать его представлениям о действительности его страна.
Тем ужаснее для СССР и Сталина была катастрофа 41-го года. Показательно, что, пока страна умирала, попадала в плен, оккупацию, страдала от бомбежек и не могла поверить в происходящее, «ее все» («ум, честь и совесть») просто исчез – из публичного пространства, которое до того никогда не покидал и всегда центрировал на себя149149
Историки кино отмечают: в первый период войны «на экране почти нет изображений Сталина. Ни в хронике, ни даже на портретах и плакатах внутри кадров…» (28, с. 379). До ноября 41-го – только одно обращение: на радио, 3 июля, к «братьям и сестрам» (см.: 55). Показательно, что реального вождя (как и настоящих полководцев, героев труда и т.д.) в деле мобилизации на Отечественную заменили звезды экрана – даже не киноактеры, а экранные образы, киногерои, бывшие кумирами советской толпы: Чапаев – Б. Бабочкин (киноновелла «Чапаев с нами», 31 июля 1941 г.), Максим – Б. Чирков («Боевой киносборник № 1»), почтальонша Стрелка – Л. Орлова (киносборник № 4) и др. (см.: 28, с. 379). Фактором мобилизации на реальную войну стала иллюзия: персонификаторы образа изобильной, счастливой, свободной советской мирной жизни теперь поднимали народ на отпор врагу. Бульшего авторитета, лучшего «агента влияния» в стране победившей иллюзии не было.
[Закрыть]. «Хитрый режиссер собственной славы, Сталин спрятался в дни поражений. Он появится лишь после Сталинградской битвы» (28, с. 379–380), – указывает исследователь. Справедливости ради заметим, что это не единственный национальный лидер, ушедший в «тень» на первом этапе Отечественной. Стратегию самоизоляции избрал во времена поражений 1812 г. Александр I, причем ее исследовательское объяснение – ожидание Божьего суда150150
«В версии православной церкви русский человек в таких обстоятельствах должен терпеть и молиться. Оттого-то Александр I был пассивным наблюдателем происходящего. И он действительно не принимал участия в летней кампании: ждал решения своей личной судьбы, судьбы подданных и… молился. Перелом в ходе войны был воспринят им как божественный приговор Наполеону и прощение России. Лишь после того, как священное решение стало очевидным, император почел себя вправе стать участником военной эпопеи» (6, с. 176).
[Закрыть] – представляется по меньшей мере неполным. Личные вера, мистицизм, страх и отчаяние персонификатора – дело второстепенное; главное в том, что военных поражений не терпит русская власть. И это «ощущение»/опасность – иного порядка, чем нетерпимость к ним любой другой власти.
Нашей власти поражения противопоказаны – как сигнал уязвимости, нетотальности, «несверхъестественности»; они лишают ее субстанциальности. Милитарный властецентричный социальный порядок отрицает неудачливого в этом смысле персонификатора. Человек власти боится и бежит от поражений, не желает нести за них ответственность, переадресуя ее другим – своим полководцам (в сталинские времена, чтобы понести «заслуженное наказание», им уже не надо было иметь немецкие фамилии), солдатам, народу. Власть оставляет публичное пространство («прячется» в «тени»), чтобы дождаться перелома к победе. На публику же выходит в героическом ореоле; в его блеске поражения забываются (растворяются в «тени» побед).
Вот здесь, пожалуй, ответ на главный для власти (и режима) вопрос 41-го года: что произошло со Сталиным в начале войны? Почему он не стал единственным выразителем идеи и организатором практики Отечественной (ведь именно этого ожидали от власти, приучившей народ к мысли, что она здесь – всё)? Впервые начавшуюся войну Отечественной назвал 23 июня 1941 г. в «Правде» один из немногих в тогдашней партии большевиков с дореволюционным стажем, верный сталинец Ем. Ярославский (71). Он ссылался при этом на войну 1812 года, но явно использовал и пропагандистский опыт Первой мировой. И это знаковый момент. Назвать решающее для страны событие и тем самым придать ему смысл в «Сталин-системе» мог только один человек – Сталин. Потому что (повторю) он и был системой. Сталин этого не сделал. И верховным главкомом назначил себя только 8 августа. Сталин «отпустил» войну, не имея возможностей управлять ею так, как привык – подавляя, уничтожая, контролируя и направляя всё и вся. Это значит, что с началом войны система стала меняться: от «Сталин-системы» – к сталинской (из множества вождей, «сталинцев», тех кадров, которые решали все, состоявшей).
Когда началась война, Сталин не был вождем сражающегося насмерть народа – только персонификатором власти, режима. Причем власти, неожиданно лишившейся перспективы, утратившей самоуверенность, режима, не выдержавшего испытания войной151151
Война здесь была не только провоцирующим фактором, но и выявителем. Режим, разжигавший гражданскую войну, не мог цементировать общество – больше пугал, вынуждая демонстрировать лояльность, активизировать защитные обыденные стратегии. Несомненной сплачивающей силой обладали символы (образы светлого будущего, общего прошлого, «большого врага»), массовые ритуалы, совместная работа, наделявшаяся пропагандой значением великого строительства нового общества. Но и реальное, и символическое были поставлены под сомнение войной. Режим, демонстрировавший военно-оборонную несостоятельность, утрачивал символическую защиту, быстро терял социальное доверие. Война разоблачила его иллюзорность, дала выход народному недовольству, заставляла обостренно воспринимать его несправедливость и неэффективность.
[Закрыть]. В ситуации режимного паралича война пошла самотеком, потребовав от всех и каждого самостоятельных решений, самостоятельного выбора. Мобилизация на Отечественную имела значительный элемент стихийности, самодеятельности. В особенности это касается мобилизации символической, цель которой – поднять население на отпор врагу, а главные инструменты – патриотическая риторика и патриотические воспоминания.
В первые же дни и месяцы 1941 г. патриотическое массовое искусство (песни и кино, стихотворение и газетный очерк, плакат, карикатура и др.) сформулировало важнейшие темы, обнаружило жанры и сюжеты, способные дать наибольший пропагандистский эффект. Они были не интернационалистскими, классовыми, социалистическими, а народно-освободительными. Страна запела «Священную войну» (определение войны как «священной/отечественной/народной» и указание на то, при каком условии она обретает такое качество: «Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой»; «Пусть ярость благородная вскипает как волна» – главная находка военного масскульта); откликаясь на зов Матери–Родины, записывалась «добровольцем»; вспомнила о провале исторической попытки внешней агрессии (например, в популярной короткометражке «Случай на телеграфе» из августовского 41-го «Боевого киносборника» Наполеон посылал депешу Гитлеру: «Пробовал зпт не советую тчк»). Отношение к врагу формировала «публицистика ненависти»; ее определяли «Убей немца!» И. Эренбурга (и симоновский рефрен «Убей его!»), «Призываю к ненависти» А. Толстого и др. Первые же «Боевые киносборники», вышедшие в августе 1941 г., сопровождали экранные лозунги: «Все для фронта! Все для победы!», «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» (28, с. 377–378).
И все это вовсе не результат единой, спланированной «сверху» кампании, жесткого и четкого госпартийного руководства, но выражение «низового», массового, народного порыва – на «смертный бой не ради славы, / ради жизни на земле». Деятели официального, соцреалистического искусства 30-х, продвигавшие его в массы в соответствии с директивами партии и лично вождя, не принадлежали больше агитпропу в самом пошлом значении этого слова. Они не только (а может, и не столько) служили режиму, но нашли поле своего сражения в Отечественной: стали голосом воюющего и погибающего народа. А слова/образы обнаруживали и в дне сегодняшнем, и в прошлом.
Военный масскульт (повторю: будучи подцензурным и в этом смысле официальным, он не остался пошло пропагандистским152152
Например, советское кино военных лет, «начав как агитационно-пропагандистское», стало «народным киноискусством» (28, с. 387).
[Закрыть]), призванный «мобилизовать население на упорный, почти каторжный труд и исключительные проявления личного героизма», был эффективен потому, что резонировал с «естественными человеческими стремлениями выжить, победить, отомстить» (36, с. 329)153153
Автор, кстати, указывает на изменение с начала войны цензурного режима, благодаря чему только и могли появиться в печати стихотворения К. Симонова, военные песни, поэма А. Твардовского «Василий Теркин» и др. (36, с. 330).
[Закрыть]. Чрезвычайный мобилизационный эффект имело «натуралистическое» искусство, фиксировавшее горе и смерть, горькую правду войны. Это касается прежде всего кино, отданного в 30-е во власть «бесчеловечного владычества выдумки» (Б. Пастернак). «Страдание, боль, разлуки, потери, слезы, голод, страх – все это, изгнанное с экрана в 1930-х, вынуждена была легализовать война» (28, с. 382). Жесткая военная цензура, не допускавшая в кадр зрелище поражений и смерти, капитулировала перед страшным натурализмом «Разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» (1942), «Она защищает Родину» (1943), «Радуги» (1944) (там же, с. 383–387). То было «кино ненависти», обличавшее врага и звавшее к возмездию. Из соединения народного чувства и патриотического масскульта в первые месяцы войны родился «стихийный яростный патриотизм»154154
Определение И. Кукулина (36, с. 329).
[Закрыть].
Имело массовое искусство тех лет и другую, психотерапевтическую функцию. Военные литература, кино, музыка давали людям нравственную поддержку; создавали то смысловое пространство, где получали объяснение переносимые ими страдания. Например, легализованную войной любовную лирику М.О. Чудакова сравнивает с фронтовыми «100 граммами», которые выдавали солдатам перед боем (65, с. 239). Ю.С. Пивоваров считает, что «Жди меня», «Темная ночь» (знаменитая песня из фильма «Два бойца, 1944) и проч. заменили людям, порвавшим связи с церковью/Богом, молитву; стали своего рода военным символом веры. Страстное, отчаянное, всенародное ожидание Победы отчасти разряжалось в условно-счастливом, «праздничном» кино (одна из его вершин – «В шесть часов вечера после войны», 1944). Охватывая всех и обращаясь к каждому, военный масскульт в лучших своих проявлениях стал высоким освобождающим искусством, преобразующим системную «человекоединицу» в личность.
Неожиданно быстрые и поразительно точные находки патриотического масскульта «брались» не только из личного таланта авторов или переданного ими народного инстинкта, обостренного войной. Они шли из самого естества национальной культуры, переработанного ею опыта, проводниками которого являлись культурные деятели. Одно это доказывало, что не все связи с прошлым были разорваны, не все забыто и разрушено. Культурная, «ментальная» мобилизация на Отечественную 1941–1942 гг. напомнила о том, что история народа – не открытое, ничем не защищенное, «необработанное» поле («пустошь») для тотальной переделки в интересах текущей политики и текущих политиков, а источник национальных сил, питающий надежды нации на будущее.
С первых же дней война была помещена в историческую перспективу, рассматривалась сквозь призму образов прошлого, отчасти уже известных советскому человеку с довоенных времен. Но именно Отечественная связала их с живой жизнью, вплела в настоящее. «На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами Кремля в Новгороде?» (70), – писал в 1942 г. И. Эренбург. Исторические отсылки во множестве встречаются в публицистике А.Н. Толстого. Вот один только пример: «Навстречу тотальной войне встала сила народной войны. Навстречу развязанному зверю встала собранная, воодушевленная любовью к родине и правде, нравственная сила советского народа… Вот я сижу на высоком и крутом берегу Волги, у подножия памятника Валерия Чкалова… Направо от него – древний <Нижегородский> белый кремль… Отсюда в самую тяжелую из годин поднялся народ на оборону государства» (61, с. 492).
В 1941-м (да и в 42-м) при дефиците побед и новых героев патриотические воспоминания имели особое значение. Истории о национальных победах стали важнейшим фактором мобилизации. Их сила в том, что они указывали на возможность не просто выстоять, но и победить, «приложить» к безнадежной, казалось бы, ситуации победную логику. Наиболее «эффективными» в этом отношении были события 1812 и 1612 гг., поэтому и вспоминали их чаще. Воспоминания же неизбежно «взывали» к мифу священной войны. И здесь срезонировали два процесса. Ужас тотальной войны на уничтожение дал народу ощущение «последней минуты», которое «запустило» процесс мифологического осмысления происходившего. Отсылка же к соответствующему историческому опыту и связанной с ним информационно-символической «базе» актуализировала тот настрой на Отечественную (справедливую и освободительную), который столетиями реализовывался в истории, формировался в мифе и мифом.
Миф священной войны приобрел тогда как бы практическое значение, предлагая «правильное» (в рамках нашей культуры и в той ситуации) объяснение происходившего и «правильное» решение. Он настраивал на тотальную войну, сводя весь мир и все жизни к единственному противостоянию: «мы»/«они». Миф смирял с безумием, неизвестностью, трагедией первых месяцев войны: все дело в вероломном нападении («мы взяты врасплох»), в силе агрессора. Наконец, миф давал ощущение, что отступление, оккупация, поражения первого этапа войны при всем их ужасе еще не конец – главное будет потом. И в то же время «предуказывал», что расплата за это «главное» будет страшной. В мифологизированном народном сознании жило предощущение невиданной жертвы, которую потребует священная война (более того, понимание, что только жертвенность народная и делает ее священной). Не будем, конечно, забывать, что в советской политической мифологии в 1920–1930-е формировался (и довольно успешно) культ жертвенности155155
«С политической мифологией связан особый механизм управления людьми: они должны не просто бояться наказания и подчиняться приказам, но искренне и глубоко верить в необходимость и справедливость такого положения вещей, которое обрекает их на жертвы и лишения. Советская литература и искусство талантливо разработали такую тему, как этика и даже эстетика жертвы… Предполагалось, что жертвы не только оправданы, но и необходимы, причем более всего ценилось принесение в жертву самого себя – самопожертвование» (62, с. 48).
[Закрыть]. Советского человека готовили к самопожертвованию – сначала во имя «светлого будущего всех трудящихся», потом – чтобы «жила… страна родная». Это не в последнюю очередь помогло ему победить, выстрадать победу. Но в конечном счете с безмерностью цены могло примирить только одно – народная вера в неизбежность Чуда Победы156156
Русский народ, вообще, приучен к идее чуда (невозможное, если в него верить, обязательно свершится). В народной культуре господствовало сказочное, мифологическое, утопическое отношение к миру. Это продемонстрировала социальная практика ХХ в. Атмосфера чуда оживилась в войну. О чудесном заговорил даже вождь. «Отечественная война показала, что советский народ способен творить чудеса и выходить победителем из самых тяжелых испытаний», – сказано в приказе верховного главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 г. (56, с. 144). Правда, разговоры Сталина о чудесном имеют вполне практическое объяснение: у чуда нет цены; если победы – следствие сверхъестественных способностей народа, снимается вопрос об ужасающих военных жертвах. Это один из примеров того, как режим «ловил» народ, метя в самое естество, в его представления о себе, как использовал в своих интересах особенности народного миропонимания.
[Закрыть]. И она тоже брала начало в мифе, им поддерживалась.
В целом можно сказать, что миф священной войны, сама русская культура сыграли в 1941–1942 гг. свою патриотическую, мобилизационную роль. Ни революционно-нигилистическое отношение к традициям в 1920-е, ни сталинская державно-вождистская переделка истории не смогли добить живительную «генетическую» связь человека, людей, народов, живших в СССР, с многовековой культурой. Война, а не исторический конструктивизм режима 30-х (по нещадности, враждебности к национальной истории не имеющий аналогов) оживили то ощущение, какое только и может быть признано патриотическим: эта земля наша, и мы за нее отвечаем.
Первые пропагандистские, мобилизационные действия власти, эпизодические и бессистемные, не могут быть поняты и адекватно оценены вне учета этого контекста, этих обстоятельств. Власть больше не указывала направление народного движения – оно обозначилось и без нее. «Братья и сестры»/«друзья мои», определение характера войны как Отечественной, великой и всенародной, справедливой и освободительной, знаменитый исторический ряд героев-спасителей Отечества, возникшие в сталинских обращениях к народу 1941 г. (см.: 55, с. 7–34), – не первоосновы (отправные моменты), а лишь элементы военного патриотического проекта. В деле его формирования власть/вождь оказались ведомыми; направлялись же они той силой, о которой со времен революции основательно подзабыли – народом (но не его инстинктом саморазрушения, использованным ими в 17-м, а волей к самосохранению, питаемой неразрывной связью с пространством-Отечеством).
Это предполагало основательную перестройку не только властной риторики и символики, но и политики (внутренней и внешней). Пусть некоторые меры и означали для режима проблемы в будущем (например, смещение центра тяжести в руководстве от партийных, идеологических к государственным, т.е. собственно бюрократическим, органам, «свертывание» привычной – социалистической, интернационалистской – основы идеологии и возрождение церкви, этого идеологического конкурента, союз с западными демократиями и др.), в войну, особенно в период поражений, они были необходимы. Режим формировал условия, в которых люди могли бы демонстрировать ему даже не пассивную лояльность, а приверженность, защищая его вместе с Отечеством. Это прежде всего означало признание приоритета идеи Отечества, национально-патриотических ценностей над режимной (уже не «марксистско-ленинской», а сталинско-ленинской) идеологией и «перепроектирование» идентичности – отказ от социальной, классовой в пользу национальной (национально-государственной, народно-державной). Только так можно было «идентифицировать свои интересы с интересами народа и возглавить патриотический подъем»157157
Так главную задачу власти в войну определяли М. Геллер, А. Некрич (8, с. 452).
[Закрыть].
Бытует мнение, что такая трансформация уже состоялась до войны, в середине 1930-х годов, и национальная (точнее, национал-имперская) идеология, преемственно связанная с дореволюционным имперским проектом, стала идеологическим основанием сталинизма158158
«Великое отступление» после 1934 г., т.е. «изменение в сторону… националистического мировоззрения», современные исследователи сталинизма вписывают в более широкий контекст «формирования национальной идентичности на народном уровне» (31, с. 127). При этом указывают на постепенное возобладание в политике «преемственности» над «сдвигами» (см., например: 67, с. 81), апелляцию режима 30-х к дореволюционной великодержавно-патриотической традиции. Весьма распространен следующий взгляд: «В предвоенные годы основой советской пропаганды стала имперско-националистическая идеология в социалистической «перекодировке», окончательно оформившаяся после заключения «пакта Молотова–Риббентропа» (см.: 36, с. 329). Здесь следует указать на три момента. Во-первых, речь шла об «изобретении»/конструировании в интересах режима традиции, которую – в тех же интересах – уничтожали все 1920-е годы. Отождествление сталинского СССР и дореволюционной («вечной», исторической) России – лишь пропагандистский ход. Между ними уже не было связи. Во-вторых, не революция, а реставрация добивает старый порядок. Апеллируя к прошлому и «переделывая» его, Сталин окончательно избавил от него советский народ. И наконец, искусственность и чрезмерность сталинского национализма 1930-х объясняется тем, что он был негативной реакцией на большевистско-коминтерновский интернационализм и экспериментализм 1920-х. Например, в архитектуре, бывшей зримой, внешней формой сталинизма, «национальный» стиль определялся как «несовременный, немодернистский». «Слова “модернизм” и “конструктивизм” получили оттенок чего-то безнационального, безродного, космополитического, интеллигентского» (68, с. 77). Фактически русский национализм, по Сталину, означал убийство интеллигентских идеи социализма (ради народного утопизма и «чудобесия»), практики эксперимента, свободного творчества (во имя властной монополии на мысль и социальное действие) и революционного интернационализма (в этом смысле он контрреволюционен и реакционен – напрямую связан с неокультуренным «почвенным» этническим национализмом, в основе которого – образ «чужого/врага»).
[Закрыть]. Сказать, что это не совсем так, значило бы не сказать ничего. Очевидно, что до войны сталинский режим пытался синтезировать две идеи – социальную (социалистическую) и национальную (в традиционно российском, державном изводе)159159
Говоря о «реабилитации» Сталиным «русского патриотизма, русского национализма», вернемся к аргументации М. Геллера и А. Некрича: «Завершив создание своего государства, Сталин нуждается в цементирующей идее, которую не мог дать ортодоксальный марксизм с его обещанием «отмирания государства». Цементирующей идеей становится патриотизм, который называют советским, но который все чаще звучит как русский. Для Сталина важно было, что русский патриотизм имел подлинные корни в русском народе, кроме того, русская история давала материал для воспитания в советских людях некоторых нужных вождю качеств: верности государству, верности самодержцу, воинской отваги. Сталин выбирает из русского прошлого то, что ему нужно: героев, черты характера, врагов, которых следует ненавидеть, друзей, которых нужно любить… Советская история, препарированная Сталиным, приобретает вид чудовищного гибрида: национализма и марксизма… Схема ортодоксального марксизма о борьбе классов хитроумно увязывается со схемой ортодоксального национализма» (8, с. 289–290). Собственно, о том же писал Э. Морен: «Исторический гений Сталина заключается в том, что он совершил интеграцию социализм↔нация, одновременно создав религиозную марксократическую власть, аналог власти теократической: и та и другая являются держателями абсолютной Истины, Авторитета… Сталин понимал значение идей, мифа, контроля за коммуникацией, манипулирования информацией, в то время как марксизм, замкнувшийся на “производительных силах”, был и продолжает оставаться совершенно несостоятельным в этих областях» (45, с. 90, 122).
[Закрыть]. Характер синтеза был обусловлен спецификой режима – в нем соединялось несоединимое: акцент на национальное (т.е. традиционное) сочетался с «социалистической» переделкой «пережитков старого мира», а интегративная национальная идея – с разобщающей идеологией классовой борьбы, главное требование которой – «убей врага!» (как вне, так и внутри страны). На практике получалась совершенная нелепица, последовательное извращение каждой из идей.
Социалистическое переустройство было неосуществимо без национальной солидарности/сплочения, а велось в режиме перманентной гражданской войны. Устойчивого ощущения общности в таких условиях возникнуть не могло. Советский народ 30-х – лишь пропагандистское режимное клише. Идеологией «строительства социализма в одной стране» были в одно и то же время национализм/национальное (это естественно: то, что получалось, строили все же во вполне – исторически, географически, культурно – определенном пространстве) и борьба с ним. Интегративная идея «социалистического национализма» в большевистском, ленинско-сталинском, варианте означала «коренную переделку» традиционного русского человека и его жизненного уклада. Это демонстрировала национальная практика социалистического строительства – прежде всего коллективизация и культурная революция. Только в корне «переделанная» (т.е. утратившая важнейшие признаки, качества национального) нация могла считаться «в основном социалистической». Конструируя и культивируя национализм, режим в то же время уничтожал его естественную основу. В качестве же традиционного сохранялось только то, что было полезно для режимной стабильности: культура несвободы и репрессивности, ориентации на подчинение/«подданичество», иерархичность, милитарность, страх другого и т.п.
Таким образом, от власти в 1930-е годы одновременно поступали как интеграционные, так и дезинтегрирующие импульсы, что вело к социальному расстройству (перманентному кризису – психологическому, этическому, культурному). Тем не менее следует признать, что именно в конце 1930-х обозначился идеологический проект, который был способен обеспечить советской власти общественную поддержку. Наибольший эффект давало самоотождествление с патриотизмом, отсылающим к прошлому, национальным традициям, и с прогрессом, т.е. революционным социальным проектом, образом социалистического и интернационального будущего (создание «светлого завтра» для всего человечества – это завораживающе высокая претензия)160160
Все элементы этого проекта имели мощный мобилизационный потенциал; при этом по-разному воздействовали на различные социальные слои. Скажем, для выживших «старых элит», а также для менее образованных и более пожилых советских людей более значима была связь с традицией (через культуру и традиционные институты, начиная с православной церкви); для молодых (особенно образованных горожан) – идея социалистического прогресса. И т.д.
[Закрыть]. Но в 30-е проект был именно обозначен, последовательно же не реализовывался. Режим применял его фрагментарно, ситуативно, с циничным прагматизмом: энтузиазм строителей пятилеток направлялся и поддерживался обещанием социализма и его ожиданием; в войну делалась ставка на патриотизм.
«Развитой сталинизм» есть сложное соединение примитивных, противоречащих друг другу стратегий «переработки» исходной социальности. И национально-патриотическая идея служила той же цели – «переработать» в интересах режима161161
Национализм, имевший преимущественно милитарный, мобилизационный характер, культивировался властью по причине своей «полезности»: «Сталин использует (берет на вооружение) русский национализм, как он использовал множество других самых различных кирпичей для строительства своей империи. Русский национализм необходим Сталину для легитимизации своей власти…» (8, с. 260).
[Закрыть]. Скрепляющим началом для всех этих конфликтующих между собой стратегий могло стать лишь принуждение (тотальное государственное насилие, угроза насилия, страх перед насилием). Только примитивнейшее управленческое средство способно заставить работать социальный механизм в крайне травматичных для него условиях. Однако военная реальность настоятельно требовала иных средств, иных стратегий. Первоочередной была нужда в согласии и определенности: режим и народ «договорились», признав защиту Отечества единственной ценностью, основой всеобщего сплочения и мобилизации. Это договор на уровне высоких, «предельных» даже ценностей, существо которого очень точно передал потом Б. Окуджава: «Мы за ценой не постоим». Он скреплен патриотизмом стоявших насмерть, но не сдавшихся. На такой высоте невозможно было держаться долго; военный патриотический проект был обречен поэтому на краткосрочность; подлежал пересмотру после войны.
Из этого «договора» и родился властенародный режим, который только и способен побеждать в Отечественных. Местом рождения стал Сталинград (хотя и Москва была важнейшей вехой на этом пути)162162
Не случайно именно в тот момент, во время битвы под Москвой, «возвращается» власть. Сталинград качнул опять к «Сталин-системе», с лихвой вернул власти растраченную в поражениях властную субъектность. Почти полностью утратив легитимность летом-осенью 1941 г., власть наращивала ее от победы к победе. Она не только вела и направляла, руководя рутинной военной работой, но и «сосредоточивалась», готовясь к новому броску на социум, к новому этапу его «переработки». В этом суть сталинской власти: она не могла не «перерабатывать», используя привычное средство – репрессию, принуждение. Ее проблема была в том, что военно-послевоенный социум «перерос» это средство.
[Закрыть]. Не было больше – в высоком, высшем даже смысле – отдельно власти, отдельно народа; они слились – и устремились к общей Великой Победе. (То же, замечу, случилось в 1812 г. после освобождения столицы.) Одновременно произошло взаимопроникновение режимного и народного. Режим растворился в народном, народ в советском (одно из внешних проявлений этого – массовое «хождение» фронтовиков в партию). Произошел «коренной перелом» – не только военный, но и ментальный, имевший важнейшие социальные последствия.
Война 1941–1945 гг. стала самым тяжелым потрясением в нашей современной истории, изменившим и народ, и власть. Трансформировались сами основы существования режима. Величие и трагедия Отечественной высветила его неправду, дав ему в то же время подлинную, живую легитимность. Причем легитимность традиционную, укорененную в культуре: сражавшейся вместе с народом и во главе его власти. Народ же обрел в Отечественной собственную идентичность – тоже через связь с историей, традицией. В войне сформировалась основа «властенародного» единства; ею были заложены основы «новой исторической общности людей».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































