Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
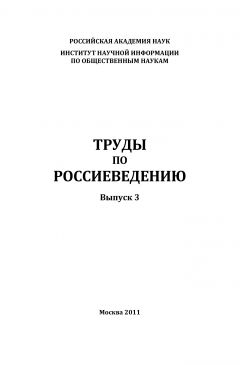
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
А. Рунов одним из доказательств того, что СССР не готовился к агрессии, считает строительство укрепленных районов («линия Молотова») на новой государственной границе: «Нельзя допустить, что сторона, собирающаяся осуществить наступление на территорию противника, станет тратить такие средства на оборону своей территории» (25, с. 21). Другое дело, что «командующие и командиры, имея на руках план прикрытия государственной границы, участвуя в реализации мероприятий инженерного обеспечения этого плана, были уверены, что до проведения масштабных оборонительных операций и боев дело не дойдет, и морально готовили подчиненные штабы и войска к последующим наступательным действиям на территории противника» (25, с. 415). Сооружение укрепленных районов, сопряженное с огромными затратами времени, сил и материалов, на первый взгляд, действительно с трудом вписывается в гипотезу о подготовке к нападению на Германию, тем более что, по данным новейших исследований (см., например: 39), речь шла не о демонстративном строительстве, как в свое время предполагал В.А. Суворов, а о том, чтобы в самом деле в кратчайшие сроки прикрыть наиболее угрожаемые направления на новой границе современными укреплениями (см. карту: 39, с. 11).
Следует, однако, учитывать, что советские стратегические планы вплоть до марта 1941 г. включительно строились на основе доктрины «ответного удара» и на начальный период войны действительно предусматривали оборонительные действия войск прикрытия с опорой на укрепленные районы, хотя и могли быть использованы не только для отражения агрессии, но и для начала боевых действий по инициативе самого СССР. Только майский план 1941 г. предусматривал вторжение на территорию противника главных сил Красной армии, скрытно отмобилизованных и развернутых на границе еще в мирное время (ср.: 20, с. 421).
В.Л. Петров в своем очерке, посвященном особенностям советской политической системы в предвоенный период, также усомнился в агрессивных намерениях Сталина, поскольку в СССР в те годы так и не было создано эффективного механизма стратегического руководства вооруженными силами, что подтвердили первые дни Отечественной войны (8, с. 71). Аргумент этот, впрочем, представляется малоубедительным, ведь эффективное командование требуется и в оборонительной войне, и его отсутствие в Советском Союзе в июне 1941 г. говорит скорее о том, что Сталин просто не обращал внимания на эту проблему.
М.И. Мельтюхов, напротив, настаивает, что СССР действительно готовился к нападению на Германию. Проведенный им анализ опубликованных к настоящему моменту советских стратегических и оперативных планов 1940–1941 гг. (18; 19, с. 281–313) показывает, что все они с самого начала были выдержаны в наступательном духе и рассчитаны не столько на отражение агрессии, сколько на начало войны по инициативе СССР. В наибольшей степени это относится к плану от 15 мая 1941 г. Начавшееся весной 1941 г. скрытное развертывание советских войск на западном театре подтверждает, что этот план был утвержден Сталиным и введен в действие. В то же время анализ ряда материалов, преимущественно пропагандистского характера, иллюстрирующих общее настроение советских руководителей накануне войны, показывает, что в Кремле вопреки распространенным в историографии представлениям не испытывали страха перед военной мощью Германии и были вполне уверены в боевых возможностях Красной армии (см.: 19, с. 314–340). О готовности СССР к нападению на Германию, по мнению автора, рассуждать бесполезно, поскольку оно так и не состоялось. Однако можно предполагать с достаточной степенью вероятности, что, если бы не перенос сроков нападения с 12 июня на июль, то у Советского Союза были бы вполне реальные шансы выиграть войну уже в 1942 г. (19, с. 380–382).
Близкой точки зрения придерживается П.Н. Бобылев (5; 7). Стратегические планы, разработанные в Москве в августе 1940–марте 1941 г., он, однако, считает все же планами отражения агрессии и ответного удара, а не нападения на Германию. Майский план 1941 г. был, по его мнению, планом упреждающего удара с целью сорвать готовящуюся нацистскую агрессию. Как и Мельтюхов, Бобылев полагает, что этот план был утвержден Сталиным, о чем свидетельствуют советские военные приготовления в мае–июне 1941 г.
Полемику по вопросу о целях советской военной политики в 1939– 1941 гг. затрагивает в своей книге и К. Беллами (30), тем более что с Суворовым он знаком лично. Анализируя его концепцию в свете последних исследований и с учетом вновь рассекреченных документов (в первую очередь, разумеется, советских стратегических планов 1940–1941 гг., которые были еще секретными в то время, когда писался «Ледокол»), Беллами в принципе соглашается с тем, что интенсивная подготовка Советского Союза к наступательной войне подтверждается целым рядом косвенных доказательств, как и с тем, что началом тайной мобилизации в СССР необходимо признать принятие 1 сентября 1939 г. Закона о всеобщей воинской повинности, позволившего Сталину резко увеличить численность Красной армии. Он настаивает также, что майский проект стратегического плана 1941 г. был составлен в Генеральном штабе по поручению Сталина и частично введен в действие в мае–июне.
В целом, однако, автор склоняется к значительно менее радикальной интерпретации событий 1939–1941 гг., нежели Суворов, предполагая, что нападать на Германию Сталин в 1941 г. все же не собирался, поскольку не мог не осознавать, что Красная армия к такой войне не готова. Если он и рассчитывал, заключая в августе 1939 г. договор с Германией, что война между Третьим рейхом и западными демократиями приведет к их взаимному истощению и тем самым создаст необходимые предпосылки для советского вторжения в Европу (как думал Суворов), то после поражения Франции в 1940 г. эти надежды явно рухнули. Таким образом, заключает Беллами, можно предположить, что на 1942 г. Сталин действительно планировал нападение на Германию и в уже упоминавшейся записке Жукова и Тимошенко от 15 мая 1941 г. содержался предварительный замысел такой операции. Но в 1941 г. Советский Союз должен был, по возможности, оставаться вне войны, к чему, по мнению автора, и стремился генсек.
Джон А. Лукач (США) также полагает, что Сталин действительно рассчитывал воспользоваться начавшейся в Европе войной для дальнейшего расширения территории СССР, однако старался сохранять нейтралитет как можно дольше, думая, что время работает на него (см.: 35).
В связи с вопросом о целях советских военных приготовлений первой половины 1941 г. продолжает обсуждаться и проблема применения термина «превентивная война». Дискуссия по этому вопросу осложняется неопределенностью самого понятия, а также тем, что тезис о превентивной войне против СССР в свое время активно использовался гитлеровской пропагандой. Как следствие, многие авторы по сей день обвиняют В.А. Суворова в попытках оправдать нацистскую агрессию против нашей страны, тогда как на самом деле автор «Ледокола» скорее обвиняет сталинское руководство в том, что оно своей экспансионистской политикой спровоцировало нападение немцев и, таким образом, несет свою долю ответственности за трагедию 1941–1945 гг. Кроме того, с появлением в открытой печати советских стратегических планов, особенно майского плана 1941 г., возник вопрос о применимости термина «превентивная война» к действиям самого СССР.
Одно из возможных решений описанной проблемы предлагает Мельтюхов: нацистская агрессия против Советского Союза не может считаться превентивной войной, а советские военные приготовления в первой половине 1941 г. – подготовкой к упреждающему удару с целью сорвать германское вторжение, поскольку в Берлине не ожидали нападения со стороны СССР в 1941 г., равно как и в Москве не опасались нападения немцев в ближайшие месяцы (19, с. 379).
Ряд авторов разграничивают такие понятия, как превентивный удар и упреждающий удар. В завершенном виде этот подход представлен в монографии Беллами. Под упреждающей войной (pre-emptive war) он понимает «действия, направленные на упреждение или отражение “близкой и губительной” угрозы», тогда как под превентивной войной (preventive war) – «действия, направленные на то, чтобы предупредить материализацию еще не существующей угрозы» (30, с. 102; в качестве примера превентивной войны Беллами приводит вторжение американцев в Ирак в 2003 г.). При этом в книге подчеркивается, что если упреждающая война «имеет почтенную родословную в международном праве», то к превентивной войне оно «менее благосклонно» (30, с. 102). Таким образом, нападение Германии на СССР не может считаться упреждающим ударом, поскольку нацистское руководство не ожидало в 1941 г. нападения со стороны Советского Союза. Советский стратегический план от 15 мая 1941 г. также не может считаться планом упреждающего удара, поскольку Сталин был уверен, что Гитлер не станет нападать на СССР пока продолжается война между Германией и Великобританией. В то же время понятие превентивной войны вполне применимо к действиям как гитлеровского, так и сталинского руководства.
Такой подход позволяет не только преодолеть терминологическую путаницу, но и разрешить этические коллизии, возникающие при обсуждении «проблемы превентивного удара», поскольку превентивная война в том смысле, какой вкладывает в это понятие Беллами, с точки зрения международного права является акцией по меньшей мере сомнительной и, следовательно, не может считаться оправданием нацистской агрессии против СССР.
Была ли Красная армия готова к войне?
Вопрос, была ли Красная армия в 1941 г. готова к войне с Германией, также остается предметом оживленных дискуссий, особенно в связи со спорами о «проблеме превентивного удара». Ситуацию осложняет неопределенность самого понятия готовности к войне, критерии и методология оценки которой до сих пор не были предметом специального анализа. В этих условиях любые суждения по этому вопросу страдают неизбежным субъективизмом. Следует учитывать и то обстоятельство, что наши сегодняшние оценки боеготовности РККА в 1941 г. базируются, помимо всего прочего, на наших знаниях о ходе и результатах боевых действий в 1941– 1945 гг. и, следовательно, вовсе не обязательно должны совпадать с оценками, бытовавшими в Кремле и среди советских военачальников в предвоенные годы. Тем не менее в литературе до сих пор распространена точка зрения, согласно которой Сталин не мог не осознавать, что Красная армия к войне не готова, и, следовательно, не мог планировать нападение на Германию. Эту позицию отстаивает, к примеру, Орлов (24, с. 391–393), а также, с некоторыми оговорками, Беллами (30) и Мэрфи (37). Ее же придерживался и Безыменский (4).
В.Н. Свищев, напротив, считает неправильными (и даже вредными) попытки некоторых исследователей представить нашу страну неготовой к войне, слабой, отсталой и плохо вооруженной. В своей книге (28, т. 1) он доказывает, что Красная армия к 1941 г. по технической оснащенности не уступала вермахту, а во многом (в первую очередь по количеству и качеству самолетов и танков) даже превосходила его. В то же время обороноспособность страны сильно подорвали репрессии в вооруженных силах: «В результате репрессий у руководящего состава не только ослаблялись такие качества, как инициатива и творческий подход к делу, но возникали и естественные чувства неуверенности, подозрительность к своим сослуживцам, обнаруживалась боязнь проявить высокую требовательность к подчиненным» (28, т. 1, с. 381). Результатом репрессий автор считает и нехватку квалифицированных командиров к июню 1941 г.
Д.Б. Лошков также оспаривает представление о неготовности СССР к войне с Германией: и в экономическом, и в техническом, и в моральном отношениях уровень подготовленности к большой войне к июню 1941 г. был довольно высоким, а пропаганда среди командного состава армии в 1939–1941 гг. была организована в «наступательном» духе (17). Причинами неудач РККА в первые месяцы войны, по его мнению, необходимо признать политические и стратегические просчеты Сталина накануне ее начала, а также принципиальный недостаток сталинской системы, в которой решение всех важнейших вопросов замыкалось на одном человеке.
В.П. Кожанов в очерке, посвященном советской экономике накануне войны, пришел к выводу, что к 1941 г. СССР удалось создать достаточно мощную военно-промышленную базу и в целом догнать уже воюющую Германию по темпам производства вооружения и военной техники. Кроме того, была создана система централизованного руководства экономикой, что позволяло при необходимости в кратчайшие сроки увеличить производительность оборонной промышленности еще в несколько раз. Таким образом, в экономическом отношении СССР был готов к войне; даже в тяжелейших условиях 1941–1942 гг. советской стороне удалось довольно быстро вновь сравняться с Германией в производстве военной продукции, а затем и превзойти ее (8, с. 78–79).
Кожанов отметил также существовавшую перед войной диспропорцию «между производством основных видов вооружения и производством обеспечивающих их боевую деятельность компонентов – горючего, боеприпасов, транспорта, средств связи, инженерного вооружения, средств ремонта техники» (8, с. 79). К сожалению, он не затронул вопроса о связи между этой диспропорцией и характерной для советского руководства в те же годы гигантоманией, проявившейся, к примеру, в создании колоссальных по численности танковых войск (свыше 24 тыс. танков в строю при запланированной штатной численности свыше 30 тыс.) и в производстве боеприпасов (см., например: 26, с. 221–222), обусловленной, по-видимому, спецификой существовавших представлений о характере и масштабах будущей войны.
В. А. Рунов в своей работе прежде всего отмечает, что мало иметь сильную армию, чтобы победить противника, – надо еще обладать военным искусством, которого, как показывается в книге, у советских военачальников в начале войны не было: «Правомерно начало Великой Отечественной войны рассматривать не только с позиции наличия и соотношения сил и средств, как это делают многие современные исследователи, но также и со стороны наличия военного искусства применения их в бою и операции» (25, с. 9). Проводя сравнительный анализ подготовки командного состава Красной армии и вермахта, он обращает внимание на их сильное различие: «В германской армии свыше 85% военачальников высших рангов имели академическое образование, 90% офицеров в звене рота – полк были выпускниками военных училищ» (25, с. 413). В РККА же на 1 января 1941 г. лишь 7,1% командно-начальствующего состава имели высшее образование, «55,9 – среднее, 24,6 – ускоренное, 12,4% – не имели военного образования» (25, с. 413). Отмечаются также низкая квалификация летчиков и танкистов, неопытность командиров. Весьма негативно на состояние войск западных округов подействовали репрессии 1937–1940 гг.
Учитывая такой разброс оценок, трудно не согласиться с Мельтюховым, по мнению которого «вопрос о реальной боеспособности Красной армии накануне войны еще ждет своего исследователя» (19, с. 335).
Общая оценка политики Сталина
Уместны ли в научном исследовании по истории оценочные суждения – вопрос едва ли не такой же «вечный», как и вопрос об отношении истории к «сослагательному наклонению», и, надо сказать, едва ли не такой же сложный. В самом деле, история недолюбливает сослагательное наклонение в том смысле, что конструирование сколько-нибудь продолжительных альтернативных историй – занятие практически бесперспективное, поскольку ни один исследователь не в состоянии учесть все бесконечное многообразие факторов, которые постоянно вмешиваются в исторический процесс (едва ли не самый непредсказуемый из них, как известно, – человеческий). В то же время очевидно, что работа историка не сводится к простому коллекционированию фактов; ее составной частью является выявление важнейших тенденций развития. Следовательно, возможен анализ не только тех результатов, к которым привела возобладавшая в действительности тенденция, но и иных, возникших под воздействием альтернативных тенденций в известных историку условиях (в конце концов, любое научное прогнозирование сводится к анализу того, куда приведут происходящие в настоящий момент процессы, если не вмешаются какие-либо иные, не известные пока факторы). Анализ отвергнутых (или упущенных) альтернатив содействует более глубокому и всестороннему пониманию прошлого – разумеется, если не придерживаться крайнего детерминизма, полностью исключающего какие-либо альтернативы; в этом случае, впрочем, под сомнением оказывается сама возможность познания.
Появление в исторических исследованиях оценочных суждений, в свою очередь, связано не только с упомянутым стремлением рассмотреть отвергнутые альтернативы, но и с тем, что целью историка является не одно лишь выявление абстрактных механизмов исторического процесса, но и понимание людей ушедших эпох, а сама историческая наука выполняет в обществе помимо познавательной еще и функцию смыслообразующую. Не случайно оценочные суждения встречаются даже в тех работах, авторы которых открыто заявляют о своем намерении воздерживаться от них, равно как авторы, объявляющие своей целью «показать только факты», редко в действительности воздерживаются от выводов. Таким образом, стремление оценить не только настоящее, но и прошлое является, по-видимому, вполне естественным побуждением человека, пытающегося найти свое место в настоящем, выстроить собственную систему координат. Тем интереснее взглянуть на оценочные выводы, существующие в историографии, особенно если речь идет о такой болезненной теме, как 1941 год.
Дискуссии об общей оценке политики Сталина в предвоенный период и в начале Отечественной войны развиваются в основном по двум направлениям: вокруг вопросов об интерпретации ее целей и мотивов (был ли Сталин коммунистом, прагматиком-националистом, традиционалистом и т.д.) и ее «качества» (была ли внешняя и военная политика Сталина оправданной или ошибочной, преступной, аморальной или же, напротив, отвечала по крайней мере интересам населения СССР). Естественно, что ответы на эти вопросы зачастую определяются не только (и даже не столько) исследуемым фактическим материалом, сколько особенностями мировоззрения и ценностными установками отдельных авторов.
К числу исследователей, считающих советского «вождя» скорее прагматиком-националистом, нежели фанатиком-марксистом, принадлежит, в частности, Дж. Лукач. В своей работе (35) он приходит к выводу, что Сталин в 1930-е–начале 1940-х годов руководствовался не столько коммунистической, сколько этатистской идеологией. Такая позиция, в свою очередь, предопределила его обращение к национализму и империализму. Сходную точку зрения отстаивает и Мельтюхов (19), по мнению которого определяющим мотивом в действиях Сталина являлись прежде всего геополитические соображения, тогда как коммунистическая идеология играла второстепенную роль. А.Л. Сафразьян, напротив, настаивает, что политика как Советского Союза, так и Третьего рейха была идеологически детерминирована (27). Это не исключало прагматических решений (например, пакт Молотова–Риббентропа), но лишь как временную меру на пути к достижению конечной цели. Д. Мэрфи также не соглашается с представлением, будто Сталин был не революционером, а политиком-прагматиком, и настаивает, что «вождь народов», оставаясь убежденным коммунистом, лишь несколько ослабил революционную риторику из тактических соображений. Нацеленность генсека на то, чтобы «добиваться истощения капиталистов/империалистов в войнах», он считает проявлением ленинской идеологии, а не национализма или государственничества (37, с. 24).
Целый ряд авторов открыто оправдывают политику Сталина. О.В. Вишлев, к примеру, пытается доказать, что заключение пакта Молотова–Риббентропа было мотивировано заботой об обеспечении безопасности Советского Союза в условиях назревающей мировой войны, а сам по себе пакт (включая секретный протокол!) не представляет собой ничего предосудительного, поскольку не содержит явных обязательств сторон осуществить агрессию против Польши или прибалтийских государств и в принципе не является чем-то новым для дипломатической практики того времени (9). Более того, пакт может расцениваться как успех советской дипломатии, поскольку границы СССР были отодвинуты дальше на запад. В противовес авторам, критикующим излишне доброжелательную позицию СССР по отношению к Германии в 1939–1941 гг., Вишлев подчеркивает сложный, конфликтный характер советско-германских отношений. А.В. Исаев в своих работах, посвященных боевым действиям на Восточном фронте летом–осенью 1941 г. (13; 14), не считает ошибочной советскую «наступательную» стратегию, а поражения Красной армии в исследуемый период объясняет исключительно объективными факторами.
К числу фактических защитников Сталина принадлежит, к сожалению, и Мельтюхов. Экспансионизм и военная агрессия представляются ему едва ли не единственной формой соперничества государств на международной арене; с этой точки зрения советский экспансионизм, в том числе и пакт Молотова–Риббентропа, также не следует считать чем-то предосудительным: «Конечно, Москва была заинтересована в отстаивании своих интересов, в том числе и за счет интересов других, но это, вообще-то, является аксиомой внешнеполитической стратегии любого государства. Почему же лишь Советскому Союзу подобные действия ставят в вину?» (19, с. 220–221, 370). Кроме того, утверждает Мельтюхов, у Советского Союза были законные права на территории, приобретенные в 1939– 1940 гг., так что «в этом смысле невозможно не присоединиться к мнению Н.М. Карамзина: “Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое”» (19, с. 370–371). Наконец, победа СССР в результате нападения на Германию была бы благом для всего мира, поскольку создание в Старом Свете большевистского сверхгосударства «на основе русской советской традиции всеединства и равенства разных народов (sic! – М. М.) в гораздо большей степени отвечало интересам подавляющего большинства человечества, нежели реализуемая ныне расистская по своей сути модель “нового мирового порядка” для обеспечения интересов “золотого миллиарда”» (19, с. 382).
Некоторые авторы критикуют лишь отдельные решения Сталина. Так, А.С. Орлов соглашается с тем, что секретные протоколы к пакту Молотова–Риббентропа «аморальны, незаконны и недействительны» (24). Тем не менее в целом договор о ненападении с Германией, по его мнению, являлся благом для СССР, поскольку отодвигал границы страны дальше на запад. Уравнивание сталинского режима с нацистским Орлов считает необоснованным. В.Н. Свищев в своей работе отмечает, что именно на Сталине в первую очередь лежит ответственность за репрессии в армии, сильно подорвавшие обороноспособность СССР в преддверии войны. Кроме того, к причинам неудач РККА в летне-осенней кампании 1941 г. он относит целый ряд допущенных «вождем» политических и стратегических ошибок. Тем не менее, по мнению Свищева, «виновность Сталина в массовых репрессиях по отношению к партийным, советским и военным кадрам не умаляет его роли в создании первого в мире социалистического государства и достижении победы в Великой Отечественной войне, начавшейся так неудачно» (28, т. 1, с. 383). «Эта двойственность личности Иосифа Виссарионовича, – продолжает автор, – является проявлением особенностей того сложного времени» (28, т. 1, с. 383–384).
А.О. Чубарьян, анализируя советскую внешнюю политику в 1939– первой половине 1941 г. (29), последовательно обосновывает аморальность действий сталинского руководства. Он доказывает, что решение Сталина заключить договор с Германией не было продиктовано опасениями быть вовлеченным в большую войну. Напротив, мотивы советской стороны были вполне циничными: Гитлер, стремясь любой ценой обеспечить нейтралитет СССР в предстоящей германо-польской войне, предложил Москве заведомо более соблазнительные условия (раздел Восточной Европы и возвращение в зону советского влияния территорий, ранее входивших в состав Российской империи), чем она могла бы добиться на переговорах с Великобританией и Францией. Договор с Германией в такой ситуации просто показался Сталину наиболее выгодным и надежным.
Анализируя процесс заключения договоров о взаимопомощи со странами Балтии, автор показывает предельно жесткий, ультимативный характер советских требований, отсутствие с советской стороны всякого стремления к взаимовыгодному компромиссу. Он отмечает также, что выборы в парламенты Эстонии, Латвии и Литвы, проведенные под советским нажимом летом 1940 г., проходили по советскому же образцу, на безальтернативной основе, с одним кандидатом, что во многом предопределило их благоприятные для советской стороны результаты. Упоминается в книге и о том, что к числу основных аргументов в пользу принятия советских требований, обсуждавшихся в Таллине, Риге и Каунасе в 1939–1940 гг., относилась и неспособность оказать вооруженное сопротивление советскому нажиму, а переход в советскую зону влияния и последующее присоединение к СССР воспринимались как выбор меньшего из зол по сравнению с опасностью, исходившей от Германии.
На многочисленных примерах Чубарьян показывает, что прогерманская ориентация советской внешней политики в 1939–1940 гг. была явно избыточной. Такие меры, как заключение договора о дружбе с нацистским рейхом, свертывание антифашистской пропаганды, более того – переход к публичному оправданию нацизма как идеологии и переориентация зарубежных компартий на фактическую поддержку германской политики, не были необходимы даже с точки зрения сохранения нейтралитета СССР в начавшейся Второй мировой войне. Напротив, налаживая все более тесные связи с Германией, Советский Союз в известной мере оказался заложником ее политики, упустив возможность своевременно «уравновесить» улучшение отношений с ней развитием связей с англо-французским блоком и США. Впоследствии это сыграло только на руку Гитлеру, который после разгрома Франции в 1940 г. уже не так сильно, как в 1939-м, нуждался в советской поддержке и мог позволить себе действовать, не считаясь с позицией СССР.
Сходной точки зрения придерживался А.А. Безыменский (4). Весьма критически сталинскую политику оценивает и Д. Мэрфи (37). Д. Гланц (США) в своей монографии «Барбаросса» рассматривает советскую «наступательную» доктрину как одну из причин катастрофических поражений Красной армии летом–осенью 1941 г. (33, с. 16, 206).
Джефри Робертс (Ирландский национальный университет, Корк), описывая в книге «Войны Сталина: От мировой войны до холодной войны, 1939–1953» (38) промахи, допущенные Сталиным накануне и в начале Отечественной, отмечает также его способность учиться на своих ошибках: к осени 1942 г. он начал гораздо охотнее прислушиваться к своим генералам, что позволило ему продолжать войну с бо́льшим успехом, нежели в предшествующие месяцы. Это обстоятельство, а также то, что Сталину, несмотря на допущенные просчеты, удалось все же избежать в 1941 г. полного поражения СССР в войне с Германией, побуждает автора дать советскому диктатору как военному руководителю в целом положительную оценку. Более того, Робертс полагает, что в условиях созданной Сталиным тоталитарной системы по-настоящему эффективно руководить Советским Союзом в тотальной войне мог только сам Сталин. Автор специально оговаривает, что такие оценки не должны рассматриваться как оправдание сталинских преступлений, но позволяют глубже понять сам феномен сталинской системы, ее сложную и противоречивую природу и столь же сложные и противоречивые последствия.
Заключение
Как видим, минувшее десятилетие оказалось довольно плодотворным и для отечественной, и для зарубежной историографии войны на Восточном фронте. В российской науке продолжается освоение комплекса источников, ставших доступными в постсоветские годы. Значительным достижением на этом пути стало появление на свет ряда фундаментальных обзорных трудов по истории советской внешней и военной политики в 1939–1941 гг. Заслуживает внимания также работа по осмыслению несобытийной подоплеки изучаемых процессов, хотя она и находится пока на начальной стадии. За рубежом окончание холодной войны и возможность доступа к рассекреченным документам бывших советских архивов позволили вывести изучение предыстории советско-германского конфликта и его начального периода на принципиально новый уровень. Сильными сторонами западной историографии являются комплексный, системный подход к изучаемому материалу, идеологическая непредвзятость (благо авторы находятся в стороне от российских споров о прошлом), более смелое использование разнообразных методологических новшеств. Из последних наиболее примечательны история повседневности, использование источников обеих враждующих сторон при изучении истории боевых действий, анализ изучаемых событий в более широком историческом контексте и т.д. Следует отметить также преобладающий в зарубежных работах стиль изложения – спокойный, взвешенный, благожелательный к оппонентам. Здесь есть чему поучиться многим российским авторам.
В отечественной историографии событий 1939–1941 гг. сосуществуют несколько направлений. Многие исследователи старшего поколения – такие как Безыменский, Чубарьян, не упоминавшийся в этой статье С.З. Случ – продолжают работать в рамках парадигмы, сложившейся еще на излете перестройки. Ее сильной стороной является последовательно критическое отношение к политическому курсу сталинского руководства. Это важно не только в ценностном плане (как необходимый шаг к переосмыслению и преодолению тоталитарного прошлого), но и в сугубо научном, поскольку позволяет полнее и глубже постичь внутреннюю механику изучаемых процессов. Представители этого направления до сих пор еще вынуждены доказывать тезисы, выработанные, в сущности, уже довольно давно: не только французская и британская, но и советская дипломатия не была настроена на построение новой антигерманской Антанты летом 1939 г., поскольку решение о сближении с нацистской Германией было принято, по-видимому, еще до начала англо-франко-советских переговоров; заключение пакта с Гитлером было продиктовано экспансионистскими мотивами, а не необходимостью укрепить обороноспособность СССР; расширение советских границ в 1939–1940 гг. было результатом агрессивных по сути своей действий Москвы, а не «добровольного волеизъявления» белорусов, украинцев, прибалтийских народов; вплоть до лета 1940 г. советско-германские отношения развивались вполне конструктивно, несмотря на разногласия по отдельным частным вопросам, а стремление Сталина к их дальнейшему углублению было явно чрезмерным даже с точки зрения сохранения нейтралитета в начавшейся Второй мировой войне и крайне вредным для самого Советского Союза.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































