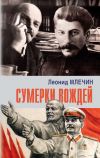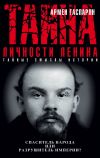Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
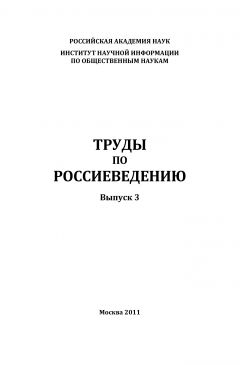
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
В равной степени преданные дисциплине и коллективу сталинский строитель социализма и нацистский «сверхчеловек» двигались к разным целям: один шел по пути исторического прогресса, к светлому будущему всего человечества, другой – к красоте и силе расы господ. Тем не менее оба представляли собой варианты нелиберальной модерности; реализация обоих проектов повлекла за собой высвобождение громадной разрушительной энергии, заключают авторы (с. 340–341).
Четвертая часть книги озаглавлена «Переплетения» и рассматривает взаимодействия двух режимов: с одной стороны, их смертельную схватку в 1941–1945 гг., с другой – культурные связи и взаимовосприятие.
В первой из глав этой части М. Эделе и М. Гайер анализируют военное столкновение между СССР и Германией – самую разрушительную войну ХХ в. – как систему насилия, жесточайший антагонизм, разворачивавшийся в более широких рамках войны мировой. Признавая, что знание о советской стороне остается по-прежнему неполным, авторы тем не менее предпринимают попытку сделать определенные заключения о характере столкновения, его ходе и результатах. Системный подход М. Эделе и М. Гайер реализуют в ряде положений, основанных на большом корпусе исследовательской литературы.
Во-первых, пишут они, не следует считать источником беспримерного уровня смертности на этом театре военных действий ни разрушительную идеологию той или иной стороны, ни универсальную динамику тотальной войны. Тот факт, что с самого начала война велась абсолютно необузданно, явился следствием взаимной враждебности двух стран. Она не была «конвенционной»; то была схватка не на жизнь, а на смерть, в которой все средства для победы были хороши. Сознательно убрав преграды насилию, обе стороны запустили – каждая в свое время – беспощадный процесс его эскалации, который начинался на местах и шел снизу вверх (с. 348–349).
Во-вторых, это была полномасштабная гражданская война между двумя милитаризованными государствами. Имеется в виду, что она велась с участием общества и против него, что является умышленным нарушением военной традиции. Логика эскалации такой войны заключается в том, что происходит ее радикализация, и она превращается в войну на полное уничтожение; ее компонентом явился Холокост, а характерной чертой – варваризация (с. 349–350).
В-третьих, следует учитывать асимметричный характер ведения военных действий. Война на Востоке началась со стремительной эскалации ничем не ограниченного насилия с немецкой стороны (когда практика превосходила идеологию) и парировалась явным усилением варваризации в ходе защитных мер Советов. Это, в свою очередь, вызвало радикализацию со стороны агрессора. Тотальная оборонительная война СССР в ответ на германское вторжение мобилизовала всю нацию и велась и на фронте, и в тылу врага. В 1941–1942 гг. для Германии она стала войной на уничтожение, имевшей целью истребление внешних и внутренних врагов и ограбление завоеванных территорий Советского Союза (с. 350).
В-четвертых, на психологическом и субъективном уровнях следствием эскалации насилия был процесс «брутализации» (озверения). Этот термин, пишут авторы, более всего подходит для описания и анализа «страстей войны» (по Клаузевицу). Солдаты обеих воюющих сторон совершали невероятные зверства, причем в этом участвовали не только подготовленные к насилию «кадры тоталитаризма», но и обычные люди. Ими владели чувство безнаказанности и убеждение в справедливости своих действий. И здесь авторы также отмечают наличие асимметрии: с немецкой стороны даже «страсти войны» чаще приводились в движение холодным расчетом, по отношению к которому гнев, страх и ярость солдат были второстепенны; преобладал высокий уровень дисциплины. Советская сторона, наоборот, систематически выпускала «страсти войны» на волю, что сочеталось с жестокостью по отношению к собственным солдатам. К сожалению, эти страсти невозможно было остановить, и в 1944–1945 гг., когда это было особенно вредно по политическим соображениям, советские солдаты в Восточной Европе и Германии «продолжали неистовствовать» (с. 351).
В главе подробно рассматриваются планы операции «Барбаросса» и подчеркивается, что, хотя задачей военных и являлось достижение быстрой победы любыми путями, «обращение к абсолютному, неограниченному насилию было целиком идеологическим» и обосновывалось самим Гитлером (с. 355). Планы военных, нацеленные на массовое уничтожение, привели к эскалации насилия в первые месяцы войны в условиях, когда вермахт чувствовал себя непобедимым. Говорить о том, что ответные удары Красной армии спровоцировали эскалацию немецкого насилия, а также возлагать ответственность на советскую сторону, легкомысленно, пишут авторы. СССР лишь противостоял нападению Германии и сорвал планы быстрой победы (с. 359).
Обращаясь к характеристике советской стороны, авторы отмечают милитаризованный характер советского общества, которое к тому же прошло через войны и революции. В этих конфликтах и родилась та ментальность, которая подготовила почву для сталинизма. Опыт неограниченного насилия сформировал основы советской реакции на вторжение, считают М. Эделе и М. Гайер. Войны ждали давно, к ней готовились и были готовы, по крайней мере психологически, и когда советская пропаганда объявила войну любыми средствами, население откликнулось на призыв (с. 362–364).
Тот факт, что «страсти войны» – ненависть и месть, чувство превосходства и дегуманизация врага – захватили целиком не только сражающиеся армии, но целые народы, является главной проблемой, требующей объяснения, пишут авторы. Они приходят к выводу, что для обоих режимов ситуация исключительности являлась нормальным состоянием, однако не соглашаются с теми, кто считает все тоталитарные режимы одинаковыми только потому, что они насильственны. В конечном счете, пишут Эделе и Гайер, следует посмотреть, какие перспективы видели перед собой сражающиеся стороны. Национал-социализм никогда не предусматривал мира со своими врагами – ни с большевиками и евреями, ни с русскими и поляками. Его целью было порабощение или уничтожение, и это ключевой момент в германских военных планах. Советский Союз также не пошел бы на мир с фашистами, но был готов заключить его с Германией и немцами (с. 395).
Восприятие друг друга в СССР и нацистской Германии – тема последней главы, написанной К. Кларк и К. Шлегелем. Начиная свое изложение с описания немецкого и советского павильонов на Всемирной выставке 1937 г. в Париже, авторы обращаются к истории культурных связей двух стран, в том числе к истории формирования образов России в Германии и Германии в России, а также к тем переменам, которые произошли во взаимовосприятии после прихода к власти нацистов.
Подчеркивая, что величайшее в мировой истории военное столкновение между Германией и СССР было бы невозможным без мобилизации и инструментализации воображаемого «другого», которого следует разбить и уничтожить, К. Кларк и К. Шлегель в своем исследовании уделяют большое внимание репрезентации образов в риторике и иконографии, а также в нацистской и советской пропаганде. Обосновывая свой подход к предмету изучения, авторы предлагают дистанцироваться от характерного для времен холодной войны противопоставления демократических и авторитарных политических систем, выйти из узких рамок национальных историй и рассматривать нацистскую Германию и сталинскую Россию в более широком контексте кризиса европейской цивилизации «эпохи войн и революций» (с. 398–399).
Культуры России, Германии, пишут авторы, выработали множество образов друг друга – от сентиментальных, ностальгических до примитивизированных. Традиционные образы, базировавшиеся на веками создававшихся культурных моделях и клише, преломлялись в период нацизма и сталинизма, в том числе под влиянием расистской идеологии Германии и универсалистской риторики сталинизма. Неопределенность и двойственность обыденных представлений позволяли каждому конструировать собственный образ «Другого».
Важнейшей составляющей сложного и разноречивого образа России являлось обширное, безграничное пространство – безлюдное, в противоположность перенаселенной Германии, и совершенно неиспользуемое. Оно буквально приглашало к освоению, завоеванию и аккультурации – и именно так его воспринимали во время блицкрига 1941 г. Но после Сталинградской битвы на первый план выходят другие, «опасные» характеристики российских просторов, в которых легко затеряться и погибнуть (с. 408). Сложная смесь «презрения и уважения, страха и восхищения» была характерна и для немецкого восприятия «загадочной русской души». В Германии активно циркулировали такие стереотипы в отношении России, как «Святая Русь», «колосс на глиняных ногах», «азиатская и варварская страна».
С приходом к власти нацистов эти образы претерпели серьезные изменения под влиянием расовой теории и подверглись такой степени дегуманизации, которая «была немыслима до 1933 г. даже в самых консервативных политических кругах» (с. 412). В книге указывается, что создававшийся средствами пропаганды национал-социализма образ России, не будучи прямым логическим развитием бытовавших с XIX в. в Германии предубеждений, являл собою нечто качественно новое и имел своей целью установление нового типа расистского государства. Расистские идеи о славянских «недочеловеках», о «еврейском большевизме» в сочетании с тенденцией рассматривать людей как простой «материал» послужили затем обоснованием политики уничтожения, которую нацисты в полной мере начали проводить после своего вторжения в СССР (с. 420).
Советская пропаганда в своей критике нацистской Германии, напротив, избегала «этнического эссенциализма»; подчеркивался классовый характер национал-социализма, представлявшего интересы «крупного капитала». Соперничество двух держав, указывается в книге, разворачивалось в середине 1930-х годов на поле европейской культуры, которая должна была явиться средством легитимации для обоих режимов. Обосновывая свое право на первенство в Европе, и Гитлер, и Сталин претендовали на культурное превосходство своих стран, но культуру они понимали по-разному. Для Гитлера письменная культура являлась чем-то низшим по сравнению с живой речью и яркими визуальными образами. В сталинском СССР, напротив, письменный текст, и в особенности художественная литература, занял необычно высокое место. Культура ассоциировалась там, как и в Европе в целом, в первую очередь с литературой, и потому акты сожжения книг в Германии преподносились как вопиющие примеры «нацистского варварства» (с. 427–428). Таким образом, и тот и другой режимы, претендовавшие на культурную и военную гегемонию в Европе, рассматривали себя как форпост в защите европейской цивилизации – от варварского большевизма или от не менее варварского нацизма (с. 440– 441).
О.В. Большакова
Россия в эпоху позднего сталинизма: Общество между реконструкцией и изобретением
(Реферат)
Late Stalinist Russia: society between reconstruction and reinvention / Ed. by Furst J. – Abingdon, Oxon; New York : Routledge, 2006. – XIV, 287 p
Сборник, в котором освещаются проблемы так называемого позднего сталинизма – времени, почти не изучавшегося в зарубежной историографии, – составлен преимущественно из работ молодых историков. Как отмечает во введении редактор книги британская исследовательница Джулиана Фюрст, в статьях представлены не только новые темы, но и новые направления в изучении советского периода, которые пытаются ликвидировать разрыв между социальной и культурной историей. Не будучи ни полностью дискурсивной, ни целиком эмпирической, советская история проделала «антропологический поворот», что позволяет исследователям давать культурные и контекстуальные интерпретации реальных феноменов. Через десять лет после «архивного поворота», продолжает Дж. Фюрст, отличительным признаком исторических исследований стало разнообразие, проявляющееся и в широте спектра используемых источников – от архивных и законодательных документов до интервью и фотографий (с. 16–17).
В помещенных в сборнике статьях предлагается новый взгляд на сталинизм как на особый феномен, обладающий собственной динамикой и логикой. Он характеризуется целым рядом новых явлений, ассоциирующихся с так называемым зрелым социализмом: возникновение (зачаточного) общества потребления, рождение молодежных контркультур, рост среднего класса. Однако главной его чертой является переходный характер возрождавшегося после тяжелейшей войны общества. Оно было «двуликим», как и все переходные общества: одно «лицо» у них смотрит назад, в недавнее и отдаленное прошлое, а другое – вперед, в будущее (с. 2).
Изучение общества периода позднего сталинизма проводится в сборнике по нескольким линиям, сосредоточиваясь вокруг таких аспектов, как «форматирующее воздействие войны», «мания контроля», советская субъективность и индивидуализм, устремленность в будущее.
Как отмечает Дж. Фюрст, характерной особенностью этого периода было отторжение государственным дискурсом любых ассоциаций, связанных с «травмой». Считалось, что все раны войны – и материальные, и психологические разрушения – будут залечены, как только вернется советская власть. Отсюда – крайне будничное отношение к уничтоженным городам, к калекам и сиротам, к возвращавшимся домой солдатам, чьи проблемы попросту игнорировались. Со временем память о народной войне была подавлена и заменена коллективной памятью о войне победоносной, выигранной под руководством генералиссимуса Сталина.
Тем не менее опыт войны сформировал общество как на личном, так и на коллективном уровнях. Война и миф о ней лежали в основе принимавшихся внешне– и внутриполитических решений. Война всегда присутствовала в сознании народа и как тяжелое прошлое, и как угроза будущему, формируя образ мыслей, действий (и взаимодействий) людей. Война сформировала поколения, создала новые узловые точки идентификации и механизм для новой социальной стратификации. В конечном счете, пишет Дж. Фюрст, ее нельзя было игнорировать (с. 6).
Советская администрация прекрасно осознавала те разрушения, которые принесла с собой война. В первой части сборника «Когда окончилась война» в статье М. Накачи (США), посвященной Семейному кодексу СССР 1944 г., демонстрируется, как отразилось понимание властью масштабности людских потерь в законодательстве. Новый кодекс был недвусмысленно направлен на повышение рождаемости. Государство брало на себя заботу об одиноких матерях, поощряя таким образом не только неполную семью (что считалось позором по советским нормам конца 1930-х годов), но и рождение детей вне брака. И хотя этот политический курс был принят в годы войны, когда Красная армия еще не дошла до Берлина, с его результатами советское общество имело дело вплоть до 1970-х годов (с. 45).
Тяжелые последствия войны рассматриваются в статье Беаты Фризелер (Германия) об инвалидах Красной армии. В ней анализируется соотношение советской риторики о социальном обеспечении инвалидов войны с реальностью. Основное внимание уделяется их реинтеграции в трудовую деятельность, что должно было явиться, с точки зрения режима, важнейшей предпосылкой быстрейшего восстановления народного хозяйства. По мнению Б. Фризелер, в основе того факта, что инвалидами было признано достаточно небольшое количество солдат – всего 7,46%, лежало понимание инвалидности как нетрудоспособности, а не болезни, которое сложилось в годы сталинской «революции сверху». Оно получило свое развитие в послевоенные годы, когда была выработана чрезвычайно жесткая система медэкспертизы.
Государство считало, что инвалиды войны должны как можно быстрее вернуться к производительному труду, но для этого не было создано никаких условий: система переподготовки находилась в зачаточном состоянии, и трудоустройство бывших фронтовиков (необходимое при нищенских пенсиях) было фактически пущено на самотек. Отсутствовала и какая-либо система защиты инвалидов войны на рабочем месте; их увольняли в первую очередь, понижали по службе, переводили на низкооплачиваемые должности, что не мешало создавать статистическую видимость успеха социальных служб. Политика социального обеспечения вступала в противоречие с задачами подъема экономики, для решения которых требовались здоровые и сильные люди, заключает автор (с. 58).
В статье Тимоти Джонстона (Великобритания) всесторонне анализируются панические слухи о возможном нападении бывших союзников на СССР, получившие широкое распространение в 1945–1947 гг. Показывая, что эти слухи являлись в сущности разновидностью «устных новостей» и имели в своей основе твердое убеждение советских людей в том, что все они являются «участниками международной драмы, в которой их страна играет ведущую роль», автор приходит к парадоксальному выводу. По его мнению, слухи, будучи продуктом социальной сумятицы послевоенных лет, одновременно служили и средством ее преодоления, поскольку способствовали сплочению разрушенного войной общества и в конечном счете его оздоровлению (с. 73–74).
Вторая часть сборника «Бараки, очереди и личное подсобное хозяйство: Послевоенный городской и сельский ландшафт» посвящена тем стратегиям выживания, которые выработали люди в условиях крайней бедности. Отмечая, что голод был частью повседневной жизни рабочих и в довоенное время, Дональд Филцер (Великобритания) сосредоточился на изучении жилищного кризиса и ужасающих санитарных условий жизни городского населения. По мнению автора, причиной нехватки жилья, чистой воды, отсутствия подобающей городской инфраструктуры (включая канализацию), перенаселенности городов изначально являлось отношение властей к населению как к «расходному материалу». Все эти тенденции лишь усилились в результате разрушительной войны и начали преодолеваться только после смерти Сталина (с. 96).
В центре внимания статьи Жана Левеска (Канада), исследовавшего положение в послевоенной деревне, находятся проблемы поддержания и сохранения колхозного строя в условиях аграрного кризиса. Поскольку оплата по трудодням составляла лишь одну пятую часть в бюджете крестьянской семьи, основным источником дохода являлся приусадебный участок, который и стал целью государственной политики репрессий по отношению к крестьянству.
Автор выявляет такие стратегии выживания крестьянства, как фиктивные семейные разделы с целью получения земельного участка, переход на работу в другой колхоз или совхоз, сезонные работы, в том числе в промышленности и строительстве. Благодаря низкому уровню статистического учета многие ухитрялись избавиться от официального статуса колхозника и связанных с ним налоговых тягот, продолжая при этом обрабатывать приусадебный участок, а молодежь, хотя и оставалась в деревне, старалась не вступать в колхоз. Ж. Левеск приходит к заключению, что термин «политическая пассивность» неверно определяет характер сельского населения СССР. Исключительное разнообразие стратегий выживания колхозного крестьянства делало невозможным тотальный контроль над ним государства и, кроме того, свидетельствовало о том, что население деревни отнюдь не представляло собой «однородную массу» (с. 117).
В третьей части («Коррумпированное государство: Война и подъем теневой экономики») в статьях американских историков Джеймса Хайнцена и Синтии Хупер рассматривается получившее широкое распространение в годы войны взяточничество, которое охватило все общество снизу доверху – от почтальона, требовавшего «магарыч» за доставку письма, до высших чиновников. В центре внимания Дж. Хайнцена находится кампания 1946 г. по борьбе с взятками, которая, как показывает автор, была довольно быстро свернута совместными усилиями прокуратуры, МВД, Министерства юстиции и Верховного суда. Прокуратура, в частности, использовала обвинения ее сотрудников во взяточничестве как удобный случай для того, чтобы добиться значительного повышения зарплат работникам юстиции (с. 124).
С. Хупер посвятила свое исследование установлению в послевоенные годы «дружественных отношений» между центральной властью и «средними классами» бюрократии. Она констатирует слияние в этот период структур организованной преступности с «партией-государством» (особенно на местах) и демонстрирует, как происходила ликвидация партийного контроля снизу и утверждалась практика замалчивания в отношении действий чиновничества.
В обеих статьях подчеркивается, что в условиях хаоса и незащищенности послевоенных лет усиливались терпимость населения к коррупции и даже официальное сотрудничество с ней.
Новые поколения, вырабатывавшие собственную идентичность, являются темой четвертой части книги. В статье Марка Эделе (Австралия) рассматриваются политические настроения победителей, которые, однако же, не сформировали монолитную группу, объединенную общим военным опытом. Автор подчеркивает многоголосие сообщества фронтовиков и тот факт, что их в корне различавшиеся между собой взгляды в отношении сталинизма вскоре стали общепринятыми для населения в целом. Это явление весьма симптоматично для фрагментированного по своему характеру общества (с. 191).
Два других поколения исследуются в статьях Энн Лившиц (США) и Джулианы Фюрст, посвященных, соответственно, детям и молодежи. Энн Лившиц рассмотрела, как в условиях послевоенного восстановления формировалась система воспитания детей и те ожидания, которые с ними связывали государственная система образования и деятели культуры. В создании «культа войны» огромную роль играли детские писатели, предлагавшие в своих произведениях примеры для подражания и создававшие определенную систему ценностей. Соединенными усилиями школа и литература формировали разрыв между видимостью и реальностью, между словом и делом, заключает автор (с. 204).
Стремление части молодежи утвердить свою идентичность путем следования моде, увлечением западными кинофильмами и танцами находится в центре внимания Дж. Фюрст. В статье показано, что борьба государства с «аполитичностью» и «космополитизмом» привела к расколу как внутри самой молодежи, так и между молодежью и государством.
В пятой части книги («Послевоенные пространства: Реконструируя новый мир») помещено исследование Ребекки Мэнли (Канада), в котором конфликты, возникающие в связи с возвращением эвакуированных в свои квартиры, занятые новыми жильцами, позволяют поставить вопрос о новом понимании прав личности после пережитого опыта войны. Статья Моники Рютерс (Швейцария) о реконструкции улицы Горького демонстрирует несоответствия между официальным и народным пониманием значения (и предназначенности) этого места, что свидетельствовало о возникновении своего рода «трещин» в, казалось бы, монолитном обществе (с. 265).
В заключение Ш. Фицпатрик подводит итоги изучению периода позднего сталинизма, подчеркивая, что «плоды победы в долгосрочной перспективе оказались более важными, чем произведенное войной опустошение» (с. 271). Советский Союз стал не просто признанной мировой державой, но одной из двух сверхдержав. Война легла краеугольным камнем в основание советского патриотизма, который психологически воспринимать было гораздо легче, чем патриотизм марксистско-ленинский. Другим «облегчением» послевоенных лет Ш. Фицпатрик считает отказ властей от политики стигматизации по классовому признаку. Принадлежность к советскому народу («советскость») становится естественной для каждого, кто участвовал в войне – на фронте и в тылу.
Однако, замечает она далее, именно обстоятельства, связанные с войной, сделали для многих людей – попавших в плен, подозревавшихся в сотрудничестве с фашистами или представителей депортированных народов – советский социальный статус проблематичным. Указывая на сильный элемент ксенофобии в послевоенном советском патриотизме, Фицпатрик останавливается на проблеме антисемитизма – как официального, так и бытового, – вышедшего на поверхность в эти годы (с. 272–273).
Отмечает Фицпатрик и серьезные перемены в рядах сталинской бюрократии, где наряду с общей квалификацией возрастает профессиональное самосознание, связанное, вероятно, с приходом нового поколения управленцев среднего уровня, и исчезает понятие «буржуазные специалисты». Как показали в своих статьях С. Хупер и Дж. Хайнцен, этот период отмечен ростом коррупции, особенно взяточничества, процветавшего во время войны. Отсутствие каких-либо успехов в борьбе с этими явлениями авторы связывают с новой политикой «уважения к кадрам», которая в итоге привела к росту «нового класса», описанного в свое время Джиласом.
Еще одним важным изменением Фицпатрик считает повышенное внимание Коммунистической партии к частной жизни своих членов, которое потом стали интерпретировать как главную черту «советского тоталитаризма». В целом же происходит отход от революционной идеологии и политической психологии к мировоззрению, в центре которого была гордость за свою великую державу. Учитывая появление ряда новых явлений в обществе (в том числе молодежных субкультур), период позднего сталинизма нельзя считать исключительно «мрачным воплощением тоталитарной диктатуры». В этот период, заключает автор, были заложены основы и последующих успехов, и окончательного провала СССР как государства и проекта по переустройству общества (с. 277).
О.В. Большакова
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.