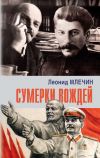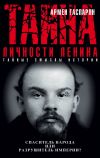Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
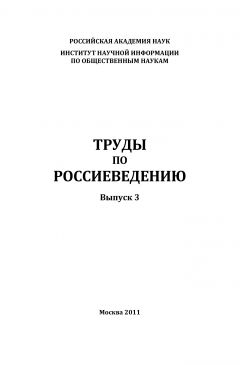
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Хрущевско-брежневская Отечественная – легитимация позднесоветской системы
Сталинский образ войны, по существу полезный для режима и приемлемый для народа, был слишком узок: в нем не оставалось места никому, кроме вождя (таков был и созданный им социальный порядок). То, что это не соответствует новым, послевоенным условиям, было понятно уже при Сталине. Персонификаторы постсталинской системы фактически выполняли историческую задачу «расширения»/адаптации – и порядка, и образа – к современности.
Альтернативная сталинской версия Великой войны была публично оглашена вскоре после его смерти – как символическая заявка на замещение вакантного «поста» вождя/хозяина. В докладе Хрущева, произнесенном вечером 25 февраля 1956 г., после официального закрытия ХХ съезда КПСС, постулировалось: если бы не ошибки Сталина, то ситуация 1941 г. не была бы такой угрожающей и сражения не потребовали бы стольких жертв; войну выиграл не Сталин, но «партия в целом» и «весь советский народ» (см.: 37, с. 283–284; 63, с. 89). Через антисталинский образ войны легитимировалась новая система – в основе своей сталинская (созданная вождем по своей мерке), но без вождя. Хрущевская версия Отечественной явно имела эмансипационный смысл: ее назначение – освободить от Сталина войну, партию, систему и прежде всего себя. Попытка самоосвобождения удалась настолько, насколько это требовалось системе, было возможно в ее рамках.
Борьба Хрущева против образа Отечественной, центрированного на Сталине, была в то же время борьбой за «режимную» войну, которая служила бы всем. Бунт сталинских «назначенцев» против вождя, вылившийся (помимо прочего) в ХХ съезд, был бунтом всех против одного, «присвоившего» систему. Для понимания режима чрезвычайно важно, что это посмертное выступление: сталинские «элиты», опустошенные репрессией, страхом, постоянной борьбой за выживание, не способны были восстать даже против постаревшего, дряхлевшего вождя. Их режим, изначально лишенный внутренней силы, потенции, не случайно сразу нацелился почти исключительно на потребительство/передел. Тем не менее революция «назначенцев» против «творца» предполагала и войну с памятью – и о самом Сталине, и о «сталинской Отечественной».
Еще вчера всесильный Хозяин использовался вчерашними «порученцами» в качестве громоотвода – ему переадресовывались все (внутренние и внешние) претензии к сталинской системе187187
«Историографы метнулись из одной крайности в другую. Если в первое десятилетие после войны все успехи и победы в военных операциях приписывались “гению” Сталина, то во второй период <от ХХ съезда до середины 60-х, точнее – 1965 г.> определяющим стал тезис: коммунистическая партия проводила в жизнь единственно правильную ленинскую генеральную линию, что и увенчалось полной победой в войне, а от Сталина исходили все беды, в особенности накануне войны и в первый ее период (1941–1942 гг.)» (37, с. 294). Такой историографический поворот – не только результат сталинской выучки историков, постоянно колебавшихся вместе с линией партии, но и явная общественная реакция на сталинизм, самоопределение через его отрицание. Об этом хорошо сказал Б. Слуцкий: «Художники рисуют Ленина, / как раньше рисовали Сталина, / а Сталина теперь не вйлено, / на Сталина все беды взвалены. / Их столько бед, такое множество! / Такого качества, количества! / Он был не злобное ничтожество, / скорей – жестокое величество… / Уволенная и отставленная / лежит в подвале слава Сталина» («Слава», осень 1956 г.).
[Закрыть]. Тем самым они приобретали субъектность, а режим обелялся (очищался от вины, сбрасывал с себя ответственность) через очернение персонификатора/творца. Это, помимо прочего, было своего рода психотерапией – так снимался страх «элит» перед личностью вождя. Страх уходил – основа системы (прежде всего мировоззренческая, определенная ее природой) сохранялась. Порядок, начинавшийся с вспышки антисталинизма, остался сталинским по существу (хрущевский антисталинизм можно определить как «режимный»; он работал не против системы, а на нее). Это означало, что Сталин (Сталин-миф о хозяине/победителе и Сталин-«образец» советского порядка) постсталинизму еще потребуется.
Это едва ли не раньше всего продемонстрировала официальная память о войне. Через эту историю Сталин был разоблачен – в ней же и воскрес. Но не в прежнем виде (Творцом Победы из сталинского мифа Отечественной), а в ином, скорректированном. Интересы режима требовали превратить войну сталинскую (а потом уже народно-режимную) в войну режимно-народную (а потом уже сталинскую). «Минимизация» Сталина в памяти об Отечественной, как и его «изъятие» из Октября («миф основания» отдали Ленину), были одинаково на пользу постсталинизму.
Послесталинский официоз в конечном счете оказался построен на компромиссной версии: не «или/или» (войну выиграл советский народ – вопреки Сталину), а «и–и» – победили советский народ и партия под руководством Сталина. Вполне логичный выбор для «элит»: ведь совершенно устраняя Сталина, они и себя вымарывали из истории войны, оставляли советский народ без руководителей – один на один с врагом. Этот выбор принял и народ, что тоже объяснимо: в конце концов, он действительно и не жил, и не воевал без начальства, без власти. Кроме того, послесталинский официоз строился на утверждении двойной идентичности: народ – победитель/жертва, что, безусловно, соответствовало народному самопониманию. Ценностный компромисс по поводу войны стал основой социального консенсуса, из которого вырос хрущевско-брежневский порядок.
В общественном сознании официальная концепция Отечественной – ее история, соотнесенная с утвердившимся в русской культуре мифом священной войны и подправленная, измененная, извращенная в соответствии с интересами режима/системы, – утвердилась в брежневский период. Когда к власти пришло поколение, начавшее свой путь во время большого террора, но управленческий опыт и относительную свободу действий получившее во время войны, именно Великая Отечественная стала основным советским символическим проектом. Причины достаточно очевидны.
Во-первых, Отечественная явилась фактором, гораздо более легитимизирующим советскую систему, чем Октябрьская революция: она была ближе, живее, наделена исключительно объединяющим смыслом. Октябрь 17-го – первоначальный акт творения коммунистической вселенной – в позднесоветский период только формально оставался «главным событием» ХХ в. Это лучше всего свидетельствует о скрытой декоммунизации/деидеологизации, происходившей в недрах режима.
Во-вторых, с войной не просто были связаны личные истории нового советского руководства, хотя и это имело значение188188
«Для новых советских руководителей военный экстремальный опыт был главной эмоциональной ценностью, которую они могли разделить с большинством людей своего поколения», – отмечает И. Кукулин (36, с. 332).
[Закрыть]. Речь шла о консолидировавшей номенклатуру и связывавшей ее с народом памяти о начале постмобилизационного, «невоенного» порядка, придававшей ему высокий (не– и надпотребительский) смысл. В поисках «идеи», его возвышающей и оправдывающей, тот порядок (как и этот, нынешний – его продолжение) просто не мог пойти другим путем. Брежневское руководство фактически «зафиксировалось» у власти тем, что объявило День Победы нерабочим, восстановило статус ветеранов и т.п. С 1965 г. создавался культ войны, породивший целую систему ритуалов, с которыми сроднился советский человек.
Внедряли подновленную версию Отечественной в жизнь (т.е. в массовое сознание) по-прежнему «служилые» (еще сталинские, а также их наследники) историки. Современные исследователи справедливо указывают, что «политика истории» и историческая наука в послесталинском СССР следовали указаниям не доклада Хрущева, а июньского 1956 г. постановления ЦК КПСС, направленного против десталинизации, где не упоминалось о преступлениях и ошибках Сталина в связи со Второй мировой войной (см.: 37, с. 294–297; 63, с. 89)189189
Тем самым в послесталинском порядке воспроизводилась сталинская логика работы с историческим материалом: история делилась на «выгодную», полезную для эксплуатации в интересах режима (или, выражаясь режимным языком, для военно-патриотического воспитания), и «невыгодную», которую характеризовали как «очернительство» (37, с. 297). Эта логика у нас постоянно торжествует (как «наверху», так и – теперь уже – в «массах») в ответ и для прекращения естественного процесса свободного исторического познания. Поэтому наша история (ее массовый проект) вовсе не так непредсказуема, как принято думать; напротив, она навязчиво повторяема.
[Закрыть]. Уже в 1965–1968 гг. партийное руководство фактически запретило историкам (а также писателям, публицистам, деятелям искусства) изображать прошлое «только под углом зрения культа личности» и тем самым заслонять «героическую борьбу советских людей, построивших социализм». Резкой критике были подвергнуты те из них, кто при рассмотрении Отечественной брал за отправную точку неудачи первых месяцев, негативные эпизоды военной истории. Таких исследователей (литераторов и проч.) обвиняли в умалении «огромной работы партии, правительства, народа по подготовке страны и армии к отражению фашистской агрессии», принижении «величия героических подвигов советских людей, разгромивших под водительством ленинской партии сильнейшую армию империализма», попытке «дегероизации нашей военной истории», вредной для воспитания советской молодежи (см. об этом: 37, с. 295–297). «Служилые» историки (и т.п.), как и при Сталине, выполняли задачу популяризации официоза – брежневского по форме, сталинского по существу190190
Исследователи указывают: «Во второй половине 60-х – начале 70-х гг. концепция истории Великой Отечественной войны была несколько скорректирована, обновлена и приведена в соответствие с политическими требованиями периода… застоя. Новая концепция мало чем отличалась от сталинской, разве только тем, что имена Сталина и его приближенных назывались реже, а дифирамбов в честь народа стало больше» (37, с. 302). Здесь вырисовывается четкая логическая цепочка: сталинская война – сталинский порядок. Сталин (как идея, миф, система ценностей) продолжал присутствовать в хрущевском и брежневском порядках. Пока в мировоззренческом отношении они оставались сталинскими, СССР был страной Сталина.
[Закрыть].
Сознательное и целенаправленное конструирование советской военной мифологии в массовом искусстве/культуре началось с «Живых и мертвых» К. Симонова (этой попытки создания советской «Войны и мира»), продолжилось «лейтенантской» прозой (Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Курочкин и др., конец 1950-х – 1960-е годы). Надо сказать, что именно литературная память войны была особенно сложна и неоднозначна191191
Об освоении военной темы советской литературой см., например: 36, с. 324–336.
[Закрыть]. Став одним из истоков официальной концепции, она в то же время была попыткой сказать правду о войне – ее ужасе, жертвах, вине власти и трагедии народа. Эта тенденция, окончательно определившаяся в прозе В. Быкова, В. Астафьева и др., противоречила официозу, поэтому «военная» литература могла быть использована им лишь отчасти. С середины 1960-х его «опорой» стали маршальские и генеральские мемуары об Отечественной, где она представала героическим повествованием о Победе192192
«Мемуары военачальников, как свидетельствуют данные тогдашних зондажей социологов, в немалой степени составили основу массового читательского спроса в библиотеках и широкого чтения 1970-х гг.» (26, с. 362–363).
[Закрыть].
Наибольшее влияние на сознание советского человека имели тогда кино и телевидение. Они и сыграли решающую роль в создании военной мифологии. Как раз на «пике» брежневизма были сняты установочные для советского массового сознания фильмы – прежде всего эпопея «Освобождение» Ю. Озерова и Ю. Бондарева (1968–1972), где опять появился «Сталин» как руководящая и направляющая сила и ум войны, а маршала Жукова впервые сыграл М. Ульянов. И сразу фактически стал им, во многом обеспечив успех фильма: доверие зрителя к этому «корневому», но «правильному», настоящему русскому мужику в образе Маршала Победы (и своего рода «контр-Сталина») было и остается абсолютным. Озеров-скую эпопею и сейчас нечем заменить в массовом «военном» кино, в «телепамяти» об Отечественной.
«Освобождение» (характерное, между прочим, название – «рифмуется» с одним из стихотворений Ю. Друниной: «О, хмель сорок пятого года! / Безумие первых минут! / Летит по Европе Свобода…», утверждающее: смысл нашей лучшей войны – в Победе над злом, освобождении от него и своего Отечества, и Европы) показало, как надо снимать войну193193
В киноэпопее представлена «доминантная конструкция войны или интерпретации военных событий» – «история победы, тоталитарного триумфа». «Первые, наиболее драматические годы войны, тем более – предыстория… или ее социальные, моральные и человеческие коллизии в этой преимущественно батальной панораме, выстроенной с точки зрения верховного командования, отсутствуют». «Все прочие версии носили лишь характер жанровых разработок этой темы… выступали в качестве дополнения или аранжировки темы героического самопожертвования, испытания на верность, на подлинность человеческих ценностей и отношений (“Проверка на дорогах” А. Германа), но не предлагали никакой иной версии понимания войны, кроме господствующей» (11, с. 53–54).
[Закрыть]. В нем, помимо прочего, материализовалась важнейшая установка сознания послевоенного человека (и простого и не очень): Сталин – Сталиным, но главное действующее лицо войны – советский народ. В одно время с общенародным военным кино появились «специальные» фильмы для разных слоев населения: свои для защитников Ленинграда («Блокада», 1973–1977), для тружеников тыла («Особо важное задание», 1980), для интеллигенции (скажем, «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Женя, Женечка и Катюша», 1967 г.) и т.п. В другой кинолинии, представленной фильмами «Летят журавли» (1957), «Балладой о солдате» (1959), «Ивановым детством» (1962), «Белорусским вокзалом» (1970) и др., война «раскрывалась» через человека. Все это были «варианты» народной войны – живые, искренние.
Так творилась экранно-литературно-художественная эпопея войны – разнообразная (в рамках дозволенного) и одна на всех. Процесс творения военного «эпоса» активно поддерживался и строго контролировался «сверху». В общем, делалось это вполне умно: выполнялось главное требование эффективного продвижения – чтобы в ложь поверили, она должна быть хотя бы отчасти правдой. Правдой официоза были Победа, народный героизм и народные страдания; ложью – сталинская интерпретационная конструкция, врезанная в живую ткань подлинной войны.
Художественные образы оживляли официоз, подчиненный прежде всего целям власти/управления; «через» них он внедрялся в жизнь. Объединяющим мифом войны – той Великой Отечественной, какой она должна была быть с точки зрения элит, – замещались личные и коллективные воспоминания, «улучшались» частные военные истории194194
Под мифом здесь имеется в виду военный официоз, стянувший к себе все (даже отчасти ему противоречившие) образы Отечественной. Он вдвойне мифологичен: связью с культурным мифом священной войны и сталинской версией Отечественной.
[Закрыть]. Официальная версия войны стала основой социализации; на ней строилось обучение, вся система массовых военных ритуалов. И цель режима была достигнута: даже количество в процессе творения и жизни официоза переходило в качество; навязчиво повторявшийся безальтернативный официальный образ войны стал реальностью для миллионов советских людей.
Почти бессознательное принятие официоза в качестве военной памяти объясняется не только традиционным «подданничеством» советской массовой культуры, привычкой советского человека потреблять – во всяком случае, официально, вместе со всеми, напоказ – «спущенный сверху» продукт. «Нормализованная» Отечественная, величие которой в Победе, с приемлемым и контролируемым уровнем боли, со своим культом святых-мучеников, вполне соответствовала брежневской эпохе – стабильной, устойчивой, относительно сытой, потреблявшей, конечно, но в меру, без фанатизма, уверенной в себе (в незыблемости сверхдержавной мощи, конкурентоспособности социалистического проекта). Эпохе «нормализации» советского порядка (возникшего в процессе гуманизации/разложении основ, созданных героическо-кровавыми – не по человеческой мерке – основоположниками) требовалась своя война: не гнетущая, ужасающая и сверлящая единственным вопросом – как это могло быть?, но лишь будоражащая, заставляющая сопереживать, а главное – придающая уверенность в осмысленности и прочности собственного существования. Войну «нормализовали», подправив ее под ситуацию – новый режим и новый народ. (Замечу в скобках: «нормализация» парадоксальным образом была связана с ростом официально признанных военных потерь – тогда они уже не переживались так остро, как во второй половине 40-х. Кроме того, к 70-м годам в массовом сознании прочно утвердился стереотип: великая война – великая жертва. Причем, жертва неперсонифицированная, даже анонимная: не случайно самый известный символ Отечественной – Могила Неизвестного Солдата.)
Показательна позиция ветеранов, участвовавших в создании поздне-советской военной памяти. «Брежневский» ветеран принципиально отличался от ветерана середины – конца 40-х. Прошел ужас, притупилась боль, усталость от войны сменилась ностальгией. «Брежневский» мир уже не оскорблял человека войны забвением и тотальной переделкой воспоминаний, как сталинский, а воздал по заслугам, приобщил к высокой миссии популяризации военной, т.е. и его личной, истории. А история все же не жизнь и вспоминать «по официозу» «благообразнее», надежнее, целесообразнее195195
Официальная версия Отечественной, по мнению некоторых исследователей, неявно обосновывала идеологию «через генерационную солидарность»: «Нарастающая консервативная тенденция придала мифу отчетливо ретроспективный характер: миф… стал апологией поколения, прошедшего войну, объяснением априорной правоты старшего поколения, которое выстрадало на войне подлинные ценности. Одновременно этот миф стал эффективным средством вытеснения из общественного сознания результатов молодежного брожения 1960-х и появившихся в это десятилетие настроений, связанных с желанием модернизации, психологического обновления общества, сближения с Западом» (36, с. 333).
[Закрыть]. Поэтому «брежневская» дозированная, смягченная и скорректированная память о войне – это и память удовлетворенных, стареющих, «коррумпированных» системой и ей «послушных» ветеранов. Они придавали ей легитимность, подтверждали ее фактически – собой.
По мере того как война уходила в прошлое, а молодые поколения утрачивали с нею связь, нарастала потребность в ней как символическом проекте. В брежневскую эпоху одновременно происходили (и сложно взаимодействовали) процессы забывания и сакрализации войны. Чем больше ветшал («обмирщался»/нормализовывался) режим, тем более он нуждался в Отечественной как источнике патриотических ценностей, консолидирующих смыслов196196
Точной представляется следующая характеристика: «В СССР 1950–1960-х годов, несомненно, имел место кризис идентичности, связанный с шоком от войны, эрозией советской идеологии и представлений о легитимности советского строя, но в подцензурной литературе этот кризис был в значительной степени замолчан, подавлен, его рефлексия отвергалась самими участниками культурного процесса… В условиях замалчиваемого, но ощутимого кризиса советской идеологии в 1970-х годах единственным объединяющим общество мифом мог стать миф о войне и победе». Идеология 1970-х «относила войну к абсолютному мифологическому прошлому и делала ее основой легитимации сегодняшнего режима» (36, с. 332–333).
[Закрыть]. Массовый же советский человек, забывая Отечественную, все больше превращался в потребителя ее официальных образов. Причем, участвуя в официальных церемониях, памятных ритуалах, он не только и не просто демонстрировал лояльность системе. Военный символический проект удовлетворял его потребность в святом/священном. Отечественная напоминала о «правильном», суровом, но простом и понятном миропорядке, в котором осмыслено все – жертва, жизнь, подвиг (об этом – герой А. Папанова в «Белорусском вокзале»: как будто мы снова на фронте и все ясно – там враг и наше дело правое). Сравнение с ним – своего рода самокритика брежневизма, гнавшего от себя высокие смыслы, освобождавшегося от советских идеалов во имя «нормальной», мещанско-потребительской жизни197197
Так, «лучшие фильмы советских 1960–1970-х годов… пронизаны ощущением утраты полноты и экзистенциальной определенности жизни, которая… ассоциировалась с поколением отцов, ставших «ветеранами», или молодых, погибших на войне» (12, с. 639).
[Закрыть]. Для людей брежневской эпохи война – напоминание о том, каким должен быть «настоящий» советский человек, и указание на то, что они не таковы. При этом память о войне несла в себе страх чрезвычайщины, к которой никто не хотел возвращаться.
Чем дальше уходила Отечественная, тем более схематизированными и мифологизированными становились массовые представления о ней. Массовая память полностью соответствовала мифологическому сценарию, воспроизводившемуся и в советском официозе: вероломное нападение – неисчислимые жертвы, иго (т.е. оккупация) – «коренной перелом» – победа. Логика мифа, реализовавшаяся в массовых представлениях о войне, проста и потому понятна всем: на «начальном этапе» неизбежны поражения; массовый героизм, лишения, тяжелейший труд в тылу и бесконечные военные потери – обязательная плата за победу. Таково устойчивое, имеющее корни в культуре восприятие Отечественной советским человеком, которое плохо поддается изменению. Более того, такая война и есть советский человек – его память, его мировоззрение.
Парадокс состоит в том, что в том образе войны, который «сделал» советского человека, ценностей и смыслов, связанных с человеком, было до крайности мало. Отечественная советского официоза не столько жертвенная, трагическая (и потому священная) история о войне, сколько героическое повествование о победе, военный эпос о солдатах, командирах, полководцах и генералиссимусе. Это рассказ не столько о подвигах людей, сколько о триумфе вождя, государства, системы. Официоз воспевает не столько справедливую борьбу за национальную независимость и общеевропейскую победу над фашизмом, сколько имперское торжество, прорыв к едва ли не мировому господству. Сталинско-брежневская Отечественная строится на традиционных российско-советских доминантах: силе власти, мощи государства, сражающихся и трудящихся «до последней капли» во имя Победы массах, покоренных пространствах. В этом смысле она, безусловно, полезна режиму, каким бы он ни был – сталинским или хрущевским, брежневским или путинским.
Из войны и официальной памяти о ней «вырос» советский народ как «новая историческая общность». «По» официозу не только представляли войну миллионы; на него центрировалась и им оплодотворялась официальная (она же единственная – других для массового сознания не существовало) версия советской истории. В соответствии с ним, через военные аналогии и категории моделировалась советская культура. В конечном счете без военной эпопеи не было бы ни советской эпохи с ее достижениями, ни советского массового общества.
Не случайно именно критическая «проработка» истории войны стала одним из главных факторов разрушения советского символического универсума198198
В конце 1980-х «никакая другая дискуссионная тема не привлекала такого большого числа участников, как Великая Отечественная война. В силу своего высокого эмоционального воздействия проблема… войны была первой тематизируемой проблемой в исторической дискуссии, одновременно представлявшейся наиболее сложной для детабуизации» (63, с. 92).
[Закрыть]. Несмотря на принятое мнение, «перестройка» (процесс перемен конца 1980-х – начала 1990-х годов) не была связана с утверждением совершенно нового образа Отечественной. Достоянием гласности стало все то, что уже было известно, о чем догадывались, что наработали со времен «оттепели», – факты, источники, интерпретации, находившиеся в тени официоза. Однако придание оттепельному «материалу» публичности, появление массы новых фактов, документов, критических интерпретаций (да еще по «обвальному» сценарию – все и сразу) произвели ошеломляющий эффект: были восприняты как культурная революция (в смысле разрушения/«отречения» от «старого мира»). «Перестроечные» образы Отечественной сделали явными (доступными, обсуждаемыми, легитимными) смыслы, противоречившие тем, с которыми «срослось» массовое советское сознание. Такое воздействие имело для него как разрушительное, так и эмансипационное, преобразующее, созидательное значение. Весь вопрос в том, в какую ценностную, смысловую систему координат оно вписывалось.
Именно в отношении Отечественной постсоветский человек впервые так отчетливо заявил о себе как об усомнившемся, но не уверовавшем. От «перестройки» у него остались вопросы к советской истории, но другой-то у него не было. Отказаться от нее, да еще в момент, когда ему было так плохо и настоящее «било» со всех сторон, он не мог. Постсоветская современность постоянно указывала нашему человеку на то, что он жертва; прошлое же позволяло компенсировать это депрессивное ощущение. Оставив где-то на периферии сознания «перестроечные» вопросы, наш человек принял победно-героическую, жизнеутверждающую риторику и символику официоза прежнего, ставшего уже историей режима. В новый мир он пошел, вооружившись старыми образами прошлого и теми ценностными ориентирами, которые они давали. Этот выбор определил перспективы – и мира, и человека.
Результатом «перестройки», имевшей целью «перезагрузку» ценностей, «переопределение» идентичности и выработку новых социальных перспектив, явились декоммунизация (т.е. отказ общества руководствоваться какой-либо общеобязательной системой представлений/ценностей), создание посткоммунистического социального порядка и его советизация. Случилось все – и ничего. Изменились все параметры существования человека, общества, страны – доминирующий человеческий тип (с его базовыми ориентациями, стратегиями социального действия) остался прежним. И определил вектор движения – лицом к прошлому: не к истории, а к своим представлениям о ней, пусть когда-то ему и навязанным, но ставшим привычными, очищенным от сложностей реальной жизни, идеализированным.
Едва попытавшись на рубеже 1980–1990-х годов вообразить себя новым, свободным, самостоятельным обществом (а именно об этом – «оттепельно-перестроечный» образ Отечественной), мы так испугались, что шарахнулись назад – к дисциплинирующей полицейщине, сужению пространства публичности и плюральности, «восстановлению основ». В поиске надежных страховок, подтверждающих правильность привычного социального порядка и гарантирующих его неизменность, естественно обратились к войне. Это исторически определившийся путь «нациостроительства» – и в нынешней ситуации распада всех традиционных форм общности его символическое значение неизмеримо возросло199199
Следует учитывать, что в России вообще и особенно в ХХ в. каждое новое поколение конституируется через войну – память о прошлой великой Победе и ожидание будущего столкновения с внешним врагом. В XIX в. «точкой отсчета» была «первая Отечественная», в 1920–1930-е годы жили воспоминаниями о революции/гражданской и предчувствием мировой войны. Послевоенные поколения самоопределялись через Отечественную и холодную. Новизна нынешней ситуации – в том, что нет исторически близкой «своей» войны (афганская, чеченская и т.п. на эту «роль» не подходят) и реальной (не имитационной, «замещающей») «нацеленности» на будущее военное противостояние. Поэтому основой нашего определения является только Отечественная.
[Закрыть].
Новый режим – «старая» война
Обращение постсоветского режима к сталинско-брежневской войне объясняется вполне рациональными соображениями. Его управленческие ресурсы (прежде всего привычные – насилие, страх, жесткий и тотальный идеологический контроль) крайне ограничены; их недостаток компенсируется использованием ресурса символического. Главный и самый ценный – «полезное» прошлое, обладающее мощным легитимационным потенциалом200200
О специфике исторической легитимности постсоветской системы (и эже – путинского порядка) см.: 49, с. 92, 96–98.
[Закрыть]. И здесь выбор войны, причем в ее сталинско-брежневском варианте, был если не предопределен, то наиболее вероятен. Ведь он как бы легитимировал выбор социального большинства, смысл которого очевиден: стабилизация постсоветского порядка через дальнейшую потребматериализацию и советизацию. Символическая политика власти послужила реализации этого социального запроса. Здесь воля народа «совпала» с властными интересами.
Постсоветский мир для идентификации и легитимации должен был выбрать войну – просто потому, что выбирать оказалось не из чего. В ельцинской России не сложился демократический национально-патриотический миф. В этом отношении показательна неудача превращения в «места памяти» (установочные для массового сознания исторические события) двух дат: 21 августа (подавление путча 19–21 августа 1991 г.) и 12 июня (принятие Декларации независимости РФ). Они не смогли составить основу объединяющего идентификационного проекта («мифа основания»). Неудача во многом объясняется не массовыми симпатиями или антипатиями, а политикой режима. С содержательной точки зрения «ельцинизм» был попыткой построить новую легитимность на отторжении советского. Попытка не получилась – прежде всего потому, что на негативном фундаменте «миф основания» создать нельзя. У новой России не было того, на чем базировался, например, миф о ФРГ: отрицание гитлеровской Германии уравновешивалось не только принятием демократических ценностей, но и идеей строительства пацифистской, технически продвинутой, успешной страны с процветающей экономикой. Этот «проект» определял перспективы, в проекции которых «рассматривались» настоящее и прошлое.
Российский режим, выросший из демократических преобразований, не сформировал символического фундамента «новизны», не дал демократическому «проекту» исторического обоснования. Для этого не было предпринято каких-то значимых усилий. Режим всерьез даже не попытался использовать демократический потенциал событий, действительно фиксировавших тот перелом, которым стал для России 1991 год. Именно на этих символах могла и должна была основываться новая самоидентификация общества, связанная с утверждением и соответствующей трактовкой истории201201
Б. Дубин указывает на существование у новой России возможности выбора между двумя историческими «траекториями». Первую, по его мнению, могли бы различать следующие символические даты: 1945 (Победа), 1956 (ХХ съезд), 1986 (возвращение А. Сахарова из горьковской ссылки) или 1989 (Первый съезд народных депутатов либо же кончина Сахарова), 1991 (август и декабрь). В рамках этой траектории, которую исследователь называет путем к свободе, неизбежен пересмотр «значения, фигур и событий» Октябрьской революции, 1920–1930-х годов, войны и т.д. Узловые точки другой траектории («возврата к несвободе»): 1945 (Победа), 1961 (полет Гагарина), 1986 (Чернобыль), 1991 (распад СССР), 1999 и т.д. Выбор в пользу такого взгляда на ХХ в. означал «символический возврат к советскому, но демобилизованному и разобщенному, раздвоенному и лукавому, равнодушному и всеядному, все более циничному состоянию коллективного сознания» (24, с. 15). Очевидно, что каждая символическая цепочка может быть продолжена и дальше в прошлое. Причем, каждый раз именно ценностная перспектива определяет отбор событий, лиц, значений; в соответствии с ней формируется семантика символов, выстраивается историческая традиция.
[Закрыть]. Именно и только тогда, в 1991–1992 гг., была почва для конструирования «живой» традиции: с датами «демократического начала» общество (во всяком случае наиболее активная и влиятельная его часть) чувствовало позитивную эмоциональную связь. Уже к 1994 г. в стране, прошедшей через самый болезненный этап гайдаровских реформ, труднейший 93-й, начало чеченской войны, эта связь ослабла. Демократическая перспектива оказалась под вопросом, а потом и вопрос был снят. К середине 90-х в общественном сознании произошел поворот: идею (томления, мечтания, рассуждения на тему) «стать другими» победил страх «только бы не стало хуже», проблематику и символику перемен вытеснили образы «порядка» («стабильности»/«безопасности», «вождизма»/«подданничества», «особого пути»/«державного величия»)202202
Социологи фиксируют: уже к концу 1993 г. «главным приоритетом населения стали “порядок и стабильность”». Начали нарастать ожидания «твердой руки», отрицательное отношение к Западу, особенно к США, а вместе с тем – укрепляться (не в последнюю очередь с помощью телевидения) риторика «особого пути», «возрождения великой державы», особых качеств «национального характера…». После середины 90-х «процесс делиберализации публичного поля и неотрадиционализации массового сознания (во многом под воздействием медиа) пошел все более активно. Недаром Горбачев, а затем и Ельцин стали для жителей России сугубо отрицательными фигурами. На горбачевское и ельцинское, еще совсем близкое время россияне перенесли теперь не только тяжелые годы экономических реформ и потерянных надежд, но и воспоминания о еще более давней нищете и дефиците, униженность и бесправие десятилетий советской жизни» (20, с. 102–103).
[Закрыть]. Перестройка, август 1991 г. для большинства населения стали символами «распада, утраты, катастрофы» (24, с. 19), знаком не «начала», а «конца» привычного существования. Эти символические события составили своего рода негативное основание нового (путинского – послесоветского) «порядка». Компенсацией негатива в режимной «легенде» послужила героическая, мемориальная советская история.
Сегодня демократические даты государственного календаря, как и «эмансипационная» версия истории (прежде всего советской), по существу, бойкотируются; большинство общества и власть отказывают им в каком-либо позитивном содержании. У «новой» России нет символического «начала», что не просто ставит под сомнение ее новизну. Тем самым как бы снимается (переводится в область несуществующего, ошибочного, подлежащего исправлению) конец Советского Союза. РФ коллективно воображается как нечто неокончательное, что позволяет полагать СССР чем-то возможным, восстановимым203203
СССР, в массовых представлениях, – это не экономика, культура, даже не общее прошлое. Это прежде всего и в основном пространство, география – «свой» мир, мощь которого измерялась километрами. В этом смысле показательно, что «большинство россиян не считают страны, образовавшиеся на территории бывшего СССР, в точном смысле слова «зарубежными». Вынужденная необходимость в отдельных случаях все-таки признавать этот факт… служит… лишь источником дополнительного раздражения» (23, с. 31). Исследователи отмечают также, что в историческом сознании и российской массы, и элиты не сложилось представления о странах и регионах Центральной, Восточной Европы (т.е. принадлежавших СССР или «соцлагерю») как о «самостоятельных социальных, политических, цивилизационных образованиях» (21, с. 14). На уровне ментальном это пространство остается «нашим», а значит, под историей СССР не подведена черта.
[Закрыть]. Пожалуй, это главная, общая для власти и подвластных иллюзия нынешнего порядка и потому – основа его легитимности. В неопределенности/«неокончательности» – не только препятствие на пути формирования новой гражданской идентичности, но и возможность маневра для режима, позволяющая ему выигрывать в любых обстоятельствах. Не будучи определен, он может быть авторитарным, оставаясь формально демократическим, опираться на разные идеи и социально-политические силы – либералов и патриотов, советчиков и антисоветчиков, западников и почвенников. Оставил же эти иллюзии и возможности «путинизму» в наследство демократический «ельцинизм» – и вовсе, как мне представляется, не по недостатку (или, напротив, избытку) политических воображения, воли и проч.
Режим 90-х был слишком занят собой (политическими конфликтами, войнами за собственность, борьбой за сохранение места в мировой политике, выборами и т.п.), чтобы заниматься страной. Главным для него было обустройство не демократии, а демократов. Характерно, что первый из них, Ельцин, был по преимуществу нацелен не на самоопределение России, а на определение собственной власти. И то, как он ее определил, указывало на перспективы российской демократии. Ельцин пошел привычным для русской власти «кратократическим» путем, который естественно привел его в Россию до– и антисоветскую. Историческое обоснование новой властной конструкции – лидер без партии, Политбюро, идеологии и проч. (т.е. верховная власть без традиционных советских ограничителей) – он нашел в самодержавии. Отсюда – возвращение церкви и дореволюционной символики властнодержавного величия, президентский церемониал, евроремонт Кремля, даже «двор» и «семья». «Негативный», стихийный демократизм Ельцина, т.е. антикоммунизм и бунтарство («природный анархизм» русского мужика), вполне укладывался в «легенду» постсоветского «самодержавия».
Выборы – та цена, которую Ельцин должен был заплатить современному миру за то, чтобы быть «самодержцем». И он эту цену платил сполна (самоубийственной была для него борьба за самодержавное президентство в 1996 г.). Его «самодержавие» – действительно выборное; Ельцин – царь от выборов, самодержец эпохи «прямой демократии». И именно с выборами оказалось связано растаскивание власти: чтобы победить, Ельцин вынужден был делиться ею, расплачиваться властью за власть. В конце концов выборы «съели» новорусское «самодержавие». Когда власти осталось так мало, что он и в своих (не только в народных) глазах выглядел больше самозванцем, чем самодержцем, Ельцин ее отдал. Утрата власти, а не только здоровье, заставили его пойти на отречение. Причем здесь он действовал как политик, имевший опыт и советской «подковерной» игры, и постсоветской публичности. Выбор же наследника – скорее, в самодержавной логике: Ельцин «поставил» того, кто был в силах «собрать» власть, восстановить «самодержавие» – пусть и нейтрализацией того самого политического выбора (принципа выборности), который был необходим для самоутверждения «ельцинизма» и всего постсоветского порядка.
Интересами удержания власти объяснялось и обращение ельцинского режима к войне. Хотя и здесь Ельцин вел себя как самодержец и демократ, публичный политик и советский бюрократ, жонглируя разными стратегиями. Социальный климат в ельцинской России определяли мировоззренческая и интеллектуальная свобода, плюрализм, дискуссионность. Впервые ни власть, ни общество не ограничивали исследовательский поиск. Это создавало совершенно новые условия и возможности изучения Отечественной, которые дали свои плоды. Благодаря краху идеологии (а вместе с ней и среди прочего – системы «военно-патриотического воспитания») война перестала быть средством «штамповки» лояльных граждан. Она (как и вся советская история) обратилась в зону «неизвестного», проблематичного; не поставляла ответы, а вызывала вопросы. Это делало ее трудноразрешимой образовательной задачей и привлекательным событием (постоянным информационным поводом) для масскульта. Но главное – в том, что в новой России отношение к Отечественной впервые стало не государственным, а частным делом. Для общества, воспитанного военным официозом, это имело революционное значение. Власть и здесь не мешала людям (в этом – мера ее новизны и демократичности). Однако когда ей понадобилась война, она (вполне по-советски) приступила к ее «присвоению» и политическому «использованию».
В ситуации острейшего кризиса легитимности, накануне сложнейших выборов (парламентских и президентских) ельцинская власть напомнила народу о событии, которое всегда давало необходимый психологический, культурный, идеологический эффект. 9 мая 1995 г. на Поклонной горе состоялся парад, на который Б. Ельцин пригласил западных лидеров – Б. Клинтона, Ф. Миттерана, Д. Мейджера, Г. Коля и др. Тем самым российские власти показали народу: весь мир признает, что СССР – (и наследующая ему) Россия сыграли решающую роль во Второй мировой войне; мы не забыты; если не страх, то уважение не потеряно. Праздник вновь получал государственное значение и звучание. Зацепившись за войну/Победу, «ельцинизм» стал наращивать легитимность. Через военный миф, по существу, начался возврат «новой России» к реабилитации и легитимации советского (символики, истории, системы ценностей) как своей основы. Так ельцинский режим, имевший несколько вариантов развития, встал на путь, который привел его к «путинизму». На этом пути и вовсе ничего, кроме победоносной Отечественной, у него не оставалось.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.