Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
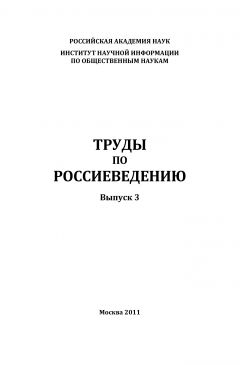
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
Обновление России на началах правового государства создаст в нашем отечестве условия политического существования, которые общи всем народам современной культуры.
Но это сродство государственных учреждений обновленной России с учреждениями опередивших нас в своем политическом развитии народов менее всего должно смущать нас. В самом деле, если государственная реформа, которая вызвана настоятельными нуждами русской действительности, даст России учреждения, аналогичные учреждениям Запада, то неужели они не будут хороши для русского народа только потому, что они хороши для других народов? То, что добро для других, неужели явится злом для нас?
Мы должны отойти от зла, хотя бы оно было и нашим, и сотворить благо, хотя бы оно было и чужим. Мы должны отойти от своего зла и сделать чуждое благо своим, родным благом.
Но мы сделаем чужое благо своим не потому, что оно чужое, а потому что оно – благо.
Евгений Васильевич Спекторский
(1875–1951)
Философ, правовед. В 1898 г. окончил юридический факультет Варшавского университета. Преподавал в Варшавском (1903–1913) и Киевском (св. Владимира) (1913–1917) университетах. Доктор государственного права (1917; Московский университет). В 1918–1919 гг. ректор Киевского университета. С 1920 г. в эмиграции. Профессор Белградского (1920–1924, 1927–1930) и Люблянского (1930–1944) университетов, Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке (1947–1951), председатель Русской академической группы в Чехословакии (1925–1927) и США (1948–1951). Труды Спекторского посвящены проблемам социальной философии, ее истории (прежде всего в эпоху античности и в XVI в.), исторической семантики ряда терминов и понятий социальных наук, методологии обществоведения, теории права и государства, истории русской культуры и внешней политики России в XIX – начале ХХ в. По своим политическим воззрениям Спекторский был убежденным сторонником конституционализма в его истинной форме, не соответствующего, как он считал, реальностям строя, утвердившегося в России после 1905 г., т.е. так называемому мнимому конституционализму. В 1917 г. им были изданы три брошюры популяризаторского характера, рассматривающие с присущей всем его работам методологической четкостью и концептуальностью анализа важнейшие проблемы времени: «Государство», «Учредительное собрание и Конституция», «Что такое Конституция».
В последней брошюре, представленной в этом издании, Спекторский писал: «И мы, подобно континентальным государствам Запада Европы, прошли через стадию лжеконституционализма. И теперь нам предстоит путь истинного конституционализма, когда государственная власть не на словах только, а на деле ограничена признанием за населением публичных прав или политической свободы».
Следуя установившемуся различению «писаных» и «неписаных» конституций, он подчеркивал, что «писаная» конституция, т.е. в конкретном случае та, которая будет принята в России «волею народа» Учредительным собранием, должна содержать в себе только «законы об организации публичных властей, а также законы о публичных правах населения, ограничивающих эти власти». Конституция, по словам Спекторского, «вообще не разрешает по существу ни одного общественного вопроса. Зато без нее нельзя разрешить ни одного вопроса».
Что такое конституция?233233И.Л. Беленький
Печатается по изд.: Спекторский Е.В. Что такое конституция? – М., 1917. – 16 с.
[Закрыть]
Е.В. Спекторский
Понятие конституции нуждается и в объяснении, и в оправдании. Объяснить его необходимо потому, что и друзья, и враги конституции часто понимают ее превратно. Оправдать необходимо потому, что многие, правильно понимая сущность конституции, относятся к ней равнодушно и даже враждебно.
Когда в 1825 г. декабристы впервые громко и смело заговорили о конституции и вышли вместе со столичными войсками на площадь с требованием ее, некоторые из солдат, поддерживавших их, на вопрос о том, что они собственно разумеют под конституцией, ответили: жену Константина (брата Александра I, отрекшегося после его смерти от престола в пользу другого брата, Николая I). Теперь многие, замечая, что республике обыкновенно противополагают конституционную монархию, думают, что где республика, там уже нет и не может быть конституции; и посему в призыве к конституции они видят призыв к монархии; отрекаясь от монархии, они отрекаются и от конституции. Здесь, очевидно, происходит недоразумение. Всякое культурное государство, республиканское или монархическое безразлично, должно быть государством конституционным; и если сторонники культурной монархии настаивают на ее конституционности, то этим они хотят подчеркнуть свое неодобрение монархии абсолютной или лжеконституционной. Но это, конечно, нисколько не значит, что где конституция, там непременно и монархия. Другое недоразумение вызывается тем, что одна из наших политических партий именуется конституционно-демократической (сокращенно к.-д., или «кадетской»). И вот многим кажется, что стоять за конституцию – это значит стоять за кадетскую партию; и наоборот, кто против кадетской партии, тот, значит, и против конституции. Но конституция нужна не одним только кадетам. И не они одни стоят за нее, как не они одни стоят за «народную свободу» (другое название или, так сказать, другая форма этой партии). Словом, и в данном случае происходит недоразумение.
Таковы примеры очевидного непонимания конституции. Равнодушие к ней проявляют те, которым кажется, как и двадцать три века тому назад древнему греческому государствоведу Аристотелю, что главным признаком той или иной политической формы является число правящих лиц. И сообразно с этим в поисках наиболее предпочтительной формы они различают монархию, аристократию и республику, иначе говоря, государства, где правят один или некоторые, или многие. Но такое деление было уместно лишь во время Аристотеля. В условиях же нашей современности было бы правильнее разбирать государства абсолютное, лжеконституционное и делать выбор именно среди этих форм. Однако сила традиции такова, что многие предпочитают различать государства с тем или иным числом правящих лиц, чем государства конституционные и неконституционные.
Кроме непонимающих конституции и равнодушных к ней, нет недостатка и в таких лицах и группах, которые правильно понимают, что такое конституция, и тем не менее относятся к ней враждебно. Это особенно часто встречается у нас в России. Во враждебном отношении к конституции сходились и сходятся люди самых различных и даже, казалось бы, противоположных убеждений. Прежде всего конституционное начало, т.е. признание необходимости прочного внешнего порядка государственной жизни, основанного на законе, встречает сильное противодействие в весьма свойственном славянской натуре отрицательном отношении к государству вообще, в ее склонности к анархии, т.е. безначалию. Недаром многие крупные вожди анархизма вышли именно из славянской среды. У одних, как у Бакунина, проповедь анархии носила бурный, революционный характер. У других, как у Хильчицкого в старой, бывшей когда-то самостоятельным государством Чехии, или как у Л.Н. Толстого в России, эта проповедь носила характер мирного непротивления злу. Но и в том и в другом случае конституционное государство не вызывало симпатии уже просто потому, что это все-таки государство. Особенно много приверженцев имела в России вторая разновидность славянского анархизма. Она основана на идеале личной святости, нравственного совершенства отдельной личности. Кто желает исполнить свой долг, как личный, так и общественный, тот должен прислушиваться только к внутреннему голосу своей собственной совести. Всякого же рода внешние предписания, исходящие от государственной власти, считаются насилием над личностью. И всякого рода культурные блага, которые могут доставить человеку эти предписания, рассматриваются как нечто суетное, греховное, не приближающее человека к царству Божию, которое внутри нас. Основываясь на таком убеждении, одни, как Толстой, совершенно отвергают какое бы то ни было государство, ибо всякое государство есть зло. Другие признают государство, но злое, основанное не на праве, а на силе и произволе, ибо в таком государстве больше поводов для подвигов личной святости; так, например К.Н. Леонтьев обращал внимание на то, что при турецком режиме бывали и святые, а при бельгийской конституции немыслимы даже угодники. Третьи мечтают о добром государстве. Но таким государством они считают не конституционное, основанное на внешней правде, на юридическом законе, на гарантиях взаимных прав и обязанностей как властвующих, так и подвластных, а патриархальное, основанное на взаимной любви и доверии, на внутренней правде. Так именно учили наши славянофилы. Так высказывался и Достоевский. Конституционное государство, о котором мечтали так называемые западники, бывшие отчасти предтечами нынешней кадетской партии, оказывалось с этой точки зрения ненужным для России порождением гнилого Запада: ведь в нем все основано на внешней правде, все нуждается в гарантиях, дело делается не за совесть, а за страх. И такой взгляд мог иметь большой успех вследствие слабого развития гражданственности и правосознания у русского общества. «Русский народ не государственный», – настойчиво твердил К.С. Аксаков. И, как иронически объяснял поэт Алмазов,
Широки натуры русские.
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
Такая проповедь политической маниловщины или даже нирваны, конечно, вела к полному пренебрежению конституционными идеями. Однако необходимо заметить, что и те течения, которые стали стремиться к деятельному влиянию на государство и его жизнь, делают это не через конституцию, а без нее и без потребности в ней. Так, когда появились у нас народовольцы, эти предшественники нынешних социалистов-революционеров, они выдвинули требование «земли и воли». Иными словами, воля, т.е. свобода, т.е. то именно, что и гарантируется конституцией, было оставлено на втором месте после земли. Аграрная, земельная задача вытеснила политическую задачу, превратила ее в нечто дополнительное, в какой-то придаток, не могущий притязать на самодовлеющее, тем более руководящее значение. Еще дальше пошли в этом отношении наши марксисты, или исторические материалисты, эти предшественники нынешних социал-демократов. Они усвоили учение Карла Маркса, согласно которому конституционные и всякие иные правовые и государственные идеи и установления не имеют ни решающего, ни вообще существенного значения, ибо главное в общественной жизни – это борьба экономических классов, преимущественно капиталистов и рабочих, за хозяйственные блага. В этой борьбе конституции и кодексы как бы сами собой, автоматически надстраиваются над экономическим фундаментом общества, отражая существующее в нем реальное соотношение сил. С точки зрения такого понимания вещей бесплодны все усилия юристов и политиков дать своей стране возможно лучшую конституцию или вообще какую бы то ни было искусственную конституцию: ведь у каждой страны и без этих усилий есть своя совершенно естественная конституция, иными словами, реальное соотношение общественных сил. Как объяснял другой немецкий социалист Лассаль в речи «О сущности конституции», сущность прусской конституции состоит вовсе не в статьях основных законов, составленных юристами, а во взаимодействии сил короля, опирающегося на армию, дворянства, владеющего поместьями, промышленников, купцов, но также и ремесленников и рабочих, поскольку они тоже представляют реальную силу.
Все эти рассуждения ошибочны в двояком отношении. Во-первых, они основаны на смешении права и факта. Одно дело правомерное соотношение сил, другое дело фактическое. Когда убийца или грабитель нападает на свою беззащитную жертву, получается вполне определенное реальное соотношение сил в данный, по крайней мере, момент. Но кто станет утверждать, что такое соотношение и есть единственно возможное право? Во-вторых, как бы ни была непримирима экономическая борьба классов, есть известные блага, предоставляемые конституцией, которые равно ценны для каждого человека, независимо от его принадлежности к тому или иному классу. И капиталисты, и рабочий, и горожанин, и крестьянин равно заинтересованы в том, чтобы не подвергаться произвольному аресту, иметь право свободно высказывать свои мнения, участвовать в управлении страной и т.п. Словом, конституция есть нечто такое, что, нисколько не устраняя классовой борьбы и отнюдь не обещая этого, равно необходима для всех, подобно просвещению и другим благам культуры. Тем не менее у нас очень распространено убеждение, что вне экономических классов и их борьбы нет и не может быть ничего в обществе, что сообразно с этим у каждого общества имеется и без юристов своя естественная, стихийная конституция и что стремление к искусственной конституции соответствует идеологии и интересам лишь господствующей в настоящее время буржуазии.
Конституционное начало встречает немало и других возражений и притом не только в реакционных, но также и в революционных кругах. Одни отвергают его во имя так называемой диктатуры – диктатуры рабочего класса, пролетариата и т.п. групп. При этом они упускают из виду, что диктатура – это ничем не ограниченная, самодержавная власть. И такая власть всегда может выродиться в произвол и даже деспотизм, совершенно независимо от того, принадлежит ли она одному лицу, например монарху, или же представителям класса, а то и целому классу. Власть всегда опьяняет тех, кто ею пользуется. И чем сильнее власть, тем больше опасность злоупотребления ею. Другие отвергают конституцию потому, что она рассчитана на мирное, органическое течение государственной жизни. Они же, мятежные, ищут бури. Они предпочитают течение критическое. Они – сторонники непрерывной («перманентной») революции. Но при этом они упускают из виду, что революция – это как бы лихорадка общественного тела. Временная лихорадка обновляет организм, постоянная же убивает его. А кроме того, после лихорадочного возбуждения обыкновенно наступает слабость, апатия, усталость. И вот нельзя рассчитывать на то, чтобы революционное возбуждение длилось годами и даже вечно. Люди не могут долго выдержать напряженного ожидания переворотов, когда завтра, завтра утром, а может быть, еще и сегодня вечером может наступить полное изменение всех общественных и политических отношений. Опыт истории слишком убедительно показывает, что за эпохами революционного подъема неизбежно следуют такие времена, когда общество устает, впадает в апатию, теряет веру не только в революции, но даже и в реформы. Тогда оно отказывается от сознательного переустройства своей жизни и предоставляет себя во власть или естественного, косного течения событий, или даже реакционных сил, которые обыкновенно в это время поднимают голову и торжествуют. И вот очень неосмотрительно поступают те, которые, пренебрегая этим обычным исходом революционных движений, тешат себя и других иллюзией вечной революции и не спешат использовать революционный кризис для того, чтобы закрепить фактическую свободу, превратить ее в правомерную и тем достойно подготовиться к борьбе с апатией и реакцией.
Таким образом, конституция необходима для всякого государства. Особенно она необходима для государства, переживающего революцию. Мало сбросить устаревшие формы политической жизни. Необходимо установить новые формы. Мало завоевать свободу. Необходимо ее обеспечить. И обеспечить ее надлежит не только силой, ибо сила может иссякнуть или столкнуться с большей и враждебной силой, а правом и законом. Какое же обеспечение делает данное государство конституционным? Иными словами, что такое конституционное государство?
Прежде всего это такое государство, в котором власть организована, имеет характер учреждения. Сообразно с этим известный и бесконечный спор о том, что предпочтительнее – учреждения или люди, конституция решает в пользу учреждений. Сообразно с этим же все те, кто убежден, что важнее всего настоящий человек на настоящем месте, склонны недостаточно ценить пользу конституции. Когда Наполеону I более или менее робко напоминали, что, кроме его личности и его воли, есть еще закон, конституция, наконец, трон, который он занимал, он совершенно выходил из себя: «Трон, – объяснял он в 1814 г. при приеме законодательной палаты, – это не более как четыре куска золоченого дерева, покрытого бархатом; настоящий трон – это я, с моей волей, с моим характером, с моей известностью; и я могу спасти Францию». Когда у нас Александр I хотел или, по крайней мере, делал вид, что хотел дать России конституцию, окружавшие его лица отговаривали его на том основании, что он сам – наилучшая конституция. Более правильно рассуждали те, которые, веря, по-видимому, в искренность его добрых намерений, обращали внимание на то, что он только счастливая случайность. Талантливые, творческие натуры – это дело случая. И, конечно, не конституции их создают. Зато конституции стремятся создать такие условия, чтобы общее дело не страдало и тогда, когда таких натур нет. А кроме того, они стремятся к тому, чтобы настоящие люди действительно очутились на настоящих местах, иными словами, чтобы политические дарования не пропадали в тени, а получали возможность выдвигаться и действовать.
Но этого еще мало. В государстве власть может быть уже организована. И тем не менее это еще не непременно конституционное государство. Для этого необходим еще один признак: власть должна быть ограничена. Неограниченная власть не может быть конституционной. Сообразно с этим никакое самодержавие, никакая диктатура недопустимы при конституционном строе. Сообразно с этим же, вступая на конституционный путь, власть обязательно должна поступиться многим, должна сама себя ограничить. Если монарх жалует («октроирует») стране конституцию, он отрекается от полноты своих державных прав и уступает часть их своим подданным. Если державный народ на учредительном собрании учреждает конституционное государство, он тоже отказывается от неограниченной власти и обязуется властвовать только согласно с правом, с основными законами – по крайней мере, впредь до правомерного пересмотра этих законов.
Однако не всякое ограничение власти есть вместе с тем и конституционное ограничение. Лица и учреждения, ограничивающие государственную власть, должны это делать по праву, иметь законное право и обязанность ограничивать. Иначе получится не право, а факт, факт более или менее случайного, временного и закулисного влияния на тех или иных носителей власти. Таковы всевозможные придворные влияния, имевшие место во всех монархических странах под тем или иным названием: в Испании – камарилья, во Франции – фаворитизм и антураж, в Англии – кабаль, у нас недавно – темные силы. Таково же давление на власть или просто уличной толпы, или же более или менее могущественных общественных групп (объединенного дворянства, промышленных синдикатов, сахарозаводчиков, духовенства и т.п.). Как бы ни были значительны все эти влияния, как бы они ни ограничивали фактически государственную власть, они не устанавливают конституционного ограничения этой власти, если они не действуют на основании права и закона.
Но и этого еще мало. Бывают случаи не фактического только, но и правомерного ограничения власти. И тем не менее при этом все еще нет конституционного государства. Так, например, в Древнем Египте власть фараонов была сильно ограничена жрецами. Жрецы контролировали их при жизни и судили после смерти, судили так строго, что иногда выбрасывали их тела из тех могил, которые они сооружали себе в течение всей своей жизни и которые именовались пирамидами. Это влияние жречества основывалось не на одном лишь факте, а на праве, на обычном праве страны. И тем не менее оно не делало Египет конституционной страной, как не делал и старой Испании такой страной стеснительный придворный этикет, чрезвычайно ограничивавший ее королей. Признаком конституционного государства является не всякое вообще правомерное ограничение власти в нем, а лишь такое, которое устанавливает публичную свободу или публичные права населения.
Мы различаем двоякую свободу людей – стихийную, или естественную, и правомерную, которая, в свою очередь, подразделяется на гражданскую, или частную, и публичную. Стихийная или естественная свобода состоит в ничем не ограниченном праве каждого и всех делать решительно все, что им заблагорассудится, не считаясь ни с интересами других лиц, ни с предписаниями нравственности, справедливости, права. Иным может показаться, что нет ничего лучше и желательнее именно такой свободы. Но если вдуматься в то, что должно произойти и действительно происходит, когда люди признают и проявляют только такую свободу, то мы легко поймем всю ее неудовлетворительность. Ведь тогда каждого можно упрекнуть: ты для себя лишь хочешь воли. У каждого человека окажется столько права, сколько свободы, и столько свободы, сколько силы. Тогда водворится грубое царство силы, не введенной ни в какие законные рамки. Тогда, как учили государствоведы еще XVII в., двести с лишним лет тому назад, должна установиться война всех против всех или волчье царство, когда люди, как голодные волки, набрасываются друг на друга. Вот почему ни в каком государстве не может существовать такая естественная, стихийная свобода. Она может водвориться лишь временно, в переходные революционные эпохи, когда старой власти уже нет, а новой еще нет, когда ослабевают и бездействуют предписания, сдерживающие человеческий эгоизм, и когда многие опьяняются непривычным молодым вином свободы. Там же, где существует какой бы то ни было общественный порядок, возможна уже не стихийная, безграничная, а правомерная, уже более или менее ограниченная свобода. Такая свобода делится – на гражданскую и политическую. Гражданская свобода означает право частных лиц устраивать свои частные имущественные или семейные дела, т.е. покупать, продавать, заключать всякого рода иные договоры, вступать в брак и т.п. Такая свобода признается и в неконституционных государствах. Зато политическая свобода встречается только в конституционном государстве. Такая свобода делится на отрицательную и положительную. Отрицательная политическая свобода – это, так сказать, свобода от государственной власти и ее воздействия, иными словами, право граждан свободно устраивать свою общественную жизнь и выражать свою общественную мысль и волю (путем слова, печати, собраний, союзов и т.п.). Положительная политическая свобода – это право граждан законно влиять на состав государственной власти и на ее деятельность, что осуществляется главным образом путем предоставления им избирательного права, активного и пассивного. И вот конституционным государством является такое, где власть не только организована, но еще и ограничена и притом не фактически только, а юридически или правомерно, ограничена же она не чем иным, как признанием за населением публичных прав, или политической свободы. Осуществляя эти права, население превращается из управляемых подданных в самоуправляющихся граждан.
Такому, конституционному, государству противопоставляются государства абсолютное и лжеконституционное. Абсолютное государство – это такое, в котором власть решительно ничем не ограничена. Сообразно с этим все, что ей заблагорассудится, все, что она прикажет, обязательно для населения. Абсолютизм возможен не только в наследственной и самодержавной монархии, но также и в государствах с демократическим источником власти: таковы случаи цезаризма (от римского Юлия Цезаря, которому следовали во Франции оба Наполеона, особенно третий), когда одно лицо, заручившись согласием и поддержкой народа путем более или менее демагогических приемов, начинает править самодержавно; таковы же случаи диктатуры пролетариата и вообще широких масс. Лжеконституционное государство – это государство, имеющее только видимость конституционных учреждений, в действительности же склоняющееся к абсолютизму. Через такую форму прошли континентальные государства Запада Европы. Через такую же форму прошли и мы. Тот строй, который установился у нас после 1905 г., был типично лжеконституционным строем. Это видно хотя бы из той характеристики, которую ему давал альманах Готы, этот адрес-календарь государств всего мира. Россия – это «конституционная монархия, под самодержавным царем»; это значит, иными словами, ограниченное государство с неограниченной властью. Лжеконституционный характер нашего недавнего строя хорошо определил и один из наших министров – Коковцов, когда на одном заседании Государственной думы он объявил: «У нас, слава Богу, нет парламента». Таким образом, и мы, подобно континентальным государствам Запада Европы, прошли через стадию лжеконституционализма. И теперь нам предстоит путь истинного конституционализма, когда государственная власть не на словах только, а на деле ограничена признанием за населением публичных прав или политической свободы.
Совокупность таких ограничений образует конституцию данной страны, не ту, о которой говорил Лассаль и которая представляет лишь фактический учет реальных сил страны, а ту, о которой учат юристы и для которой право выше факта. Конституции делятся на неписаные и писаные. Образцом страны с неписаной конституцией является Англия, в которой уже около семисот лет тому назад власть стала ограничиваться публичными правами граждан, причем многие ограничения вырабатывались и передавались из поколения в поколение путем предания, без записи и без издания соответственных законов. Странам континента Европы, особенно же России, в этом отношении менее посчастливилось, чем Англии: приходится искусственно устанавливать на будущее время то, чем она гордится как наследием седой старины. Писаные конституции не столько записывают уже сложившийся порядок ограничения государственной власти, сколько устанавливают такой порядок на будущее время. В этом и сила их, и слабость. Сила в том, что здесь открывается простор для политического творчества, для сознательного и планомерного государственного строительства. Слабость в том, что конституция может не войти в жизнь и остаться только на бумаге, как это было, например, с турецкой Конституцией 1876 г., или же оказаться очень непрочной: так, например, в первой половине XIX в. в течение 32 лет Мексике пришлось перепробовать целых 48 писаных конституций.
По способу происхождения писаные конституции делятся на пожалованные, или октроированные, и устанавливаемые волей народа. Конституция октроируется тогда, когда монарх, обладающий всей полнотой державной власти, сам себя ограничивает и уступает населению те или иные публичные права. За вычетом этих уступок вся полнота власти по-прежнему остается у монарха. Иной характер конституций, устанавливаемых волей народа (обыкновенно на учредительном собрании). Здесь вся полнота власти принадлежит народу. Ему принадлежит власть учреждающая. От него же происходят и власти учреждаемые.
По степени легкости изменения в будущем конституции делятся на твердые и гибкие. Твердые конституции – это такие, которые составляются раз навсегда и которые, сообразно с этим, или совсем не подлежат изменению, или же могут быть изменены с большим трудом, путем очень сложной процедуры, созыва специальных учредительных собраний или же обычных законодательных собраний, но с новым составом депутатов и с решением вопросов путем усиленного («квалифицированного») большинства и т.п. В основе каждой твердой конституции лежат две идеи. Во-первых, ее авторам кажется, что они и могут и должны все решительно предусмотреть и притом на вечные времена – подобно тому как в старину условия мира после войны обыкновенно тоже составлялись на вечные времена (что, однако, нисколько не предотвращало новых войн, начинавшихся нередко очень скоро после заключения мира). Во-вторых, авторы твердых конституций убеждены, что в политике, как и в математике или логике, есть вечные истины, вечно настоящие, обязательные для всех времен. И вот им кажется, что настоящая конституция каждой страны и должна быть такой вечно истинной конституцией. Так, например, в XVIII в. многие считали необходимой принадлежностью истинного устройства власти ее деление, согласно учению французского писателя Монтескье, на три самостоятельные власти – законодательную, исполнительную и судебную. В разделение властей верили до того, что, например, философ Кант истолковывал христианский догмат троичности Божества в смысле разделения небесных властей тоже на законодательную, исполнительную и судебную. Известная французская Декларация прав 1789 г. провозглашала, что государство, в котором не установлено разделение властей, не имеет конституции. Основываясь на этой вере, авторы Конституции Североамериканских штатов положили в ее основание начало разделения властей. Это начало действует в Америке и до сих пор, спустя сто тридцать лет, и является препятствием к принятию Америкой т.н. парламентаризма, т.е. зависимости исполнительной власти министров от законодательной власти палаты представителей.
Гибкие конституции построены на двух началах. Во-первых, на мысли о том, что не следует делать различия между учредительной и законодательной властью, между основными законами и обыкновенными. Такое различие еще уместно в странах с сильной монархической властью, позволяющей подданным участвовать в обычном, будничном законодательстве и сохраняющей за собой распоряжение основными законами в порядке пожалования. Но в странах демократических, где даже и при наличности королевской власти, как в Англии, законодательство в полном объеме принадлежит палатам народных представителей, о таком различии не может быть и речи. Там действует иное начало – верховенство законодательных палат и их всемогущество. Таково, например, всемогущество английского парламента, который, как говорят, не может сделать только одного – превратить мужчину в женщину и обратно. Все же остальное он может сделать, значит, также и изменить ту или иную часть английской конституции. Кроме того, авторы гибких конституций полагают, что в политике все относительно, нет ничего вечного и что сообразно с этим не следует связывать воли будущих поколений, господствовать над ними из могилы. Один из авторов французской Конституции 1793 г. Кондорсе, который, будучи сам крупным математиком, слишком хорошо понимал, как велика разница между математическими и политическими истинами, предлагал даже обязательно созывать новое учредительное собрание через каждые 20 лет, т.е. с появлением каждого нового поколения, которое могло бы сознательно пересмотреть и усовершенствовать работу предшествовавшего поколения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































