Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
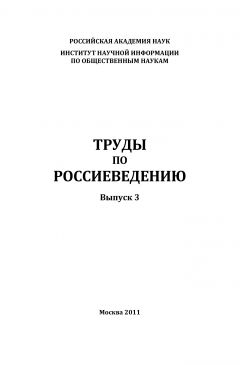
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Путинский режим сделал войну/Победу своим историческим фундаментом, единственной символической «площадкой» единения с народом. К середине 2000-х он преодолел демократическое наследие «лихих 90-х»204204
«Путинизм» рассматривается людьми как продолжение советского порядка, но в новых условиях. Изначально так и формировался массовый «настрой» на Путина, в этой проекции и выстраивался его образ. Поэтому люди с готовностью приняли символическую нейтрализацию ельцинских 1990-х как «антипорядка» (смуты), а также конструирование преемственности с идеализированным советским временем – декорирование «путинизма» под «улучшенный брежневизм». Одобрению не мешало даже то, что декорации были явно заемными: стратегии и технологии продвижения лидера соответствовали современным западным стандартам.
[Закрыть], перестройку–распад СССР объявил геополитической катастрофой, официально отказался от 7 ноября, учитывая, что не только революции, но и перемены/реформы по преимуществу отрицательно воспринимались россиянами205205
Здесь, правда, следует обратить внимание на одно существенное обстоятельство. Революционный миф, бывший установочным в 1920–1930-е годы, померк уже после войны, растратил свою энергетику. В новом же, посткоммунистическом, мире он попросту не работал. Это лучше всего свидетельствует: этот мир оказался послесоветским (культурно-генетическим продолжением хрущевско-брежневского), но «антиоктябрьским» – он противоречит социальным смыслам той революции. Фактически целью горбачевской перестройки было сохранение социализма при избавлении от «советизма» – мировоззренческой основы советской системы, заложенной Сталиным. Получилось ровно наоборот: все социальные достижения старого порядка ликвидированы, мировоззрение осталось. Если раньше его отчасти сдерживала и дисциплинировала гуманистическая социальная идея, то теперь его внутреннюю агрессию гасит только массовый потребительный гедонизм. Однако советский культ личности и постсоветский «культ наличности» суть проявления одного и того же мировоззренческого, ценностного «комплекса». Наш современный социальный «проект» есть закономерный результат эволюции власти и социального порядка, рожденных Октябрем (см. об этом: 48, с. 52–64). Они развивались так, что убивали лучшее в себе, подавляли те тенденции, которые позволили бы «советизму» мирно эволюционировать (сейчас очевидно, что выжить он мог, только соединив социал-демократическую идею с «космополитичной», глобализирующей практикой массового потребления). В постсоветских условиях прошлое «восстанавливается» в сфере образов, в мифологической форме. Так, чем более определенным становится нынешний режим, тем выше социальный спрос на Октябрь как миф о русской революции во имя справедливости и равенства.
[Закрыть]. Призванный заместить его День народного единства пока не «заработал» – смысл его населению не очень понятен. Хотя с точки зрения власти эта дата вполне адекватна: так «новые управленцы» (послереволюционная «когорта» «служилых людей») обозначили конец «смуты» 90-х и свой приход. По большому счету, режиму 2000-х оставалась для самоутверждения только война. Причем именно в сталинско-брежневской интерпретации: «по-брежневски» медиатизированная (сейчас, в эпоху массового информационного потребления, о войне не читают – ее смотрят206206
Современная массовая память о войне питается массмедийными (прежде всего телевизионными) образами. «Телевизуализация» памяти придает ей «искусственную сверх-правдивость» и в то же время обрекает на имитационность. Массовое сознание имеет дело не с историей, а с репрезентациями Отечественной в масскультуре; память о ней – продукт по существу одного и того же, неизменного с 1960–1970-х годов, видеоряда. Война для среднестатистического россиянина – лишь образ, телекартинка, сделанная в советское время или в 2000-е годы по одним и тем же лекалам (меняются только «формат», технологии, лица, а главное – «контекст»). При всей своей условности (особенно очевидной в российском кино) военные телеобразы вполне удовлетворяют нашего массового человека. Более того, именно условность его и привлекает; он ведь зритель, а не участник («уклонист» – всячески бежит от любых форм участия).
[Закрыть]), по-сталински препарированная.
Поначалу в версии войны, на которую сделал ставку «режим стабилизации» («ранний путинизм»), было больше от Брежнева, от духа той эпохи. И это не случайно. Народ нуждался в «застое»; власть и «путинские элиты» – в том, чтобы отсечь общество от участия (прежде всего политического), отвлечь от политики, наладить на этой основе позитивные связи с социальным большинством. Предпочтения одних совпали с интересами других. «Старые» телеобразы Отечественной (вообще, советский «ряд образов»), путинский победный церемониал, советизированный имидж послеельцинского президентства «возвращали» еще советских по существу людей в 1970-е – по-своему уютные и вольготные, сытые и самоуверенные. Настоящее воображалось как подобие брежневизма, пропущенного через механизмы ностальгии и идеализации. Как и тогда, «застой 2000-х» освящался и наполнялся смыслом через Победу. Новую жизнь получили не только старые образы Отечественной, но и прежние значения.
Власть, имитировавшая «застой по-советски» (и тем прикрывшая свою новизну/несоветскость), в отношении войны ожидания своих граждан не обманула. Она легитимировала их привычные, ставшие своего рода «здравым смыслом» воспоминания: война началась 22 июня 1941 г. и явилась для советского народа оборонительной и справедливой; народные героизм, страдания и жертвы искупило и вознаградило Чудо Победы (пожалуй, только в «возрождении» чудесной природы Победы и подключении к этому церкви состоит новизна нынешнего «проекта»); другой войны не было – СССР лишь защищался и только освобождал. «Путинская» Отечественная поначалу не просто была преемственна с брежневской официальной историей; она ее дословно повторяла207207
«Инкрустация этого образа относительно новыми элементами (символами великодержавности и православия, с одной стороны, приемами голливудской поэтики и пиротехники – с другой) не затрагивает принципиальных и достаточно устойчивых во времени моментов конструкции “ключевого события” и “истории” в целом, вместе с тем обеспечивая им узнаваемую для массовых читателей, зрителей, слушателей адаптацию к нынешнему дню» (18, с. 62–63).
[Закрыть].
При этом, однако, логика советского официоза оказалась доведена в ней до той степени завершенности, которая дается почти полным отсутствием знаний и окончательным торжеством исторической мифологии. Очищение образа войны от идеологии компенсировалось усилением мифологии. В военном официозе нашего времени сценарий мифа священной войны реализовался еще полнее, чем в советском. Мифологический «крен» вполне соответствует состоянию массового сознания, впавшего в магическо-химерическое «чудобесие» и агрессивно сопротивляющегося любой рационализации. Постсоветский человек «воображает» Отечественную по мифологическому сценарию (правда, в «варианте», представленном советским официозом); всё, что ему не соответствует, попросту отметается (по принципу: «этого не может быть»). Здесь работают инстинкт, «чувство», поэтому нет нужды в знании и понимании. «Путинская» Отечественная – это по преимуществу советский миф (его формула: «переработка» истории/деформация памяти в интересах режима, но с учетом особенностей народных психологии, ментальности, опыта); факты лишь служат его хронологической «привязкой»208208
Современные исследователи указывают, что в случае с Отечественной войной имеют дело «не с памятью, по крайней мере, все меньше с ней, а с более сложным смысловым образованием» (18, с. 53).
[Закрыть]. В современных воспоминаниях о событиях 1941–1945 гг. смешались образы всех русских военных побед; не случайно вокруг них выстраивается героический эпос «Великой России».
Такая «война» принесла в 2000-е ощутимую пользу и власти, и социальному большинству. Власть, сбросив «диссипативные» элементы, привела себя в порядок; народ расслабился после сверхнапряжения 90-х, укрепил веру в себя. «Старый» образ Отечественной стал основой сращивания путинского режима с массами209209
На рубеже 1990–2000-х годов постсоветский массовый человек по существу заключил своего рода коррупционную сделку с властью, распространявшуюся и на область истории. Смысл сделки очевиден: народ оставляет в руках власти такой ценнейший символический ресурс, как война/Победа, а она расширяет свои социальные обязательства. Получая двойную пользу от сделки (минимальные социальные гарантии и символическое основание гордиться собой), человек «популяции» (из «большинства») в то же время сохранил «фигу в кармане»: оставил «про запас» свою (пусть и «теневую») версию войны и, собственно, всей советской истории, где он – главная жертва. Это серьезная потенциальная угроза для «власти-историка»: народ в любой момент может заявить о своих правах на прошлое, срезав тем самым исторические основы властной легитимности. Не обсуждая моральной стороны этой сделки, замечу: тяга не к прямым и ответственным действиям, ведущим к наращиванию собственной субъектности, а к «теневым» сговорам, позволяющим человеку «большинства» сохранять свою объектно-безответственную социальную позицию, – одно из устойчивых качеств нашей массовой культуры, способствующих сохранению традиционного социального порядка.
[Закрыть]. Солидаризация вокруг советского исторического официоза стала демонстрацией их подобия. («Народ и партия» не «едины» – они подобны. В этом залог их согласия; здесь же основа конфликта.) Людям власти/режима никакие пересмотры «наших лучших воспоминаний» не нужны ровно по тем же причинам, что и социальному большинству. Но у властвующих есть и свои, вполне эгоистические причины «беречь курс» – это помогает им выживать. Их охранительная позиция – как правящего «класса», господствующего «слоя», консолидированного самим своим положением (вне социума и над ним), – совершенно прагматична, не отягощена моральными соображениями и в целом противоположна интересам тех, кто к этому «классу»/ слою» не принадлежит210210
Это вовсе не противоречит инстинктам, убеждениям, историческим предпочтениям представителей господствующего «сословия». В общем охранительном деле – ничего личного.
[Закрыть].
Все дело – в природе режима, окончательно определившегося в 2000-е. Он настроен на обслуживание эгоистических интересов господствующих групп; существо же этих интересов таково, что для их удовлетворения не нужен весь народ – лишь ограниченный (и очень узкий по общим меркам) социальный контингент. Для режима, выросшего из разложения советского и паразитирующего на этом разложении, главными и самыми опасными являются две темы: социального неравенства (прежде всего и в основном – в распределении/потреблении) и социальной несправедливости. Они доведены до такой степени остроты, так не соответствуют современному миру и препятствуют развитию, что грозят разрушить благополучие «сословия» управляющих и сверхпотребляющих.
Поэтому «путинский» режим, растрачивая иные смыслы и потенции, все больше сводится к одному – обеспечению безопасности: личной, кланово-групповой, общей («корпоративной»). И не случайно главные позиции заняли в нем люди из безопасности. Однако охранительных средств у него не так много – по преимуществу репрессивные и символические. Конечно, последние для режима предпочтительнее; «застой» гораздо надежнее террора гарантирует стабильность режимных доходов. С точки зрения интересов безопасности, Победа/война – самый выгодный для «элит» символический проект. Обслуживая связанные с ним социальные потребности, они обслуживают и себя, демонстрируя единство с народом в области памяти, ценностей, идентичностей, в самооценке – определении исторических результатов и национальных перспектив. Тем самым зарабатывают на легитимность, восполняют режимные дефициты, гасят риски/угрозы.
Конечно, мощный, принимающий в некоторые моменты истерические формы культ Победы вырос в 2000-е не из социальных предпочтений (хотя люди и поддержали его своими инстинктами, страхами, любовями и ненавистями). Опираясь на них и их используя, его вырастили новые политические и культурные «элиты». Они вкладывают в него средства, защищают от снятия табу, «десакрализующей» исторической критики. В этом – смысл создания в 2009 г. Комиссии при президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (после продления срока президентских полномочий это – главное дело Д.А. Медведева). Власть легитимировала борьбу против частных фальсификаций (иначе говоря, интерпретаций, толкований) истории, которые могут повредить интересам «режимной» России, в пользу государственной монополии на фальсификацию. Объектом монополии стал самый «прибыльный» для режима проект – Отечественная; именно здесь конкурентные риски требовалось снизить до минимума. Надо признать, «затейка» удалась: одни испугались, другие «построились», иные разнуздались, поняв, что ограничения в борьбе против инакомыслящих сняты.
Все, вроде бы, хорошо; все правильно. Но и здесь возникла проблема, тем более опасная, что, видимо, не осознается «управляющими» в этом качестве. Чем старше и определеннее становится режим, тем больше усилий ему требуется для сокрытия своей сущности и тем более масштабными и агрессивными должны становиться спецоперации «прикрытия». А это создает для режима совершенно новые угрозы, обещающие в перспективе его крах. Самосохраняющая режимная логика, доведенная до абсолюта, может выродиться в свою противоположность.
Одну из таких угроз несет в себе верховная власть, главный охранитель и персонификатор режима, резко (непропорционально по отношению к другим режимным «центрам») усилившаяся в 2000-е и получившая новые возможности для самореализации. Наша социальность исторически «сконструирована» таким образом, что ее единственной символической «сцепкой», если и не удерживающей от распада, то дающей ощущение общности, является лидер/верховный правитель/президент. Стратегии продвижения первого лица в 2000-е имели целью максимальное усиление этого ощущения. Показательно, что именно президент явился персонификатором культа Победы в Отечественной211211
Это, кстати говоря, вызвано спецификой современной российской ситуации – геополитическим вызовом, связанным с ужатием пространства и неспособностью «элит» на него ответить. Персонификацией культа Победы (и выращиванием на этой основе собственного культа) верховная власть «прикрывает», «ликвидирует» эту проблему. Вину за геополитическое поражение она переадресует бывшим персонификаторам, сама же выступает в победном ореоле Отечественной. Интересно, что в эпохи сокращения территории, которые массовым сознанием традиционно связываются с падением мощи и значения государства, выросли культы двух персонификаторов: Ленина, поднявшийся на революционной перестройке, социальной идее, и Путина, основанный на постимперском синдроме. Этим они особенны и важны. Один культ базируется на замещении имперской идеи революционным мессианством (иначе говоря, идеологией социального реванша «униженных и оскорбленных»), другой – на эксплуатации настроений имперского унижения и реваншистских надежд, что в сочетании с социальными проблемами является питательной почвой для национал-социализма (он, как известно, может выступать в разных национальных формах). Культ Ленина был обращен в будущее, поэтому обеспечивался социальными надеждами и ожиданиями (и, в свою очередь, их обеспечивал), а путинский – в прошлое, поэтому поддерживается «нужными» историческими образами.
[Закрыть]. Во многом под влиянием общественных симпатий, но и в соответствии с предпочтениями (психотипом) самого лица символическая модель президентства эволюционировала в последнее десятилетие от «царистской», страшно далекой от постсоветского народа, к «вождистской». Однако символическая схема «народ-вождь», традиционно строящаяся на отрицании посредствующих структур и лиц, способна работать не только в интересах режима, но и против него.
Совершенно не случайными представляются неявные, но вполне различимые «отсылки» персонификатора нынешнего режима к советскому образцу вождистско-народного симбиоза, символом торжества которого является у нас Отечественная, – к И. Сталину. Его вождизм остается образцовым для наших людей потому, что через него воплотился в жизнь милитарный идеал всеобщей службы и равенства в обязанностях/потреблении. Таким образом Сталин сделал свою власть неограниченной; в подчинении режима (и «режимных») идее службы – оправдание (легитимация) его самодержавия. И это уже – пример для современного вождя212212
Современный миф Сталина, который упорно навязывается «сверху», успешно «работает» в интересах традиционализации (советизации) постсоветских идентичности и легитимационного властного проекта. Хотя, если вспомнить о том, что исторический Сталин – это варварские методы эксплуатации своего народа («татаро-монгольское иго», но в ХХ в. и в оболочке социалистической утопии) и сведение элитарного взаимодействия к криминально-уголовным схемам, то возведение этого в идеал говорит о силе саморазрушительных механизмов, укорененных в нашей культуре. Но сталинизация Отечественной противоречит основным смыслам и внутренней логике как самой войны, так и национального мифа. Сталину не принадлежит монополия на Отечественную, как советский режим не является монополистом священной войны. У вождя народов – свое место в войне: не военного вождя и народного спасителя, а персонификатора организационно-управленческого начала, лидера режима, историческое время которого совпало с Отечественной. Попытки отвести этому персонажу центральное место в мифологии Священной войны только вредят ей: ее персонификатором не может быть лидер массового террора. Миф национальной культуры внутренне отрицает связь Отечественной с гражданской (в любых ее вариантах и проявлениях). Иначе говоря, у образов Донского и Грозного разные функции в культуре; их не слить в «один флакон». Тезис «Отечественная – это Сталин» столь же исторически и культурно не верен, сколь другой: правда советского режима в войне; по высшему счету и режим, и его персонификтор могут ею оправдаться. Когда речь идет об Отечественной (т.е. народной) войне, народ встает помимо режима и вместе с ним постольку, поскольку в данный исторический момент он оказался в его рамках. Не режим, а народное участие делает войну Отечественной; придавая режиму «ореол» и качество народного, она его не оправдывает. Советский порядок обрел подлинную легитимность в Отечественной. Но сталинский режим этому порядку не равен; его история – предмет отдельного разговора.
[Закрыть]. В ситуации повышенных рисков и наш верховный может отказаться от режима во имя себя, сохранения своей власти. Это потребует репрессивного укрощения эгоизма правящего «сословия» и создания своего «служилого» режима – «перебором людишек», сменой лиц «наверху». Что и будет означать конец режима нынешнего. Ограничитель для такого варианта социального противостояния (гражданской войны в «верхах») – в том, что рядом с «культом наличности» не может вырасти культ личности. Он требует для себя аскетичной власти, отрекшейся от «мирского» во имя метафизики державно-национального, «кратократического» величия. Современная власть не имеет ничего общего с традиционным идеалом; в этом – гарантия от ужасов русско-советского мобилизационного порядка. Но внутреннее несходство еще не гарантирует от ее движения в этом направлении и использования на этом пути символических инструментов. Здесь самоутверждающий, охранительный культ Победы способен играть, скорее, правокационно-разжигающую, чем стабилизационную, роль.
«Развитой путинизм», наступивший, как ни странно, в годы медведевского президентства, уже продемонстрировал, каким заражающе агрессивным может быть культ Победы. Он все больше приобретает самостоятельное, отдельное от Отечественной, современное значение, служа доказательством преимуществ России перед миром, подтверждением враждебности мира к России, провоцируя социальные страхи и внутреннюю агрессию, рост образов врага. То есть в конечном счете является реваншистским, символически компенсируя культурно-психологический ущерб от распада СССР, краха убежденности советских людей в конкурентоспособности советского проекта (т.е. в их конкурентоспособности).
В этом смысле официальная версия Отечественной войны рубежа «нулевых»/«десятых» – это уже не «застойный» брежневский официоз. «Путинская» война внутренне становится все более схожа со сталинской, а в чем-то и развивает этот старый образ. У Сталина ведь имелся ограничитель: Отечественная с ее антифашизмом, союзничеством и проч. была только вчера. Одно это не позволяло совершенно подчинить войну режимным (или вождистским) нуждам. Сейчас такого ограничителя нет ни у режима, ни у народа; история Отечественной забылась, зато у всех в памяти крах военной мощи и великодержавного величия. Это создает совершенно другой контекст для военного проекта.
В современных официальных «рассказах» об Отечественной речь все больше идет просто о войне (более того, о войнах – временах, в которых «мы» побеждали «всех») и о Великой Победе – залоге величия России. Такой символический проект ориентирует на единственную социальную перспективу: войну. Причем, парадоксальным образом, не на Отечественную. В современном мире она невозможна – это понятно всем (и властвующим, и подвластным). Кроме того, последним при всей их склонности к риторике восстановления державного величия («вставания России с колен») гораздо важнее то, что происходит внутри страны. А это так мало их удовлетворяет, что в социальных настроениях и социальной практике наряду с «застойным» безразличием все больше утверждается логика войны213213
Социологи отмечают устойчивость в нашей ментальной «карте» образа врага: «враги… сохраняют свою функциональную значимость и действенность… этот тип представлений входит в центральные символические механизмы конституции общества»; «разнообразные варианты этой “идеологемы” образуют важнейшие компоненты национальной самоидентичности» (12, с. 622, 636). «Враги» и их уничтожение – традиционное «место встречи» русской власти и русского народа. Практика последнего десятилетия показывает, что встречаться в этом месте мы еще не устали. Упорное, даже демонстративное нежелание расстаться с образом врага лучше всего свидетельствует, что ни власть/элиты, ни народ не извлекли положительного опыта из истории сталинизма. Испуг прошел – завороженность размахом и результативностью борьбы с «врагами народа» осталась.
[Закрыть]. Мы никак не можем внедрить в социальную практику диалоговые, компромиссные стратегии, обеспечить «мирное сосуществование» производства и потребления, масскультуры и высокого искусства, наследия и новейших жизненных форм и т.п. В современной России торжествует мышление в категориях «или/или», а это и есть основа милитарной («военно-гражданской») ментальности. В такой ситуации наши лучшие воспоминания могут сыграть провоцирующую роль.
Самый опасный социальный «ответ» на режим такого рода, который утвердился в России, – национал-социализм. У нас вполне возможен такой его вариант, в котором бунт русской этничности наложится на оскорбленное социальное чувство, жажду социальной справедливости. Иначе говоря, националистическая агрессия, скорее всего, примет в современной России (условно) социалистическую форму. В сползании страны к такому варианту решающую роль способна сыграть «химия» от слияния в массовом сознании двух исторических образов: гражданской, в которой проблема социальной справедливости решалась уничтожением «внутреннего врага», и Отечественной с ее торжеством над враждебными России, ее народу силами. Из такого соединения может родиться практика какого-то нового самоубийственного социального противостояния (в нем будет уничтожен тот сектор общества, который хочет жить иначе, чем социальное большинство, – в либеральном, демократическом, правовом порядке). Историческим символом такого противостояния и станет Сталин, «через» которого гражданская соединилась в нашей истории с Отечественной. Это, конечно, только предположение, но сам «вызов» Сталина, захваченность общества мифологией сталинизма свидетельствуют о его реалистичности.
В российском обществе сохраняется почва для гражданской войны, склонность к ней. За полстолетия мы так и не выработали механизмов нейтрализации этого потенциала. Ощущение исторического поражения, оставленное крахом старого порядка, и общественная потребность в Правде/справедливости, до крайности обостренная новым, – условия для его реализации. Культы Победы и социальных «завоеваний» советской эпохи в отсутствие достижений и понятных всем перспектив постсоветизма являются его катализаторами.
Большинство российских граждан, «реанимированное» «застоем» 2000-х, кажется, уже готово самовыражаться не только в потреблении. Теперь, в начале 2010-х, образы прошлого играют для него не только психотерапевтическую роль (своего рода «успокаивающего»), но действуют как символический возбудитель. Результаты такого возбуждения могут быть совершенно (и неожиданно) разными. Массы россиян могут «податься» к нынешней власти, став ее опорой в деле национал-социалистического «переформатирования» режима, или дать «добро» на приход «наверх» каких-то новых сил, больше соответствующих их нынешнему состоянию, в котором больше агрессивного, чем послушного. Не исключено, что согласятся даже одобрить очередную либерализацию, если она будет связана с очевидным ростом доходов и внятным планом развития. Россияне образца 2010-х способны на все, могут поддержать, кого угодно, и в этом смысле опасны – прежде всего для самих себя.
Логика же действий власти/режима в таких условиях вполне предсказуема: от «провоцировать и разжигать» (как это делается, скажем, в предвыборные периоды – особенно при неожиданном появлении рисков состязательности) до «охлаждать и осаживать», т.е. от активизации (и имитации) режима гражданской войны до полномасштабного развертывания стратегий сдерживания. (Интересно, что и через 60 лет после Сталина российский режим не изжил в себе готовности «жить с войны»: его питательной средой являются воспоминания об Отечественной, ему выгодно разжигание гражданской.) При благоприятной для режима мировой экономической конъюнктуре такая политика социального «эквилибра», с обязательным использованием символического оружия, может давать свои плоды целый ряд (и четыре, и восемь) лет. Но она настолько неустойчива и краткосрочна, не поддержана какими-либо долговременными (не PR, а социальными) ориентирами и стратегиями, что ее потенциал кажется ничтожным по сравнению с теми рисками/угрозами, которые она в себе несет. Порядок, ее практикующий (и уже не ограниченно, а тотально), не имеет перспектив; он обречен.
Недопущение опасных культов, осознание и предотвращение угроз, просвещение и гуманизация общества (в т.ч. посредством воспоминаний), формирование курса на развитие (через преодоление себя) – дело элит: управленческих, политических, культурных. В его эффективном выполнении – их социальное оправдание. У нас (во всяком случае в ХХ в. и сейчас) «элиты» заняты прямо противоположным: растят культы, провоцируют угрозы, консервируют застой/распад – во имя собственных выгод, в отрицание общих задач. Во всяком случае эта тенденция в советском и постсоветском порядках доминирует. Собственно, потому, что на ней эти порядки и строятся. Все, что против нее, – побочно, факультативно. Этим во многом объясняется вектор их движения – в «застой»/тупик.
Заимствование нынешним режимом символического инструментария прошлого (советского) порядка говорит о его качестве. Он не производитель/креативщик (хотя и выглядит таковым), а потребитель; ищет не социальных перспектив, а «корпоративных» выгод в ситуации распада. Консервировать «распадную» ситуацию – в его интересах. В этом смысле показательно, как путинский (т.е. постсоветский в широком смысле) режим оценивает свое начало: 1991 год – историческая неудача. Для «лечения» ее социальных последствий им и предложен населению культ Победы. Но обращаться к настоящему с позиций поражения/«пораженца» – значит, заранее настраивать, обрекать себя на неудачу и ее оправдывать. Тогда любая новизна/перемена обществу опасны – грозят проигрышем; перспектив нет – точнее, их горизонт ограничен прошлым. Правда, и здесь мало ясности – в чем наше будущее: в Отечественной или гражданской?
Символика и риторика «геополитической катастрофы» и Победы как единственного исторического достижения народа в ХХ в. суть политтехнологии режима, применение которых позволяет ему не определять перспектив (точнее, представлять демократическую перспективу опасной, недостижимой, изначально порочной – ведь она «строится» на поражении) и не самоопределяться. То есть жить настоящим – как живется, не обременяя себя существенными вопросами, самоанализом, самокритикой. Прошлое же использовать для «поддержки» и самооправдания. И здесь особое значение приобретают причины выбора режимом подходящего варианта этого прошлого. Сталинско-брежневскую войну выбрали не за ее «советскость» и даже не за заложенный в ней курс ценностей. Главное – нынешнему режиму подходит такой человеческий тип (та «модальная личность»), которого эти образы прошлого моделируют. Этот человек не мешает нынешнему режиму жить. Выбор режимом советского варианта войны – это выбор искушенного, цинично-прагматичного потребителя. И он себя оправдывает. Но применяемые режимом социальные стратегии (в т.ч. в сфере «управления прошлым») краткосрочны – именно потому, что бесперспективны.
Современный режим сам готовит себе альтернативу: такие «элитарные» или общественные силы, которые предложат стране перспективу, т.е. определенную точку зрения на ее настоящее и прошлое. Вариантов здесь немного. Наиболее вероятным для нынешней России кажется, повторю, националистический «проект». Но он уже был – человечество это уже проходило; опыт агрессивно-милитарного национализма, построенного на образе врага, осужден – и человечеством, и самим прошлым (чтобы это понять, достаточно сравнить до– и послевоенные виды Берлина и других немецких городов). Другой вариант – либерально-демократический. Его эффективность доказана – хотя и не нами; мы к этому «проекту» по-настоящему даже не приступали.
Характерно, что обществу эти варианты развития презентуются «через» прошлое; «проекты будущего» «выступают» с разными образами отечественной истории. Сейчас вопросы о том, какими были наши войны и миры, какими традициями нам руководствоваться, приобрели качество политических. Сегодняшние конфликты, дискуссии вокруг «памяти» – это политическая борьба за завтрашнюю «повестку дня». Выбор «военного проекта» может оказаться решающим в такой борьбе.
Список литературы
1. Аймермахер К., Бомсдорф Ф., Бордюгов Г. Предисловие // Мифы и мифология в современной России. – М.: АИРО-ХХ, 2000. – С. 10–11.
2. Алексеев В.П. Народная война // Отечественная война и русское общество: В 7 т. – Т. 4. – М.: Издание Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – С. 228–230.
3. Алпатов М.В. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII в. // Алпатов М.В. Всеобщая история искусств: В 3 т. – Т. 3. – М.: Искусство, 1955. – 428 с.
4. Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). – 2-е изд. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. – Т. 1: От прошлого к будущему. – 805 с.
5. Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных Сил. – М.: Госполитиздат, 1948. – 153 с.
6. Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 384 с.
7. Ворошилов К.Е. Сталин и Вооруженные Силы СССР. – М.: Госполитиздат, 1951. – 288 с.
8. Геллер М.Я., Некрич А.М. Утопия у власти. – М.: МИК, 2000. – 856 с.
9. Голдинский И.Е. Воспоминания старожила о войнах 1807–1912 гг. // 1812 год в воспоминаниях современников. – М.: Наука, 1995. – С. 170–177.
10. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М.: Богородский печатник, 1998. – 360 с.
11. Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 46–57.
12. Гудков Л. Идеологема «врага» // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997– 2002 годов. – М.: НЛО–ВЦИОМ-А, 2004. – С. 552–649.
13. Гудков Л. Победа в войне: К социологии одного национального символа // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. – М.: НЛО–ВЦИОМ-А, 2004. – С. 20–58.
14. Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. – М.: НЛО–ВЦИОМ-А, 2004. – С. 650– 686.
15. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. – М.: Аспект-пресс, 2001. – 389 с.
16. Добренко Е.А. Музей революции: Советское кино и сталинский исторический нарратив. – М.: НЛО, 2008. – 424 с.
17. Драгунский Д. Нация и война // Дружба народов. – М., 1992. – № 10. – С. 56–78.
18. Дубин Б.В. «Кровавая» война и «великая» Победа: О конструировании и передаче комплективных представлений в России 1980–2000-х годов // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 47–64.
19. Дубин Б. Всеобщая адаптация как тактика слабых // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 253–263.
20. Дубин Б. Две даты и еще одна // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 96–109.
21. Дубин Б. К вопросу о выборе пути: Элиты, масса, институты в России и Восточной Европе // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 6–23.
22. Дубин Б. Память, война, память о войне: Конструирование прошлого в социальной практике последних десятилетий // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 140–155.
23. Дубин Б. Россия и соседи: Проблемы взаимопонимания // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 23–46.
24. Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et Contra. – М., 2011. – № 5(53), сент.-окт. – С. 6–22.
25. Дубин Б. Симулятивная власть и церемониальная политика: О политической культуре современной России // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 233–253.
26. Дубин Б. Сталин и прочие фигуры высшей власти в конструкции «прошлого» современной России // Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий: Социологические очерки и разработки. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С. 332–383.
27. Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть. – СПб.: Алетейя, 2001. – 640 с.
28. Зоркая Н. Визуальные образы войны // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 377–387.
29. И.В. Сталин: Краткая биография. – 2-е изд. – М.: ОГИЗ, 1948. – 244 с.
30. Квашонкин А.В., Лившин А.Я. Послереволюционная Россия (Проблемы социально-политической истории 1917–1927 гг.). – М.: Изд-во «Университетский гуманитарный лицей», 2000. – 337 с.
31. Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России: Современная историография. – 2-е изд. – М.: РОССПЭН, 2009. – 328 с.
32. Ключевский В.О. Исторические портреты: Деятели исторической мысли. – М.: Правда, 1990. – 624 с.
33. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. – М.: Мысль, 1993. – Кн. 3. – 558, [1] с.
34. Клямкин И. Демилитаризация как историческая и культурная проблема // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 261–275.
35. Клямкин И.М. Постмилитаристское государство // Российское государство: Вчера, сегодня, завтра. – М., 2007. – С. 11–28.
36. Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов) // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 324– 336.
37. Кулиш В.М. Советская историография Великой Отечественной войны // Советская историография. – М.: РГГУ, 1996. – С. 274–311.
38. Левин М. Советский век. – М.: Европа, 2008. – 680 с.
39. Левинсон А. Война и земля как этические категории // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 104–107.
40. Левинсон А. Люди молодые за историю без травм // Неприкосновенный запас. – М., 2004. – № 36. – С. 61–64.
41. Ловушки демилитаризации: Обсуждение доклада И. Клямкина «Демилитаризация как историческая и культурная проблема» // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 275–306.
42. Малиновский Б. Миф в примитивной психологии. – М.: Рефл-бук, 1998. – 304 с.
43. Маслов Н.Н. «Краткий курс истории ВКП(б)»: энциклопедия и идеология сталинизма и постсталинизма: 1938–1988 гг. // Советская историография. – М.: РГГУ, 1996. – С. 240– 273.
44. Миллер А. Россия: Власть и история // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3/4(46), май-август. – С. 6–23.
45. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. – М.: РГГУ, Науч.-изд. центр «Наука для общества», 1995. – 220 с.
46. Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной России. – М.: АИРО-ХХ, 2000. – С. 17–38.
47. Память о войне в современных российских СМИ // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 353–368.
48. Пивоваров Ю.С. О русских революциях: Послесловие // Труды по россиеведению. – М.: ИНИОН РАН, 2009. – Вып. 1. – С. 21–67.
49. Пивоваров Ю.С. Русская история, 2010 // Труды по россиеведению. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – Вып. 2. – С. 31–108.
50. Прусс И. Советская история в исполнении современного подростка и его бабушки // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 116–122.
51. Пушкин А.С. Письмо П.Я.Чаадаеву // Пушкин: Письма последних лет, 1834–1837 / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – Л.: Наука, Ленинград. отд., 1969. – С. 153– 156.
52. Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. – М., 1905. – 250 с.
53. Розанов В. Последние листья (запись от 12 октября 1916 г.) // Розанов В. Собр. соч. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М.: Республика, 2000. – 380, [2] с.
54. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. – Кн. 7, т. 13. – 726 с.
55. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. лит-ры, 1942. – 51 с.
56. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – 5-е изд. – М.: Госполитиздат, 1953. – 207 с.
57. Сталин И.В. Речи на предвыборных собраниях Сталинского избирательного округа г. Москвы. – М.: Госполитиздат, 1954. – 24 с
58. Сухова О.А. Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX – начало ХХ в.) по материалам Среднего Поволжья. – М.: РОССПЭН, 2008. – 679 с.
59. Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. – М.: Наука, 1980. – 312 с.
60. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. – СПб.: Наука, 1994. – 220 с.
61. Толстой А.Н. Нас не одолеешь! // Толстой А.Н. Собр. соч. – В 10 т. – М., 1961. – Т. 10. – С. 491–493.
62. Топорков А.Л. Миф: Традиция и психология восприятия // Мифы и мифология в современной России. – М.: ФИРО–ХХ, 2000. – С. 39–66.
63. Хёслер И. Что значит «проработка прошлого»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. – № 2/3(40/41). – М., 2005. – С. 88–95.
64. Хорхордина Т.И. История и архивы. – М.: РГГУ, 1994. – 360 с.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































